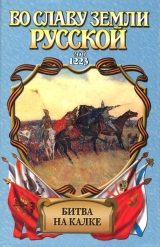
Текст книги "Битва на Калке. Пока летит стрела"
Автор книги: Александр Филимонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Глава 3
Ох и муторно было на душе у князя Ярослава Всеволодовича! А ещё и зуб, проклятый, коренной, тот, что слева, разболелся – ну совсем не ко времени. Сейчас бы позвать Лобана, воеводу своего и советника, да вместе с ним подумать, как жить дальше. А тут зуб. Болит, дёргает, да так, что не только в голове – в пятках отдаётся.
– Эй, там? – позвал Ярослав, улучив промежуток между двумя вспышками отемняющей зрение боли.
Зашуршало – и в покои, меж занавесями бархатными, просунулась угодливая мордочка мальчишки... как бишь его? А, ладно, и без прозвища хорош будет.
– Лобана мне позови, ты, чучело, – прохрипел Ярослав. – Да живо, живо!
Мальчишка исчез, занавесь колыхнулась и успокоилась, а боль зубная, будто только этого и ждала, полыхнула со всей безжалостной силой. У-у-у!
В круглом зеркале венецианской работы князь видел своё искажённое мукой и отвращением лицо. Вот поди ж ты – и силён, и знатен от Бога, и богат, казню и милую кого хочу, а страдаю от низкого недуга, каковым только смерды и должны маяться... Всю душу вымотало... Пополоскать, что ли? Лекаревой водицей. Полоскал уж, а что толку?
Не зря сказано: одна беда другую за собой тащит. Намедни узнал князь Ярослав – от гонца, надёжного человека – что родной тесть, князь Мстислав Мстиславич, идёт к Новгороду. А что это может означать? Известно что. Ярославу рассказали об этой напасти за ужином, он как раз жевал что-то, да как жевнёт этим ненадёжным зубом! Так натревожил, так натревожил! До сих пор не успокаивается.
Застучали шаги, и в покои громко вошёл Лобан, как всегда, щегольски одетый и готовый на всё. Он знал, как надо к князю подходить, – иной раз и неслышно, а теперь вот нарочно топал.
– Тут я, господин.
– Ммм-гу, – промычал Ярослав.
– Болит? – участливо спросил Лобан. – Так я грека позову? Он мигом.
Лекаря этого, грека, вчера Ярослав прогнал от себя с побоями и руганью. Разгневался на его лекарскую беспомощность. Что же ты за лекарь, если зуба не можешь у князя вылечить, а сразу дёргать хочешь? Пошёл вон! На самом деле Ярославу просто страшно было вообразить, как это в болящий рот полезут с этими огромными железными клещами, что грек держал в руке.
– Так позову? – настаивал Лобан. – Ты, княже, не сомневайся, он ловко зубы вытаскивает. Враз готово! А то что ж такие муки терпеть? А?
Ярослав сделал вид, что раздумывает, потом, дозволяя, махнул рукой и тотчас опять схватился за щёку. Пронзило.
– Давай! Давай грека! – заорал он. – Чего стоишь как пень? Мигом!
Лекарь, как оказалось, находился уже здесь, у входа в покои. Сладко улыбаясь, низко кланяясь, ласково пришёптывая, мелко семеня, приблизился. Мягкие, нежные пальцы коснулись Князева затылка, приглашая откинуть голову на высокую спинку стула. Сбоку тут же появился мальчишка давешний с чашею тёплой воды и белоснежным утиральником. Ярослав, чувствуя, как дрожат ноги и холодеет пузо, открыл рот пошире и закрыл глаза.
Странно: как только холод железа от клещей ощутился во рту, зуб вроде бы перестал болеть. Пока лекарь прилаживал своё орудие, Ярославу показалось, что он уже вылечился сам по себе. Захотелось даже велеть греку снова убираться, да поздно было. В голове будто что-то с хрустом провернулось, ярко-алая боль вспыхнула на миг. И – отступать начала толчками, покуда не пропала. Раскрыв глаза, князь тупо уставился на свой зуб, зажатый в лекарских клещах. Ишь какой! Бурый, словно пень, из земли вывернутый. И корни раскорячились. Однако не такой уж большой, как представлялся.
Полоща намученную ротовую полость тёплым травяным отваром, Ярослав постепенно отвыкал от страдания, удивляясь, как уверенно оно сменяется ощущением покоя и нежного тепла. Выплёвывая кровавую жидкость в подставленную мальчишкой чашу, он вдруг ясно и отчётливо подумал про себя: вот она, священная кровь Рюрикова!
Эта мысль сразу вернула его к действительности. Рассеянно выслушав лекарские наставления, он отпустил всех, кроме Лобана. Лишь проводил взглядом окровавленное полотенце. И вопросительно повернулся к советнику. Лобан, улыбаясь – князю полегчало! – всем телом изобразил, что готов слушать и выполнять.
– Что нового слышно? – спросил князь.
– Ещё из Новгорода посольство, княже. Просили до тебя, свет наш, допустить. Собаки новгородские, сучьи сыновья. Я велел их в цепи.
– Я не про то, – досадливо проговорил Ярослав. – Что мне купцы эти? Я тебя про князя Мстислава спрашиваю, про тестя моего? Хитришь со мной, Лобан?
– Ну что ты, князь, как можно? – Лобан смотрел, как честнейший из честнейших. – Да, идёт князь Мстислав к Новгороду, так и что? С ним не войско, а дружина малая, трёх сотен не будет. А зачем туда князь Мстислав идёт – то его воля. Город-то ему не чужой. И отец его там сидел, и похоронен там. И сам Мстислав Мстиславич правил Новгородом. Вот и идёт, могилу отца навестить, повидать кого. Дело семейное, христианское.
Тут Ярослав метнул в советника такой злобный взгляд, что Лобан осёкся.
– Ну, пойду я, что ли? – спросил он. – Дела там всякие... с купцами разобраться... А ты ляг, полежи, отдохни, господин. Чай, намучился, благодетель наш...
И, не дождавшись более от князя ни слова, задом выпятился из покоев.
Ярослав остался один.
То, что советник наговорил тут про Мстислава Мстиславича, могло быть правдой лишь отчасти. Да, всем известна была любовь Удалого (такое прозвище носил тесть и носил неспроста) к своевольному городу Новгороду. И отец Мстислава – князь Мстислав Ростиславич Храбрый – тоже любил город сей и много трудов положил для защиты его вольного процветания. Оба, и отец и сын, почитались гражданами новгородскими словно святители.
И вот сейчас, увидев милый сердцу город умирающим от голодной лютой смерти, Мстислав Удалой, несомненно, придёт в ярость. И возжелает помочь обиженным и покарать виновных – иного он и не может захотеть. А то, что в дружине у Мстислава Мстиславича всего три сотни бойцов, мало обнадёживает. Всей Руси, да и за её пределами, известно: нету витязя отважней и сильнее, чем князь Мстислав. И дружина ему под стать. Если Удалой на кого осерчает – плохо придётся тому человеку. Один конец у врагов Мстиславовых: проси пощады, если жив хочешь остаться.
В глубине души Ярослав понимал, что делает злое дело, удушая Новгород. Но от этого понимания вовсе не смягчался, а наоборот, делался всё упрямее и злее. Мало того. Всю свою жизнь понимал Ярослав, как вечный бунт своеволия, давно уже ничем не сдерживаемого – ни памятью великого отца, Всеволода Юрьевича, попечителя всех русских земель, князя благочестивого и усердного в служении Богу, ни общим мнением, которое уже успело нарисовать образ Ярослава, как врага и супостата, всякую честь и совесть забывшего и живущего одной лишь гордыней, ни приличиями, ни угрызениями совести не сдерживаемого. Часто бывает: вдруг мальчонка какой-нибудь начнёт тиранить своих товарищей-одногодков, пугая их силою своего старшего брата, упиваясь их страхом и своей безнаказанностью. Вот так же и Ярослав. Что бы он ни творил – никогда не забывал, какая у него за спиной поддержка. Братец родной, любящий, великий князь Суздальский Юрий Всеволодович, а с ним вся сила и мощь государственная.
Бывает же и так: на мальчонку того, похваляющегося старшим братцем, найдётся вдруг кто-то, кто не из пугливых. Вот и придётся маленькому засранцу умыться кровавыми соплями. И поделом. За чужой силой прячешься – ни добра себе, ни снисхождения не жди.
Плевал князь Мстислав Мстиславич Удалой на могучего князя Суздальского! Он и Всеволода-то не боялся, хотя и уважал. Вот Всеволод Юрьевич – тот, при всём своём могуществе, искал дружбы Удалого. Даже породниться с ним хотел. И породнился, хоть и после смерти уже, – выпросил у Мстислава Мстиславича дочку Елену в жёны третьему сыну своему, княжичу Ярославу. Князь Мстислав Удалой пообещал эту просьбу Всеволода Юрьевича выполнить – и сдержал слово.
Так уж получилось, что о жене Елене Ярослав старался поменьше думать, да и встречаться с нею в последнее время избегал. Не то, чтобы разонравилась она. А просто стал видеть в жене словно некий укор себе, да такой укор, против которого и возражений не находилось. Будто впрямь святая мученица тебя праведными очами жжёт! Не нравится ей, видишь, что муженёк такой до баб охочий, до пиров разгульных с шалостями и свинством непотребным! Ну и сиди в своей келье, молись о нас, грешных.
Когда, прогоняемый новгородцами, кипя от злобы, покидал Ярослав свой стольный город, забрал с собою в Торжок и Елену. Сейчас вот кажется: напрасно забрал. Пусть бы пеклась там о голодающих. Вот бы батюшка-то, Мстислав Мстиславич, обрадовался, придя в Новгород и в княжеском дворце обнаружив своё чадо.
Представив себе эту встречу, Ярослав аж со стула своего вскочил и принялся бегать туда-сюда, из угла в угол. Ведь и так, к примеру, бывает: расшалится мальчонка, набедокурит, себя не помня, – и вдруг очнётся, представив себе строгого отца с кожаным поясом в руке. Мрачные видения возникли перед князем Ярославом. Он как наяву увидел Мстислава Удалого, который вошёл в погубленный город и встретил там свою дочку, злодейски брошенную супругом-погубителем. Нет, дальше было думать обо всём этом страшно, невыносимо.
Расколотив в гневе венецианское зеркальце и отбив ногу о стул, отлетевший к оконцу, Ярослав ощутил, как страх быстро уступает место привычной обиде забалованного мамками подростка. Это что же я – уже и делать, чего мне хочется, не смею? Или я не князь?
– Лоба-ан! – заорал, распаляясь, подстёгивая свой благородный гнев. – Лобан! Ко мне!
Тихий дворец сразу ожил. Там, вне покоев, забегали, зашептались, что-то звонкое уронили на пол – покатилось. Ждать пришлось недолго. Видно, Лобан никуда из дворца не выходил. Да Ярослав и так знал, что не уйдёт, станет держаться неподалёку.
Вскочил, как и всегда, с готовностью в каждой чёрточке красивого наглого лица.
– Так, значит, – нараспев, сладко потягиваясь, произнёс Ярослав. – Готовь-ка мне послов этих. Я с ними поговорить желаю. Да пусть там сходят к девкам, скажут им, чтоб тоже собирались. Сюда их приведёшь. И песельников. Да на стол пусть накроют, гулять нынче буду. А то скушно что-то.
И, подождав отпускать советника, помолчал немного. Потом добавил подрагивающим от злорадства голосом:
– А когда тут... Ну, когда начнётся веселье – за княгиней сходишь лично. И приведёшь её сюда, а упираться станет – силой приволоки, я дозволяю... Пусть-ка княгинюшка с нами повеселится маленько.
На лице советника, ко всему привыкшего за время службы при князе, мелькнула тень озадаченности и едва ли не испуга. Такого ещё не бывало, чтоб княгиню Елену до безобразий допускать. Однако Лобан недолго сомневался, поклонился со всем почтением и вышел.
Немного погодя Ярослав отправился смотреть новгородское посольство.
Их было пять человек. Все пожилые, видно, – из уважаемых граждан. Бороды седые, лица бледные, глаза горят, а держатся с достоинством. Эти новгородцы всегда так: будто они сами себе господа. Маловато их нынче что-то приползло. Когда сел князь Ярослав в Торжке, да смекнули горожане, что дело неладно, – такие посольства начали присылать! Со стороны поглядишь, подумаешь: не иначе выезд княжеский! Удивить, наверное, хотели. А теперь вот – только пятеро, да и те худые какие-то, словно их из пустых кладей, вроде последышков, наскребли.
В излюбленной своей манере Ярослав грозно приблизился к коленопреклонённым старикам, встал перед ними как судия сверкающий, руку на рукоять меча харалужного, в ножнах изукрашенных, положил и пошёл, пошёл буравить взглядом, одного, другого, третьего. И – ни звука, ни слова. А пусть их трепещут.
Однако они, кажется, не шибко трепетали. Видно, голод да долгие зрелища мучений народных заставили послов умами тронуться. Да понимают ли они, перед кем стоят? Осознают ли, что я над ихними жизнями полный хозяин, подумал Ярослав. Захочу – накормлю Новгород, захочу – выморю и сожгу. Придумывая слова, покаверзней да пообиднее, он осторожно дотронулся кончиком языка до того места, где ещё утром крепко сидел мучительный зуб. Однако нужные слова для послов пока не придумывались.
– Ну, что ж не просите? – не выдержав, нарушил князь обоюдное молчание.
– Как не просим, князь-батюшка, – сразу отозвался тот, кто по виду был старшим. – Есть у нас просьба к тебе. Но не одна просьба. Ещё мы и вести хорошие тебе принесли. Нынче к нам гонцов-то не присылают, так сорока на хвосте принесла.
– Откуда у вас, у смердов, вести хорошие для меня могут быть? – презрительно сощурился Ярослав. – Разве скажете, что вы все там передохли?
– Ан нет, князь-батюшка, пока не все, много нас ещё, дураков, живо твоими заботами да молитвами. А радость у нас для тебя вот какая: тестюшка твой, князь наш бывший, Мстислав Мстиславич, к нам в гости собрался. Скоро его ожидаем. Тебя вот пришли обрадовать. Ради такого дела, батюшка князь, не отпустишь ли купцов наших в город, с обозами? А то придёт Мстислав, а нам его и угостить нечем будет...
Не дослушав, Ярослав с невольно вырвавшимся криком ударил старика сапогом в лицо. Тот так и повалился навзничь, увлекая с собою остальных, потому что все пятеро были связаны одной верёвкой. Хотел бить ещё, зарубить мечом даже, вытащил его из ножен наполовину. У подручников, стоявших по обе стороны от князя, лица оживились. Однако Ярослав не стал вынимать меча. Этот старый дурак будто колдовского туману какого-то напустил своим разговором. Так и кажется, что сам Мстислав Мстиславич где-то тут, рядом, неподалёку, и наблюдает за зятем. И щека у него этак подёргивается, как всегда, от гнева, с трудом сдерживаемого. Не решился князь Ярослав добить посольских новгородцев. Плюнул в них только, повернулся и зашагал прочь.
Не дойдя до крыльца, остановился.
– Эй, кто тут? Ефим? Подойди-ка.
Ефим, грузный мужик, начальник первой сотни Князевой, подбежал. На лице – всё то же ожидание расправы над безоружными. Думает, видно, что князь сейчас велит новгородцев кончать, вот только ещё не решил – как: либо порубить тут же, либо голыми на мороз выставить, а то удавить в подвале тёмном по-тихому, и концы в воду. Удавить – много приличнее будет. И без лишней огласки.
– Вот, что я тебе, Ефимка, прикажу, – вполголоса произнёс Ярослав. – Ты пойди-ка, пройдись по нашим подвалам да с послами этими, что у нас на цепи сидят, потолкуй. Их у нас сколько будет?
– Так ведь... – задумался Ефим, – сотен пять с лишком али более. А о чём толковать, княже?
– А вот о чём. – Ярослав по-прежнему не повышал голоса. – Ты выбери из них сотни две, кого покрепче, да и объяви им мою волю. Я, мол, им и жизнь подарю, и всё нажитое верну каждому. Пусть только идут в Новгород да ждут там князя Мстислава. Чтоб в город его не пустить. А если он уже там, то выгнали б. Прогонят его весь Новгород прощу и снова на их стол сяду. Сможешь им, холопам немытым, растолковать?
– Смогу, – озадаченно пробормотал Ефим.
– Ступай.
Эх, как ладно я придумал, развеселился Ярослав, подходя к покоям, где уже, судя по звукам женских голосов и позвякиванию посуды, всё было готово для основательного разгульного пира. Это дурачье новгородское ради того, чтоб я пути открыл да вернул им отнятое, землю зубами грызть будут! И тестя моего Мстислава с его дружиной погонят от Новгорода как зайцев! То-то я супругу повеселю. Расскажу ей, как батюшку её мужики новгородские на кольях из города выносили! Аж скривится вся, постылая.
В совершенном удовольствии он вошёл в покои.
Всё было приготовлено, как любил Ярослав. Его стул был нарочно водружён на подставленные, укрытые коврами плахи (для того и предназначенные), чтоб князь над всеми возвышался, пируя и следя за пиром. Справа к княжескому месту вели ступеньки, по которым к нему, по его желанию, могли подниматься наложницы и сотрапезники. Ложе княжеское, в дальнем конце покоев, было занавешено наподобие шатра, чтобы князь мог там уединиться с полюбившейся девкой. Стол для пира был накрыт по обыкновению щедро. Ну и девки с бабами, разумеется, стояли рядком у стены, наготове, ждали хозяйского знака. Лобан здесь же прохаживался, оглядывал наложниц как кобыл – нет ли в какой изъяна, который мог князя огорчить? Хорошо! Уж сколько Ярослав баб да девок этих перепробовал, пора бы, казалось, насытиться – а всё равно каждый раз при виде женского существа, да ещё красивого и соблазнительного, некая непреодолимая жадность в груди появлялась, и всё прочее играть начинало, как у справного жеребца.
Этот пир, однако, будет не совсем таким, как те, что прежде бывали. Сама княгиня Елена свет Мстиславовна нынче нас почтит, не побрезгует с нами за стол сесть. Надо бы удивить супружницу, чтоб ахнула.
Ярослав с нарастающим возбуждением посмотрел на девок. Полюбовался. Молодец, Лобан, угодил – все только что из бани, розовые, мягкие. Стоят, глаза потупили, будто сроду греха не знали, притворщицы бесстыдные, окаянные.
– А ну, девки! – провозгласил князь, усаживаясь на возвышенное сидение своё. – Ну-ка вы меня порадуйте, своего господина! Скидавайте с себя всё! Да живо, живо! Лобан! Которая упрямиться станет – шкуру содрать плетьми!
Ни одна упрямиться не стала. Переглянулись только и разом схватились за подолы, потянули вверх, снимая платья через голову. Вот на это любил смотреть Ярослав! Поднимается ткань, обнажая то, что, может, кроме князя, и видеть-то никому не положено: сначала ноги, ух, ляжки белые, сахарные, потом самый срам, словно от стыда курчавым пухом прикрытый, а там – живот трепещущий, с пупком, ну и наконец груди выпрастываются, пышные, желанные, с алыми сосками, что так и просятся в рот. Ладно, потом.
– Садись за стол, девки! – велел Ярослав. – Ешь, пей, веселись! Лобан, пойди скажи песельникам, пусть начинают.
И, поймав, подобострастный взгляд советника, подмигнул: давай, иди, тащи сюда княгиню Елену!
Глава 4
День за днём проходили, как в тяжёлом сне. Медленно двигался Иван вслед за уходящим солнцем, порой забывая, куда он идёт и зачем. Сначала хуже голода мучило сознание того, что всё дальше и дальше остаются родные места, которые он решился покинуть. В лесу не было страшно, даже когда видел он волков; звери не обращали на Ивана почти никакого внимания. Этой зимой не голодно им было. Много живности бродило по лесам: и лосей видел Иван, и кабаньи стада, и буйволов, которые, заметив человека, не убегали, а уходили медленно и с достоинством. А ещё трупы людские повсюду – ешь не хочу. Вот зверье и ело досыта.
Это повезло, что Иван дорогу нашёл – хоть она и выглядела заброшенной, неезженной, а всё же идти пришлось не по глубоким лесным сугробам, сквозь кусты да бурелом продираясь. И не так страшно и безнадёжно, если по дороге. Всё думаешь, что она куда-нибудь да выведет.
Не ему одному повезло эту дорогу отыскать. Только те, что прежде Ивана тут проходили, от голодной смерти убегая, так и остались здесь лежать припасом для дикого зверя. То тут, то там Ивану попадались останки: снег разрытый, волчьими следами утоптанный, да кости, глоданные вперемешку с обрывками одежды.
Может, и он сам бы так давно лежал, если бы возле одного такого растерзанного тела не попалась ему торба, почти незаметная под снегом. Владелец торбы валялся костьми вразброс, а вот пожитки его волкам не понадобились. Высвободив находку из-под снега, Иван обнаружил в ней кожаный свёрточек с тремя гривнами серебряными целыми да от четвёртой обрубок в треть веса, мешочек холщовый с зеленоватыми сухарями из плохого, с примесью лебеды толчёной, хлеба. А всё же – хлеб! И – на самом дне торбы – связочку рыбы вяленой, мелкой. Рыба эта была, конечно, из Волхова. Видать, хозяин торбы был человеком запасливым и бывалым: прежде чем покинуть голодный Новгород, как следует приготовился к дальней и трудной дороге. Вон, даже рыбы ухитрился наловить да навялить. А ведь людям Ярославовым строго-настрого приказано людишек новгородских к реке не подпускать, от прорубей отгонять, хотя бы и стрелами. Э, да он не только еду для Ивана здесь оставил, он и имя своё догадался сообщить! На заскорузлой, твёрдой коже торбы всё ещё отчётливо просматривалась надпись, выцарапанная чем-то острым: Горяин плотник. Да, основательный, видно, был человек.
Не помогли ему ни бывалость, ни запасливость. Остервенело грызя найденный сухарь, Иван понял, что находка позволит ему идти дальше. Неспроста, наверное, набрёл он на этого человека. Находка эта словно велит ему продолжать путь. Поглядев на найденные гривны, он вдруг подумал, что серебро это примерно равно остатку долга, который ему не нужно больше отрабатывать. Ой, неспроста это! Словно саму судьбу в руке держишь, прикидывая её убедительную тяжесть.
– Спасибо тебе, Горяин плотник, – на всякий случай поблагодарил Иван разбросанные кости. – Похоронить не могу тебя, не обессудь. Сил у меня нету. А коли до храма Божьего доберусь, так помолюсь за тебя. Сколь жить буду, не забуду за доброту твою.
Иван пошёл дальше. Ночами идти он опасался, останавливался на долгий ночлег, выбирая место, где валежника да сухих дров побольше, разводил костёр. Взятым с собой в дорогу ножом, когда-то принадлежавшим Малафею, нарезал елового пушистого лапника, стелил себе мягкое ложе. Иногда попадалось Ивану чужое лежбище – тот, кто соорудил его, давно ушёл вперёд, а теперь Иван пользовался. Еду, найденную у Горяина плотника, берег, тратил помаленьку. За последнее время научился растягивать.
А потом и лес, пусть и скудную, но давал пищу. Множество еловых шишек, клестами на землю оброненных, попадалось Ивану. Он ни одной стоящей не оставлял. Ел на ходу, скоро научившись не хуже птицы-клеста вылущивать зубами из-под чешуек мелкие, но такие вкусные зёрнышки; от них, этих зёрнышек, весь день во рту стоял сытный мучнистый привкус.
Тоска вот по Новгороду одолевала. Не раз, впадая в отчаяние, Иван порывался махнуть рукой и вернуться назад. Но отчего-то не поворачивал. Ему казалось, что путь, оставленный позади, так длинен, что и половины не одолеть, хоть целый год иди.
Однажды заснеженная дорога привела Ивана к небольшой речушке и упёрлась в неё. Там, на той стороне речки, дорога снова выныривала и уходила в лес. Даже мостика тут не было: летом, наверное, мелко, брод.
Зима уже, как знал Иван, шла на убыль. И морозов сильных не было, и ветер почти не дул. Кое-где в речном льду виднелись промоины, и пара от воды над ними почти не было. Иван долго стоял, потрясённый тем, что видит. Много дней для него единственным зрелищем был сплошной лес без единого просвета по обеим сторонам дороги. А тут – прямо даль сверкающая перед глазами распахнулась. Речушка невелика, а всё же показала Ивану свой чистый простор. Сразу полегчало на душе. Видно, лес перестал давить на неё, угнетая своей неумолимой мрачностью. И дышалось тут легче.
И Иван решил, что теперь пойдёт прямо вниз по этой реке. От мысли, что опять придётся углубляться в лесную чащу на том берегу, становилось муторно. Лучше уж здесь идти. А если придётся помирать – так оно и лучше. Весна скоро, с полой водой унесёт мёртвого далеко-далеко отсюда, к морю, к невиданным странам. Может, там, куда все реки стекаются, и есть то место, куда и души умерших прилетают? Тогда и вовсе хорошо.
По этой речке, осторожно обходя полыньи и чутко прислушиваясь – не потрескивает ли ледок под ногами, Иван шёл ещё три дня. За это время как-то нечаянно подъел все свои припасы: и шишки, сколько смог с собою унести, вылущил, и последние сухарики догрыз, и последнюю плотвицу вяленую сжевал всю с чешуёй и косточками. Здесь, на льду, ещё и то было удачно, что от жажды можно спасаться не снегом, посасывая его холодные катышки (а они почти и не утоляли жажду, а лишь разжигали), а черпая из промоин живую воду реки. Иной раз можно было разглядеть на близком дне стайку суетливых пескарей, а то и окуня полосатого, а то и щучью узкую морду с внимательным круглым глазом, уставившимся на диво невиданное – человека на льду. У Ивана не возникало желания попытаться поймать рыбу, он знал, что не получится, нечем, да и вообще смотрел на подводную живность, как, может быть, на последнее живое, что довелось ему встретить перед собственным концом.
В последний раз, поднявшись от полыньи, он посмотрел вперёд и заметил, что его речка скоро впадёт в большую реку – там простор виднелся широкий, и лес по обоим берегам речушки вроде кончался, а другой едва различимо синел вдали, за большой рекой.
Эта река показалась Ивану последним неодолимым препятствием на его пути. Он был теперь совсем слаб и редко задумывался о том, куда и зачем идёт. Но сейчас мелькнуло: он так никуда и не добрался! Выходить на широкий лёд и двигаться по нему, словно полудохлый муравей по чистой белоснежной скатерти, – это было даже страшнее, чем блуждать в густом лесу.
– Вот и конец пришёл, – произнёс Иван и удивился, как просто прозвучали его, может быть, последние в жизни слова.
С малой речушкой жаль было расставаться: успел к ней привыкнуть, был ей даже благодарен. К тому же она, малая, виделась Ивану как живое, соразмерное с ним, существо. Но в то же время тянуло туда, к большой реке, нельзя же было не подойти к ней и не посмотреть, что там делается. Тем более, что недалеко.
Немного погодя он приблизился к устью, краем берегового льда, сторонясь последней полыньи, прошёл немного, обогнул поросший густым кустарником мысок и вышел, ковыляя, на просторный лёд, словно в чистое поле. Нет, это была не река, а широкий залив какого-то озера либо моря. Иван, будто что-то предчувствуя, стал оглядываться, ища хоть каких-нибудь признаков человеческой жизни.
И сразу увидел людей.
У дальнего берега двое – отсюда совсем маленькие – что-то делали на льду. Возле них стояла коняга, запряжённая в длинную волокушу. Рыбаки, догадался Иван.
Он пошёл к ним навстречу, не думая ни о чём, кроме одного: скорей бы добраться.
Рыбаки, а это и впрямь были два рыбака, заметили Ивана, когда он уже дошёл до середины залива. Побросав на лёд сети, из которых они выпутывали поймавшуюся рыбу, они оба стояли в напряжённом ожидании, испуганно смотря на непонятного человека. А то и за зверя лесного приняли – уж очень Иван был страшен видом после стольких дней мытарств: опухший от водянки, ноги еле передвигающий, почерневший от многих ночёвок возле костра и вдобавок что-то пытающийся кричать встреченным людям. Один хрип, похожий на долгий кашель, вырывался из Иванова рта. Коняга, так же разглядывавшая незнакомое существо, ответила ему тихим ржанием.
Наконец один из рыбаков поднял со льда палку, предостерегающе помахал ею и произнёс несколько резких слов, по которым можно было понять, что он задал Ивану вопрос. Перед тем как обессиленно рухнуть на лёд, Иван ещё успел догадаться, что вопрос этот был задан ему на чужом языке. Не по-русски.








