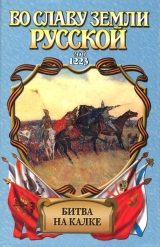
Текст книги "Битва на Калке. Пока летит стрела"
Автор книги: Александр Филимонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
Глава 14
В закупах у покойного Малафея Иван, помнится, чувствовал себя, хоть и подневольным, но своим человеком; да и жил отдельно, и работал по хозяйскому приказу, и за стол с хозяином садиться не имел возможности, а всё же был кем-то вроде дальнего родственника в большом семействе. И в душу ему никто не лез, и достоинства без нужды не унижал. За оплошность Малафей ругал, и от работников его Ивану доставалось, если что не так сделает. Ну, молодых да неумелых этак-то везде учат, хоть ты обельный, хоть вольный. Растяпу или нерадивого высечь – это же святое дело! На такое и обижаться не принято.
Потом, попав в глухую чухонскую деревню, отлёживаясь в углу на вонючем сене, Иван понимал так: он для чухонцев – нечто вроде зверька, отловленного в лесу и оставленного наполовину из жалости, наполовину из расчёта, что в дальнейшем зверёк может пригодиться на продажу. С Иваном никто и не разговаривал из чухны, и почти не замечали его присутствия. Разве что когда он с помощью старика устроил кузню и показал лесным людям небольшое своё умение, то смог их удивить. Но так, как люди обычно удивляются, видя умение медвежонка плясать на задних лапах, передними держа бубен и кланяясь в ответ на угощение.
Немцы же купили Ивана, как покупают телёнка или поросёнка, и с этого дня он был без расспросов и объяснений превращён в полезное домашнее животное. И обращались с ним как с домашним животным, которое не достойно того, чтобы чувства к нему проявлять. Девки чухонские, те хотя бы смеялись меж собой над ним, голым. Здесь же у Ивана было такое ощущение, что ходи он хоть вообще без одежды – на это никто внимания не обратит. И именно это сознание себя как бы не человеком – было самым удручающим.
Вообще здесь, в Оденпе, над Иваном, как он узнал, было множество хозяев. Самый главный – звали его Фолькин, а может, Волькин – был начальником над всеми немцами, главным в крепости, мастером ордена Ливонского. Ему подчинялся главный немецкий военный – барон Дитрих, который вместе со своими рыцарями держал власть над всем этим краем. Этот барон Дитрих, как впоследствии узнал Иван, и был тот рыцарь, встретившийся ему с чухонцами при въезде в город. Хер Готфрид, заплативший за Ивана, управлял большим хозяйством при немецкой крепости и всем войске и подчинялся и Дитриху, и всеми потрохами – Волькину. Для Ивана хер Готфрид был птицей высокого полёта, потому что, управляя хозяйством, повелевал десятком помощников, тоже немцев, каждый из которых был ответственным за свою часть. Железным, златокузнечным и оружейным промыслами ведал уже хер Гунтер – вот этот уже был к Ивану поближе. А самым непосредственным начальником, распорядителем над жизнью Ивана был Адольф, мастер железного дела, которого тоже полагалось называть «хер»; если он тебе что-то велит: «явольхер». Впрочем, Адольф почти никогда ничего Ивану не приказывал, это делали его подмастерья Ян и Михель. И все эти немцы, кроме разве что Яна и Михеля, владея и Иваном, и сотнями ему подобных, и всеми окрестными землями, сами были собственностью Ордена.
Об Ордене, которым правил в городе Риге епископ Альберт, сам подчинявшийся главному латинскому попу в каком-то Риме (этот поп латинский уже подчинялся одному Богу), все говорили, понизив голос и с большой почтительностью, словно боясь накликать беду. Впрочем, Ивану не доводилось слышать, как о нём говорят главные немцы, но подмастерье Ян, немного умевший по-русски, говорил именно так. Он же, будучи на вид ровесником Ивана, то есть юношей лет двадцати, иногда снисходил до разговоров с рабом и объяснял всю здешнюю иерархию – не для того, конечно, чтобы просветить Ивана, а чтобы иметь «практикум» в русской речи.
Иногда, расхваливая величие и могущество Ордена, Ян говорил, что когда накопит достаточно «гельд», то купит себе право на вступление в Орден – хотя бы оруженосцем при рыцаре. У Ордена великое будущее. Не пройдёт и десяти лет, как все страны покорятся ему, в том числе и Русь, населённая дикими варварами вроде Ивана. И многие русские князья это уже понимают. Вот, например, наш барон Дитрих – он «швагер», то есть зять русского князя Вольдемара Мюстаслау из города Скоффа или Плескоффа – эти названия трудно произносить. Князь Вольдемар давно принял решение встать под знамёна Ордена и породнился с одним из знатнейших рыцарей его.
Беседы с Иваном не означали, что подмастерье Ян испытывает к русскому некие добрые чувства. Бывало, что, поговорив с рабом, Ян вспоминал о каком-нибудь недоделанном деле и тогда мог тут же понудить Ивана к исполнению хорошим ударом палки. Как пастух бычка, отбившегося от стада. В ответ Иван только тихо ругался себе под нос (правда так, чтобы немец слышал) или скалился, сверкая глазами, на обидчика. Немцы, наверное, считали Ивана строптивым.
Немецкое хозяйство размещалось неподалёку от крепости и было весьма обширным, составляя как бы ещё один город, примыкающий к Медвежьей Голове, – несколько слобод, население которых занималось каждое своим промыслом. Тут, помимо кузнечного, имелось ткацкое производство, гончарное, портновское, кожевенное, маслобойни и сыроварни, огромные свинарни и при них – варильни и коптильни, от которых иногда доносился такой умопомрачительный запах, что скулы сводило. Немцы, как выяснил Иван, были большие любители вкусно покушать и еду себе готовили весьма затейливо. Впрочем, эту еду он видел только издали, когда наступал обед: мастер Адольф удалялся к себе домой, а Ян и Михель ели прямо здесь, на кузнице, им обед приносила Адольфова служанка. Перебрасываясь с ней шутками, жуя и хохоча, Ян и Михель ни разу хотя бы кусочек не предложили Ивану попробовать. Он же получал глубокую миску пшённой каши и кусок серого хлеба – всегда одно и то же и в одинаковых количествах, ни больше, ни меньше. И есть старался так, чтобы немцы видели: плевать он хотел на ихние яства, и на них самих, и девку ихнюю толстомясую. Когда эта девка приходила, особенно хотелось хоть чем-нибудь да показать свою гордость и душевную независимость. В общем, грех жаловаться – был сыт, и на том спасибо.
Всё то добро, что производилось в хозяйстве Ордена, предназначалось не только для рыцарей – им и десятой доли было не съесть и не износить, – а отправлялось в Ригу большими обозами. Примерно раз в месяц то Ян, то Михель отправлялись с таким обозом сопровождать изделия их кузни. Такие поездки для обоих были праздником, а для Ивана оборачивались дополнительной работой.
Тот небольшой навык в кузнечной работе, который Иван получил и в отцовской кузне, и после у Малафея, здесь ему самому казался жалким. Нечего говорить: и угрюмый носатый хер Адольф, и Ян с Михелем были такими мастерами искусными, что Иван, страстно завидуя их мастерству, порой чувствовал, что отмякает к ним душой, забывая, что он – раб, а они – хозяева. Что он умел? Подковы, гвозди, петли для ворот, наконечники сулиц и ножи самой простой работы. Немцы же изготавливали всевозможный рыцарский доспех: нагрудные сверкающие латы с подвижным оплечьем и знаком Ордена – крестом, каждый конец которого был хищно раздвоен, шлемы с поднимающимся и опускающимся забралом, латы ножные со шпорами и наколенниками. Тонкая работа!
Ивана, хоть и был он куплен как кузнец, к такой тонкой работе и не подпускали. И учить его, разумеется, здесь никто не собирался. Его делом было: мехи раздувать, таскать воду и уголь, следить, чтобы в кузне всегда было чисто подметено. Когда же либо Михель, либо Ян отсутствовали, Ивану иногда доверялось удерживать клещами на наковальне тяжёлую, красную от жара заготовку, и не дай Бог дёрнуться, когда в лицо попадают брызги окалины, – такое грозило палочным битьём. А палка для Ивана всегда была наготове и у Адольфа и у подмастерьев.
И всё равно ему нравилось стоять у наковальни. Это ведь тоже была учёба: смотри да запоминай. Может, когда-нибудь и сам так сумеешь. Мысли о возможном освобождении от рабства (а как от него освободиться, если не бежать?) со временем приобрели дополнительную окраску: да, бежать-то хорошо бы, но ещё лучше объявиться в родных краях таким же мастером, как Адольф, а не просто оборванцем, всё имущество которого – одна лишь свобода.
И он учился вприглядку, жадно впитывал накрепко, старался запоминать. И немецкие орудия – для грубой ковки, для тонкой ковки, какой молоточек для чего служит, – и какая сила удара для чего нужна, где бьют с оттяжкой, а где без неё, как сваривать железные пластины, чтобы шва не видно было, как ставить заклёпки, прорубать отверстия, как следует закаливать – у немцев для закалки стоял в кузне, кроме чана с водой, ещё и сосуд с каменным маслом, и после погружения в масло выкованный меч приобретал отлив радужный, гибкость и такую твёрдость, что им без вреда для лезвия можно было рубить гвозди, что и делал Адольф, проверяя качество работы.
Удивлял Ивана немецкий распорядок. Когда приходило время обеда – из крепости доносился звон полуденного колокола, и работа мгновенно останавливалась, даже ещё до того, как затухал звук поющей колокольной меди. Правда, Адольф с подмастерьями как-то угадывали время наступления обеда и старались, чуя его приближение, либо успеть закончить поковку, либо не приступать к новой. Вообще вся работа в кузне начиналась и кончалась по звону. И не только работа, но и весь день. Утром всех подневольных, кто работал на хозяйстве Ордена, будили резкие удары в железное било, висящее на перекладине посреди ремесленной слободы, это означало: вставай, оправляйся и беги на кузню, там уже ждёт кусок хлеба и каша, ешь быстрее и жди, когда в крепости прозвонят, – тогда приходит Адольф с подмастерьями и начинай задувать горн. Потом обед, когда хозяин уходит домой. К вечеру – тоже звон. Получай хлеб-кашу и жди, когда поведут спать. Один раз Иван разжёг угли и задул печь ещё до прихода Адольфа – так получил палкой: не сметь начинать работу без приказа! Вот этот распорядок никак душа не принимала – было в нём что-то непоколебимое, неумолимое, вольному человеку не свойственное. Ладно Иван, но ведь немцы-то были сами себе хозяева. Видать, привыкли они к такой жизни, решил Иван. Одно слово – чужой народ, и как его ни старайся понять, всё равно не поймёшь до конца.
Вот так и шло время. Весна прошла, за ней – прохладное дождливое лето, потом, как водится, снег выпал, а спустя положенное время стал таять. Первый год рабства показался Ивану на удивление недолгим. Как-то, плетясь в утренних сумерках на работу, слушая, как скрипит влажный от начинающейся оттепели снег, Иван вдруг с необыкновенной остротой вспомнил тот, первый свой день, когда, привязанный за шею, он точно по такому же влажному утоптанному снегу тащился позади коня хера Готфрида. Неужели уж целый год прошёл? – изумился Иван. Почему это время так быстро пролетело? Вроде и не заметил. И что теперь? Все годы, отпущенные ему, рабу Божию, рождённому в вольном Новгороде, с детства взлелеянному родительской лаской, и даже здесь, в немецком плену, сохраняющему исконную русскую надежду: послужить земле отцов своих, оставить на Родине после себя и добрую память, и наследников – да неужели же предназначено ему, Ивану, сыну Демьяна-кузнеца, всю его будущую жизнь отдать тупой работе на чужих людей? Превратить её, жизнь единственную, в навоз для жирных ползучих ростков Ордена, который для того, может, и существует, чтобы всю Русь поработить вот так же, как Ивана?
Мысль была такой сильной и обессиливающей, что Иван даже упал, звякнув ножной цепью. И лежал, не мог подняться – другие рабы, направляющиеся по своим местам, равнодушно обходили лежавшего, пока не подошёл надсмотрщик и палкой не помог встать на ноги. Обошлось, правда, без большого битья – может, этот надсмотрщик не имел права причинять телесный ущерб домашним животным? У немцев ведь все обязанности строго расписаны: этот гонит, этот бьёт, этот ночью сторожит, чтобы не разбежались.
С того дня Иван начал думать о побеге не как о чём-то далёком и несбыточном, а как о самом главном деле своей жизни, без которого, как без воздуха, воды и еды, – смерть, и больше ничего.
Именно поэтому он стал стараться выглядеть особенно послушным и услужливым. И послушным не как человек, а как раб, как объезженный и привыкший к хозяину конь, как собака, преданно смотрящая хозяину в глаза после удара палкой. Он хотел, чтобы, привыкнув к его покорности и сочтя неопасным, с него сняли бы цепь не только на время работы в кузне, но и после неё. Видел Иван и таких среди невольников – те ходили раскованные, вели себя тихо и даже проживание имели отдельно от прочих. Другие-то на ночь запирались в общих избах, человек по двадцать, а эти жили каждый в своей избушке и могли покидать слободу, ходить в город – например, на праздники, устраиваемые латинской церковью, когда вокруг крепости носят кресты, хоругви, чаши с дарами и вырезанных из дерева раскрашенных святых, вроде идолов чухонских, только искуснее сделанных и более приятных глазу.
Между прочим, хоть порой и дрожало от злости всё внутри, но жизнь у Ивана, ставшего послушным, потекла легче. Наверное, так и бывает у раба, если он ведёт себя, как положено, по-рабьи. У хозяев к нему совсем другое отношение.
Лицедейство Ивана принесло свои плоды – пусть и не сразу. Хлопоча в кузне, ловя на лету каждый хозяйский знак, стремглав бросаясь исполнять, Иван нет-нет да стал замечать некоторое подобие одобрения в мрачном взгляде Адольфа (хера) – пусть и не того одобрения, которого удостаивались Ян и Михель. Со временем общая благосклонность немцев стала почти ощутимой.
Но не услужливостью он их взял. А вот чем: догадался, что нужно выражать восхищение всем, что бы ни исходило от немцев, при этом используя заученные немецкие слова и главное – умело их произносить, особо приноравливаясь к каждому случаю. Например: с треском пущенные Яном или Михелем, а то и самим Адольфом, ветры, следовало приветствовать, растягивая: «О-о-о, вуун-дер-баар!» Когда тот же Ян, делая «практикум», общался с Иваном и важно рассказывал ему об Ордене и том порядке, который Орден повсюду скоро установит, надо было делать такое же важное лицо и поддакивать Яну: «Рихтих, о, я, рихтих». Самым же важным было суметь похвалить их работу – так, чтобы хозяевам стало приятно: немцы, они тоже люди ведь. Тут надо было, беря в руки готовое изделие, чтобы отнести его на полку, где всё хранилось, восхищённо переводя взгляд с панциря на хера Адольфа, чеканно произносить те слова, что заучились одними из первых: «гут», «зеергут», но лучше всего – «зеерзеергут». Впрочем, хвалил немецкие изделия Иван всегда вполне искренне, ему и притворяться не требовалось для этого. Хороша была немецкая работа!
Этим Иван их и взял. Он понял это, когда немцы начали с ним здороваться, приходя утром в кузню. Не как с равным. Но всё же как с человеком, который, хоть и варвар, и раб, но в деле разбирается и искусство мастера может оценить. И к тому же весельчак, способный улыбнуться шутке.
Его стали лучше кормить – толстомясая служанка приносила теперь не одно пшено варёное, а и горох со свининой, и белые лепёшки с молоком, и сыр – в первый раз в жизни Иван его попробовал. Понравилось. Кстати, может, из-за того, что служанка стала приносить еду повкуснее, он почувствовал, что и сама она ему нравится: кругленькая такая, мягкая, видно, на ощупь. Так бы и схватил её руками за все места. По ночам стал о ней думать. Воображал себе всякое непотребное даже и доводил себя до какого-то исступления. Тогда же, в духоте общей избы, он начал понимать, почему это некоторые другие мужики так стонут, трясутся и рычат под своими рогожами, К своим двадцати годам Ивану так и не пришлось ни разу быть с женщиной, хотя он знал, как это должно быть. Просто так сложилось: судьба, ничего с юношеских лет не предложив, кроме неволи, голода, холода, угнетения и ожидания смерти, не оставила для Ивана даже малой возможности любить и желать любви. Теперь же, окрепнув на немецких харчах, его тело и разум словно просыпались от спячки, как медведь просыпается весной. Осознавая это, Иван боялся потерять рассудок и стать таким же неистовым, как медведь (а бывал к этому близок по ночам, когда рукою помогал утихнуть своей восставшей плоти), и, не выдержав, наброситься на ту служанку хера Адольфа, пусть даже и в присутствии подмастерьев, с которыми она явно заигрывала.
Потом, в начале лета, житьё Ивана круто переменилось. Настолько круто, что он и представить себе не мог, как это может быть. Однажды после обеда их кузню посетил не кто иной, как сам хер Готфрид – начальник над всеми хозяйственными промыслами. Его сопровождал Адольф и ещё какие-то двое. Хер Готфрид, щегольски одетый, выглядевший странно посреди закопчённых стен провонявшей гарью и дымом кузни, надменно смотрел на Ивана, а хер Адольф что-то объяснял ему, то тыча в Ивана пальцем (ох, как знакомо это было), то обращаясь к Яну и Михелю за подтверждением. Стоя на коленях перед таким важным гостем, Иван понимал, что его замысел принёс первые плоды. Так оно и было. С того дня он перешёл на положение вольноотпущенного. С Ивана сняли цепи, выдали одежду: холщовые порты, исподнее, немецкий кафтан из шерсти, шерстяную же, грубой вязки, шапку, тяжёлые сапоги на толстой кожаной подошве. Управляющий отвёл его к избушке – кособокой, щепою крытой, но чем-то отдалённо напоминающей ту, в которой он жил у Малафея. Один из сопровождающих хера Готфрида вдруг по-русски объявил Ивану, что отныне тому разрешено жить отдельно, работая, как и прежде, в кузне Адольфа; а еду и всё прочее, что будет сочтено нужным ему выдавать, станет получать непосредственно из кладовых хера Готфрида, то есть Ордена. Стоимость будет вычтена из жалованья, которое Ивану, как помощнику подмастерья, Орден определяет пять чего-то (Иван не понял, чего) в месяц. После этого говорящий по-русски человек выдал Ивану одну такую серебристую лепёшечку, за какие он был когда-то куплен. Обещали – три, подумал про себя Иван, но сразу сообразил, что уже вычли, поди, за одёжку-то и за прочее. Ему вообще было не до жалованья сейчас: с ним впервые за полтора года вдруг заговорили на родном языке (не считать же «практикум» Яна русской речью)! Однако сам человек был не русский и держался не по-русски, видно, тоже был немец.
Дальше обозначилась загвоздка, и немалая. Переводчик, не повышая и не понижая голоса, будто продолжал разговор об оплате, сообщил Ивану, что если он хочет всеми перечисленными благами пользоваться, то будет обязан принять крещение от святых отцов Ордена Храма – перекреститься то есть в латинскую веру, догадался Иван. Приняв её, объяснил немецкий человек, Иван, оставаясь собственностью Ордена, получит возможность выйти на волю (у Ивана ёкнуло внутри). Но не прямо сейчас, продолжил переводчик, а впоследствии, отработав на Орден двадцать пять лет, Иван получит свободу, а вместе с ней – выходное пособие и цеховую грамоту подмастерья, право поселиться в любой области Ордена, жениться и завести семью, если к тому времени у него уже не будет семьи.
Этот срок – двадцать пять лет! – ужаснул Ивана, но он сумел сдержаться и ничем не выдал волнения. Быстро справился с собой, вспомнив, что обязан идти на всё, чтобы добиться заветной цели – возвращения домой. В веру свою хотите перекрестить? Ладно, чёрт с вами! Двадцать лет и ещё целых пять? А подавитесь! Где тут подписываться?
Ему протянули свиточек пергаментный, где сверху был нарисован расщеплённый крест, а под ним – меч, ниже шёл густой частокол из непонятных знаков, а ещё ниже – много разного: и крестики косые, и буковки, и вообще просто закорючки. Это те, кто подписал уже грамоту прежде меня, догадался Иван. Стало быть, грамота эта не на одного меня? Ну что ж. Получите и мою подпись! Чай, не забыл ещё, как буквы-то пишутся? Острой палочкой, обмакнутой в склянку с чернилами, он нацарапал, где чисто: Иван Демьянович – как совсем уже взрослый русский человек, новгородский гражданин. Получите, гады, что силой смогли вырвать, – а душа моя, однако, при мне останется.
Глава 15
Зажил Иван Демьянович почти как вольный человек. В своём дому, где и окошко имелось, и жаровня с дымоходом, и стол, и скамья, и лежанка дощатая, на низких ножках, жёлтой соломенной подстилкой накрытая. Всё это, конечно, Ордену принадлежит, наравне с самим Иваном, а всё равно такое чувство, что как бы своё. И крылечко, и возле крылечка – лавка, чтобы тёплым вечером после трудового дня посидеть на ней, с такими же вольными отпущенниками переглядываясь. Ни одного русского меж них не было (хотя он знал, что в других слободах, куда ему путь закрыт, русских много – особенно при скотине и огородах, а также на гончарнях).
Каждое утро он просыпался от далёких ударов по железу: это приходила пора поднимать на работу тех, что по общим избам живут, – ну и сам вставал. Завтракал чем было, одевался – и в кузню, жалованье зарабатывать.
Теперь у хера Адольфа другое было отношение. Теперь из него должны были сделать такого же мастера, чтобы Ордену прибыток, и за рост Иванова мастерства Адольф должен отвечать перед Орденом. Выучит – награду получит. Вот он и учил. И даже без палки обходилось, потому что Иван, правду говоря, сам старался.
Обряд же крещения в латинскую веру и вовсе показался Ивану не заслуживающим того, чтобы из-за него терзаться. Собрали десятка два человек скопом, водичкой полили, сунули в рот сухарик да крестное знамение было велено накладывать не справа налево, а наоборот. Он эту науку легко освоил – понарошку же! – и часто крестился при немцах по-ихнему, мысленно сплёвывая три раза через левое плечо.
Всё же, несмотря ни на свои успехи, ни на примерное поведение, он пока не получал дозволенья покидать пределы рабской слободы и выходить в город. А на город была у Ивана главная надежда! Выйти бы, пробраться к Торговой площади, потолкаться там – авось, набредёшь на своих земляков, ну, пусть не из Новгорода, но русских! Не может быть, чтобы с Медвежьей Головой торговля прервалась, как и со всей Ливонского Ордена областью: немцы-то, ещё когда Иван мальчишкой был, приезжали в Новгород, составляли договор торговый, про то Ивану отец рассказывал. Ещё шутил: вот, Иванко, сынок, поедем мы с тобой нашим товаром торговать в немцы! Тогда казалось: эх, вот бы вправду поехал тятька да взял с собой – на немцев поглядеть! Знал бы тогда, как от морд их немецких будет с души воротить, может, и вся жизнь бы по-другому повернулась!
Нет, не выпускали в город, проклятые. А то сунулся бы к купцам: «Родненькие! Увезите, спрячьте в возу котором-нибудь! А я отслужу! Отработаю, век буду Бога о вас молить! Ведь нету моченьки больше жить тут, вдали от края родимого!»
Неужели отказали бы? Дело-то опасное: чужого раба похитить, да вдобавок Орденского. А всё ж дрогнуло бы сердце у земляков, придумали бы, как Ивана из города вывезти да чтобы подозрение на купцов не упало. Он, Иван-то, уж всё продумал, а если недодумал чего – подсказали б.
Однако дни шли, а Адольф так и не давал разрешения. Когда Иван в третий раз попросил его, даже рассердился. «Шлехт», «нихт», «кайн шпацир» – вот и все разговоры. Нечего, мол, шляться, где не следует. Сиди, мол, дома и радуйся, что цепь сняли. Иван на всякий случай поблагодарил и больше пока не стал отпрашиваться, а то у Адольфа могли возникнуть нехорошие подозрения.
Впрочем, оказалось, что Адольф понял, что за просьбами работника стоит нечто большее, чем просто желание погулять по городу. Как-то, придя с обеда, он, довольно ухмыляясь, похлопал Ивана по плечу и что-то проговорил, часто повторяя слово «фрау». Ян тоже засмеялся (Михеля не было в городе) и объяснил Ивану, что ему выхлопотали жену: хочешь так живи, хочешь – священник придёт и обвенчает. Жена, мол, уже Ивана дома дожидается. Ничего не понимающий Иван доработал этот день и, когда прозвонило, на заплетающихся ногах отправился к себе в избушку.
Эту «фрау» он увидел издалека. На лавочке возле крыльца сидела, явно его дожидаясь, толстая баба, на вид старше Ивана лет на десять. Это, впрочем, ещё ничего, что толстая и старше, но до того не родное, чужое лицо было у этой бабы, что ноги Ивана сами повернули куда-то вбок и все ускоряли шаг, пока он не оказался на задворках своей слободы, упёршись в изгородь, за которую перелезть было нельзя – сразу в цепи закуют.
И ошиваться тут тоже долго не следовало, мог заметить надзирающий, а то и из своего брата, вольного отпущенника, кто-нибудь мог донести, зарабатывая себе поблажку или вознаграждение: чего это русский возле изгороди трётся? Уж не бежать ли хочет? Поэтому Иван, которого в последнее время не оставляли мысли об осторожности, догадался и сделал вид, что мается животом и сюда прибежал по неотложной нужде. Он долго сидел возле изгороди на корточках, мучительно размышляя, что делать дальше и как себя вести в ответ на эту столь явную насмешку немцев над собой. Домучился до того, что и в самом деле, кажется, живот не на шутку прихватило – пришлось ненадолго отвлечься думами от ближайшего будущего.
Наконец, когда стало уже невмоготу обо всём этом думать, Иван решительно пошёл к дому. Подошёл сзади, вывернул из-за угла и прямо упёрся в эту бабу, остановился, пытаясь хоть что-нибудь в ней найти похожее на тот отвлечённый образ, что представал перед ним во время долгих ночных видений. «Фрау», наверно, поняв, кто перед ней, немедленно поднялась и несколько раз глубоко присела, как копна, когда её уминаешь сверху. Не произнесла при этом ни слова. Вообще она выглядела сосредоточенной, словно выполняла постылую, но обязательную работу. И Иван как-то враз понял, что никакую шутку с ним немцы не шутили и даже, очевидно, в мыслях не имели того, просто выбрали среди прочих рабынь ту, которая показалась им наиболее подходящей для русского, и привели её. В самом деле – пусть холоп обзаводится семьёй, крепче привязывается к месту. Возле лавки лежало, как Иван понял, бабино приданое: толстый рогожный мешок, наверное, с тряпьём, и плетёная корзина, накрытая плетёной же крышкой. Не очень-то богатую невесту ему припасли немцы.
Баба смотрела на Ивана исподлобья и с непониманием: чего, мол, тянешь, не приглашаешь в дом новую хозяйку? И вместе с тем в глазах её мелькнуло нечто неожиданное, вроде того, что видел Иван во взглядах чухонских девчонок, когда они смеялись над ним, голым и беспомощным.
– Тебя как звать? – спросил Иван.
Баба опять присела, попытавшись теперь улыбнуться. Передних верхних зубов у неё не было. Не произнося ни слова, она вдруг как-то деловито, не смущаясь, ощупала себя и сделала Ивану рукой нечто вроде приглашающего знака, будто хотела рассеять в нём все сомнения в том, для чего именно она здесь находится.
Ещё раз доходчиво помяв себя спереди, баба, наконец, издала нечто вроде мычания:
– Муыы-ыы. Му-ыыыы.
Батюшки, да она ж немая! Немую для него выбрали! Немота этой бабы словно помогла глазам Ивана окончательно прозреть: да ведь с ней и не поговоришь, не расскажешь о себе, о ней самой ничего не узнаешь, хотя бы чухонка она или кто, не пожалуешься на неволю и жалости не дождёшься от неё, даже поругаться с ней не выйдет, а только «муыыы» да «муыыыы». Вот оно как теперь.
Иван почувствовал, что ему стало жарко и что сердце, против его желания, стучит так, что, наверное, и бабе этой слышно. Чтобы она не видела, как он растерялся, Иван пошёл в дом, слыша, как «фрау» уверенно семенит следом, волоча мешок и корзину.
В избушке было темно. Он сразу бросился к столу, где стоял масляный светильник: зажечь скорей! Долго, попадая по пальцам кресалом и морщась, высекал искру, раздувал фитилёк, стараясь не смотреть на бабу, не слушать, чем она там шуршит. Потом, когда крохотный огонёк занялся, прикинул: сколько ещё ждать, когда ударят в било и свет придётся гасить. Выходило, ещё порядочно, ведь недавно только домой пришёл. Или давно? Можно было, конечно, ещё поужинать, но совершенно не хотелось. Неужели с этого дня так будет каждый вечер – возвращаться домой и маяться, не понимая, куда девать себя, своё тело, ставшее будто незнакомым?
Неожиданно он почувствовал какой-то непривычный запах. Пахло и неприятно, и сладко, чем-то стыдным. Обернулся и увидел, что баба, успев устроить на низком лежаке нечто вроде пышного ложа: взбив сено и застелив его крашеным холстом, – сидела там с краешку в одной рубахе с распущенными волосами. Откуда такие волосы вдруг появились? Ворот рубахи она придерживала горстью, и в тёмном свете фитилька увиделась Ивану жутковато-загадочной и желанной.
Ивану стало страшно. И вовсе не того, что должно было произойти, – он испугался, что вот сейчас поддастся желанию, вдруг скрутившему его похлеще, чем бывает, живот скрутит – и всему конец, всей его маленькой свободе, всем его мечтам вырваться из рабства немецкого, убежать, вернуться на родину. Повиснет эта баба на шее тяжким грузом, опутает по рукам и ногам!
Уже опутывает, подлая. Баба вдруг убрала руку от горла, быстро распустила там какие-то тесёмочки и вывалила груди на живот. И смотрела, смотрела на Ивана, не отрываясь.
Утром Иван проснулся чуть свет оттого, что рядом её не было. Баба хлопотала по хозяйству, разожгла огонь, расставила на столе какую-то посуду (из своего приданого). Спросонья поглядев на бабу, Иван уткнулся лицом, едва подавив тоскливый вой, – так захотелось завыть, что даже испугался. Он вспоминал, что случилось ночью, и никак не мог вспомнить ничего хорошего. Особенно же стыдным было то, с какой радостью приняла его «фрау», как восторженно она мычала, обнимая Ивана, как охотно давалась ему всеми душно пахнувшими телесами, как, мыча, просила всё новых прикосновений и объятий.
Делая вид, что ещё не проснулся, он исподтишка разглядывал её. По сравнению с тем, какой Иван её вчера увидел, «фрау» прямо замолодела, была такая прибранная, голову повязала голубым платком навроде кокошника и передник надела нарядный. Увидев, что Иван проснулся, она вся к нему повернулась, присела несколько раз, как давеча, и улыбнулась – совсем как своему, впрочем, тут же прикрыв ладонью недостаток верхних зубов. И опять смотрела вопросительно: не желает ли Иван с утра побаловаться? Раз уж проснулся.
Как это было ни странно для него самого, но оказалось, что желает! Томно замычав, баба полезла на лежанку, снимая рубаху вместе с передником через голову. Просто удивительно, что срамота эта бывает так нужна человеку даже в неволе! Сквозь собственное тяжёлое дыхание и бабин довольный мык Иван еле расслышал, как от крепости донёсся утренний колокольный звон.








