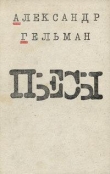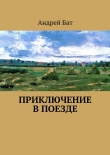Текст книги "Не повторяется такое никогда!"
Автор книги: Александр Ройко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
– А какую бы ты хотел иметь машину? – спросил его Андрей.
– Как это какую? Конечно же "Волгу", именно они у нас ценятся. Остальные машины – это просто коробки.
Андрей из этих разговоров много почерпнул о жизненных укладах такой национальности как узбеки. Много из того, о чём ему рассказывал Рустам, он значительно позже увидел и сам, пару раз побывав в Узбекистане. Но тогда Андрею всё же больше запомнилась необычная красота этих мест.
Котельную, обогревающую ТЭЧ, Андрей посетил в последнюю очередь ещё и потому, что он зашёл и в саму эту часть и разыскал одного прапорщика, который занимался изготовлением приставок к телевизорам и антенн. Приставка у того уже была готова к продаже (видимо, он их готовил про запас), а антенну он пообещал Морозевичу изготовить к концу завтрашнего дня. Он узнал адрес, где проживает Андрей, и пообещал после работы ему занести и то, и другое. После посещения котельных Андрей зашёл в штаб, составил заявку на брикет, навестил ещё раз одну из котельных, где работала бригада слесарей, и пошёл на очередную планёрку.
На следующий день прапорщик из ТЭЧ зашёл к Андрею в "Бухенвальд" и собственноручно установил приставку к телевизору. Антенну он изготовил со спускным кабелем, но только саму антенну. Её ещё предстояло самому Андрею закрепить на каком-нибудь шесте или трубе повыше над крышей домика. С этим Морозевичу пришлось хорошенько повозиться. Нужно было установить на крыше антенну на 3-х метровой полудюймовой трубе. Но наибольше возни было, когда он в один из дней вместе с Кравченком занялся работой по направлению антенны в зону устойчивого приёма. Но, в конце концов, они добились хорошего приёма телевизора – первый его бытовой прибор здесь в ГСВГ работал очень даже неплохо. Хорошими были и видимость, и звук. Именно с этого дня Андрей полностью перебрался в их общую с Лерой комнату в "Бухенвальде". Вот только пока что он в этой комнате проживал один, и сколько ещё времени придётся ему коротать время самому, было неизвестно.
ГЛАВА 37. Приезд жены
Начало третьей декады марта 1977-го года ознаменовалось для Андрея чудесным сообщением – в этот день ему вручили телеграмму, в которой было написано: «Выезжаю двадцать первого утром. Валерия». Это означало, что Валерия, как и он сам, рискнула ехать в Киев утренним поездом, хотя времени у неё на приобретение билета на Брест оставалось поменьше. Но, как уже дважды было проверено самим Андреем, обычно билеты на Брест в кассах были. Так что, вроде бы с этим у Леры проблем быть не должно. А из Бреста, как они договорились (если только Лера успела получить его письмо, а она должна была его получить – времени прошло немало), Валерия даст ему телеграмму о том, в какой город Германии она прибывает. Но в любом случае (если из Киева выедет 21-го) она должна приехать 24 марта. Значит, на четверг нужно договариваться с Лукшиным о том, что в этот день он на работе не будет. Но это не проблема, в таких случаях служащих всегда беспрепятственно отпускали.
Конец понедельника и вторник Андрей отработал нормально, а вот в среду с самого утра ему не сиделось, как на иголках. Он постоянно бегал к почтальону (тот находился в одной из комнат клуба) и всё интересовался, пришла ли ему, наконец, телеграмма. Но до обеда её так и не было. Андрей уже начал волноваться – куда же ему завтра ехать, и завтра ли? А ехать то нужно было с самого утра – и в Берлин, и в Вюнсдорф поезд прибывал ещё до обеда. Морозевич быстро пообедал в столовой и вновь поспешил в клуб. Однако на сей раз, можно было и не спешить – почтальон уже дожидался его и вручил долгожданную телеграмму с коротким текстом: "Вюнсдорф, 24-го. Лера". Только теперь Андрей успокоился.
Выехал в четверг Морозевич из Борстеля ни свет, ни заря. Можно было выехать и позже, но ему не сиделось. В Вюнсдорф он тоже приехал рановато, до прибытия московского поезда было ещё более двух часов. Но Андрей не жалел об этом. Во-первых, ему теперь было намного спокойнее, а во-вторых, он, до того не бывавший в Вюнсдорфе, мог посвятить часть этого свободного времени изучению этого, так сказать, умственного центра ГСВГ. Конечно, обойти весь гарнизон Андрей и не рассчитывал, хотя на первый взгляд он ему вначале показался меньшим, нежели магдебургский. Как в дальнейшем выяснилось, это было совсем не так.
Небольшой немецкий городок Вюнсдорф, расположенный примерно в 45-и километрах на юг от Берлина, был отгорожен от остального мира бетонным забором и колючей проволокой – настоящий советский остров. Кроме казарм на его территории находились две школы (? 1 и? 89), детский сад, гарнизонный универмаг, универсам "Дружба", Дом офицеров, междугородный переговорный пункт (откуда, правда, можно было позвонить по заказу только в СССР). По главной улице с неофициальным названием "Берлинштрассе" (другие улицы названий не имели) даже ходил автобус. Сюда в 1952-м году передислоцировалось из Берлина командование Группы советских войск в Германии. Вюнсдорф являлся главным гарнизоном ГСВГ, где располагался штаб Группы и железнодорожная станция для убытия в Союз. На территории гарнизона было также расположено живописное большое озеро. Вообще-то, Вюнсдорф официально делился на три городка: в первом городке размещался штаб ГСВГ, гарнизонный Дом офицеров, комендатура (здесь жили старшие офицеры командования Группы). Во втором были хозяйственные службы, а третий был городком лётчиков. По периметру этого объединённого гарнизона располагались воинские части.
Доминировали в городке немецкие постройки первой половины ХХ-го века – жёлтые дома с крышами, покрытыми красной черепицей. На плацу недалеко от Дома офицеров не один десяток лет маршировали советские военные. Возле Дома офицеров стоял памятник В.И. Ленину. Андрей не знал, есть ли ещё в каких-либо советских гарнизонах подобные памятники – бюсты Ленина в Домах офицеров и клубах он в расчёт не принимал, те, вероятно, были в любом клубе. Немногим позже он узнал, что есть памятник вождю мирового пролетариата и в Берлине. Оказалось также, что был памятник Ленину и в небольшом городе Айслебене, который находился в округе Галле.
Начал же осваиваться этот городок советским командованием в начале 60-х годов, когда строилась Берлинская стена. Тогда в Вюнсдорфе разместился главный командный пункт советских войск в Германии. Одновременно была дополнительно укреплена оставшаяся после войны система защиты от радиоактивного, химического и бактериологического оружия, позволявшая крупному воинскому подразделению, ни в чём не нуждаясь, в течение 30-и суток находиться в полной изоляции от внешнего мира. Так на территории в 600 гектаров возник секретный город (на охране которого были заняты сотни людей) с уникальными сооружениями, автономной системой энерго– и газообеспечения, своим телевидением, газетами, кинотеатром, клубом, школами, больницами, собственной железнодорожной веткой до Берлина и Потсдама, билетными кассами и залом ожидания и, как уже говорилось, ежедневным поездом "Москва – Вюнсдорф". В качестве вокзала вначале служило здание старого грузового склада. В 1953-м году над путями была возведена крыша.
В отличие, например, от американских, бельгийских или британских войск, расквартированных в Западной Германии, советские военные жили замкнуто. На их территориях была развёрнута вся инфраструктура, включая театры и супермаркеты. Внешние контакты были крайне ограничены. Это было как "государство в государстве". Вюнсдорф тоже был таковым с населением примерно в 40 тысяч человек. Кстати, советский воинский контингент вдвое превышал численность армии ГДР. На территории ГДР было расквартировано около 380 тысяч советских солдат. Немцы в Вюнсдорфе тоже жили, но их было менее 3 тысяч человек.
Вюнсдорф до расквартирования советских войск был известен тем, что при нацистах он был важнейшим пунктом гитлеровского командования. В секретных военных бункерах здесь располагалась подземная ставка сухопутных частей вермахта и центральный узел связи германской армии "Цеппелин". Активная перестройка Вюнсдорфа для нужд германской армии началась в 1935-м году. В 1937-м году началось строительство бункеров Майбах I и II. Узел связи построили за два года и использовали до окончания войны. Перед началом войны в Вюнсдорфе испытывали танки, пушки и другое оружие, в том числе такие артиллерийские орудия как "Большая Берта". В 1945-м году бункеры заняли советские войска. Сверху эти бункеры выглядели как обычные бетонные дома, но на самом деле это были входы в бункер. В бункере "Цеппелин" находился центральный узел связи Вермахта. Именно в Вюнсдорфе разрабатывался "План "Барбаросса". После окончания войны, согласно решениям Потсдамского соглашения, бункеры было решено взорвать, но сделать это было очень трудно, поэтому их удалось только частично подорвать.
Но вот уже до прибытия московского поезда осталось менее получаса, и Андрей направился к вокзалу. Поезд прибывал на специальную платформу. Ему пришлось ещё немного подождать, и вот показался поезд – цепочка вагонов, связывающая его, и многих других с Родиной. Поезд, наконец, остановился у перрона. Валерия, видимо в спешке, забыла указать номер вагона, и Андрею пришлось прохаживаться вдоль состава, отыскивая жену. Но вот он её увидел, увидела его и она, помахав ему рукой. Андрей поспешил к ней навстречу, они обнялись и расцеловались. У Валерии с собой было два чемодана.
– Ну, что, как доехала?
– Доехала нормально, без проблем. И с билетами было всё в порядке.
– И как тебе Польша, Германия?
– Ой, Польша мне не понравилась. По-моему ничем не лучше, чем у нас, если не хуже. А Германию я ещё толком рассмотреть не успела. Но, на первый взгляд, очень интересная страна – и красиво, и аккуратно всё.
– Ладно, теперь ты её успеешь насмотреться. Но она тебе, пожалуй, быстро не надоест. Страна, действительно, очень интересная. Часа полтора ты её ещё сможешь наблюдать и сегодня, вновь из окна поезда.
– А у тебя всё нормально?
– Конечно, что у меня может быть ненормально. Жив, здоров, работаю. Ну, что, вперёд, на следующий поезд – теперь уже чисто немецкий.
Андрей взял чемоданы и они, неторопливо, пошли к платформам пригородных поездов. В самом, уже бежавшем по территории ГДР поезде, Лера не отрывала взгляд от окна. Андрей не мешал ей, он только порой отвечал на её единичные вопросы. Она отвлеклась только один раз, когда контролёры попросили их предъявить билеты.
– Они что, всё время так ходят по поездам? – шёпотом спросила она у мужа.
– Всё время, – улыбнулся Андрей. – Но они, как ты видишь, вежливые и предупредительные. Однако пытаться проехать без билета – дело безнадёжное. Да никто и не пытается.
Жена опять прильнула к окну.
– Какие красивые и аккуратные домики, всё очень ухожено – давала волю своим чувствам Лера. – Неужели везде так?
– Везде, – подтвердил Андрей. – По крайней мере, в тех местах, где я успел побывать. Ты не увидишь здесь ни одной деревушки с ветхими домишками. Немецкая добротность, основательность и качество. И ещё ordnung – порядок. Вот приедем в Стендаль, ты немного увидишь и сам этот очень милый городок, уже из окна не поезда, а автобуса. А затем ещё и маленькое, но уютное местечко под названием Борстель.
– Слушай, Андрюша, но здесь можно запросто заблудиться. Как ты разбираешься с этими городами, поездами?
– Дорогая, Лерочка, – улыбнулся её муж. – Это тебе только поначалу так кажется. А потом ты привыкнешь и будешь сама запросто ездить. Союз то намного больше, но ты же не боишься там заблудиться.
– То Союз, – вздохнула Лера. – Там все свои, а здесь…
– Большинство немцев к нам хорошо относятся, и с ними всегда можно найти общий язык. Хотя бывает, что попадаются иногда немцы и позлее.
Так в разговорах или комментариях проплывающих за окном поезда пейзажей они и не заметили, как поезд прибыл в Стендаль. Сойдя с поезда, Морозевичи направились по подземному переходу к зданию вокзала. Выйдя из перехода, а это было старое сооружение из тёмного кирпича, которое никак не сочеталось с симпатичным зданием вокзала.
– Так, спешить нам некуда. Можем немного прогуляться и осмотреть то место, с которого, возможно, тебе придётся ездить, – сказал Андрей после того, как они вышли к главному входу в вокзал, и он поставил чемоданы возле стены.
– А вещи? – испугалась Лера.
– Во-первых, мы далеко никуда отходить не будем, а во-вторых, их никто не тронет.
Они пошли по центральному перрону стендальского вокзала, осматривая и его и всё окружающее.
Само здание вокзала тоже было не новое, но оно выгодно отличалось от первой достопримечательности привокзальной территории – того же перехода. Это было красивое двухэтажное здание из жёлтого кирпича с арочными окнами, верхнюю часть которых венчали две полукруглые рамы, поверх которых располагалась одна круглая. Центральная часть вокзального здания с шестью широкими ступенями перед ней немного выступала вперёд и заканчивалась неким третьим этажом в виде зубьев башни. Посредине этой своеобразной башни располагались круглые часы. Часы были и на колоннах (влево и вправо от центрального входа в вокзал), которые поддерживали длинный навес у первой платформы перрона.
Центральный городской вход в вокзал был аналогичен входу со стороны перрона – та же выступающая часть (но без ступеней) и с теми же зубьями башни. Привокзальная площадь смотрелась очень даже не плохо – мощённая плиткой с зеленью деревьев, лавочками и навесами для пассажиров, ожидающих автобусы. Внутри вокзального помещения было как-то непривычно пусто. В его центре стояло всего пара металлических, удобной формы, диванчиков. Слева находилось справочное бюро, а справа – витрины кафе и с книжный магазинчик.
Они знакомились с вокзалом минут пятнадцать. Изучив немного вокзальные строения, Андрей с Лерой так же неторопливо пошли к автобусу. Чуть позже Валерия уже прильнула к окну автобуса, с интересом рассматривала город, вблизи которого ей предстояло провести немало времени. Приятное впечатление оставляла и улица, ведущая от вокзала в центр города – симпатичные новые дома, много деревьев, чистота. Проехав немного, они увидели справа вдали шпили собора Святого Николая (Dom St. Nikolaus). Далее была развилка дорог на Тангермюнде и ещё какие-то посёлки. Андрей знал, что рядом с развилкой дорог в скверике стоит бюст известному немецкому путешественнику, военному врачу Гюнтеру Нахтигалю (Gustav Nachtigal), но его из окна автобуса они не увидели. Далее автобус свернул влево и направился в сторону площади Мадонны. Конечно, Валерия не успевала из окна автобуса подробно ознакомиться с достопримечательностями города, не очень-то помогал её в этом и муж, который многого в городе ещё и сам не знал, но этот недостаток они ещё сумеют исправить. Они уже заканчивали проезд города, когда Лера прокомментировала:
– Ты знаешь, а мне нравится этот город. Хорошие, чистые улицы, на улицах много зелени. Красивые дома с интересной архитектурой. Вот только смогу ли я в нём свободно ориентироваться?
– Сможешь. Весь город ты, конечно, сразу не узнаешь. Я и сам его всего то не знаю. Но то, что тебе будет необходимо найти, ты скоро сможешь спокойно делать. Пару раз съёздим вместе, а там ты уже и сама сможешь ориентироваться.
Когда автобус въехал в Борстель, Валерия спросила:
– Это уже Борстель?
– Да, он самый.
– Ой, он тоже такой аккуратный, красивый, хотя и маленький. Даже боковых улочек мало.
– Да, можно считать его центральной улицей именно эту дорогу. А вот мы подъезжаем и к нашему КПП в городок – оно слева.
Они миновали КПП, и автобус подъехал конечной остановке. Теперь уже чета Морозевичей двинулась к последней своей цели поездки.
– С прибытием, Андрей Николаевич, вас и вашу жену, – поприветствовал их знакомый Андрею солдат, который дежурил на КПП.
– Спасибо, Серёжа.
Морозевичи отошли немного от КПП, и первыми объектами, которые увидела Лера в городке, были роща за КПП, два двухэтажных дома и водонапорная башня, а также большой, развесистый дуб. Слева от КПП сначала параллельно, а затем немного в сторону шла железнодорожная ветка, которая вела к ТЭЧ и к аэродрому.
– Вот уже и другие пейзажи нашего городка, – сказал он, когда они немного отошли от КПП и появились другие строения. – От остановки автобуса мы могли пойти и по-другому, возможно, даже более короткой дорогой, мимо городка, и только через время, попав на его территорию через прореху в ограждении. Но я специально повёл тебя главной дорогой. Изучай городок, знакомься с ним и запоминай. Хотя здесь-то как раз заблудиться сложно – городок небольшой.
Время уже было послеобеденное, и Морозевичи направились к себе на квартиру, точнее к комнате в "Бухенвальде". Со стороны мастерской, от своего дома поднимался Лукич. Он махнул им рукой, Морозевичи остановились и подождали пока он подойдёт.
– Добрый день, Лукич! – поприветствовал его Андрей. – Знакомьтесь – это моя жена Валерия. А это мой непосредственный начальник Грицюк Михаил Лукич.
– Очень приятно познакомиться, – обратился тот к Валерии. – Только вы не слушайте его. Какой я ему начальник, просто коллега. У нас у всех один начальник майор Лукшин. Я рад, что нашего семейного полку прибыло. Вы к себе?
– Да, оставим вещи, а потом, возможно, наведаемся в штаб.
– А зачем он вам сегодня нужен? Там так вас так прямо и ждут. Сегодня отдыхайте, а завтра с утра уже можно и в штаб. Вы думаете, ваша жена прямо сегодня на работу выйдет? Кто в конце дня в штабе будет возиться с этими бумажными формальностями. Завтра у нас пятница. Вашу жену, возможно, завтра и зачислят в штат, но на работу она, скорее всего, выйдет уже с понедельника. Ваша жена красивая женщина, пусть отдыхает с дороги, она в поездах и на вокзалах дня 3–4 провела. Успеет она ещё наработаться.
– Хорошо, Лукич. Спасибо за совет. Вот обустроимся, через пару дней заходите в гости.
– Спасибо. Обязательно зайду. Отдыхайте.
Грицюк поспешил по своим делам, а Морозевичи направились к себе. Проходя к дому, они повстречали также пару кочегаров, которые только чинно поздоровались и с любопытством оглядели Валерию.
– Жить мы с тобой будем в "Бухенвальде", – улыбаясь, обратился к супруге Андрей.
– Где-где?
– В "Бухенвальде", – рассмеялся муж. – Вон в этом здании барачного типа с высокими трубами – разве оно не напоминает тебе "Бухенвальд"?
– Не знаю, я там не была. Что, и условия в нём соответствующие? – расстроилась Валерия.
– Сейчас придём, и ты сама всё оценишь.
И вот они, наконец-то были "дома". Валерия разделась, внимательно осмотрела комнату и произнесла:
– А что, комната очень даже ничего. Ты ремонт, наверное, делал. Просторно, чисто, уютно, светло и, главное, тепло. Жить можно. Так что у меня к твоему Бухенвальду претензий нет. А у вас тут что, все здания имеют свои прозвища?
– Во-первых, дорогая, с этого момента привыкай говорить не "у вас", а "у нас". Теперь ведь и ты здесь живёшь. А что касается зданий, то прозвища имеют не все здания, но несколько таких есть. Кроме "Бухенвальда" ещё имеются "Хоромы", "Лондон", "Париж". Меня вот из "Лондона" сослали в "Бухенвальд", – засмеялся Андрей.
– Любопытно. Да, нужно мне привыкать к городку. Это же недолго. Андрюша, но зато как интересно. Сколько новых впечатлений всего за полдня пребывания в ГДР.
– А сколько подобных впечатлений ещё у тебя впереди! Так, давай немного разложимся с вещами. В первую очередь нужно будет, наверное, повесить на окно гардину и шторы. Я то карниз установил, но остальное, я думаю, за тобой. Ты привезла с собой наши шторы и гардины?
– Привезла. Сейчас разберу вещи и найду их. А у тебя утюг есть? Нужно будет их погладить.
– Оп-па! А за утюг то я и забыл, не купил.
– Ты что, ничего себе не гладил?
– В общежитии ещё гладил, но там были общественные утюги. А здесь пока что не успел. Я здесь живу то всего несколько дней. Ладно, утюг я сейчас раздобуду. Здесь, в этом же корпусе живёт один мой кочегар Шмелёв, тоже с супругой. А завтра нужно будет купить утюг.
Андрей сходил за утюгом, и через некоторое время комната приобрела ещё более уютный вид.
– Ну, вот, хоть что-то будет напоминать нам о Полтаве, – Промолвил Андрей, повесив все оконные атрибуты, – у меня, кстати, как ты видишь, нечем и кровать прикрыть.
– Я привезла с собой покрывало с дивана. А где это ты раздобыл такую шикарную кровать? Неужели покупал?
– Нет, не покупал. Изготовил сам. Не совсем, конечно, сам с помощью моих ребят.
– Сам изготовил? Ты смотри, какие у тебя скрытые таланты обнаруживаются. В комнате два шкафа – шикарно. Свободно можно будет развесить вещи.
– Развесить ты их сможешь в большом шкафу. А в малом я сверху сделал полки для тех вещей, которые можно просто раскладывать. А внизу место для чемоданов и сумок.
– О, это тоже хорошо – рационально. Нужно же, и в самом деле, спрятать куда-нибудь эти чемоданы.
Они вдвоём ещё немного времени уделили благоустройству комнаты, после чего Андрей сказал:
– Так, заканчивай дальше сама, а мне нужно идти на планёрку. Если тебе холодно, то подбрось в печку несколько брикетин, 3–4, не больше. Печь греет хорошо. Брикет в коридоре в ведре у нашей двери. Всё, я пошёл. Вернусь, поужинаем и будем лёжа на этой "шикарной", как ты выразилась, кровати смотреть телевизор.
– Та-а-а, – протянула Валерия. – Очень уж интересно смотреть немецкие передачи, ничего не понимая.
– Сегодня ты как раз всё поймёшь.
– Это ещё почему?
– Потому что сегодня у нас четверг, а по четвергам вечером как раз транслируются программы русского телевиденья. И сегодня должен будет идти какой-то наш, художественный советский фильм.
– Ой, вот это здорово! Я уже в Полтаве месяц ничего не смотрела, а здесь в первый же день советский фильм. Класс! И часто идут советские передачи?
– Увы, не часто, но пару раз в неделю можем их смотреть. Ты знаешь, порой и немецкие передачи неплохие. Конечно, нужно привыкнуть. Ладно, я опаздываю, – и Андрей убежал на планёрку.
После планёрки он зашёл в магазин и купил кое-какие продукты. Он то мог ещё поужинать и в столовой, но Лера тоже не обедала, да и нужно было привыкать к домашнему приготовлению пищи. Он купил также и бутылку красного вина. Вечером они отметили долгожданный приезд Валерии и с удовольствием посмотрели по телевизору фильм. Спать они легли рано, Лера здорово устала за эти четыре дня вынужденного путешествия. Так началась совместная жизнь Морозевичей вдали от родины, в маленьком военном городке.
Утром Морозевичи вдвоём позавтракали и отправились в штаб ОБАТО. В канцелярии старший лейтенант Клюев встретил их довольно любезно:
– Прибыли, значит. Поздравляю. Вы пришли уже оформляться на работу? – спросил он у Валерии.
– Конечно.
Клюев забрал у Валерии паспорт и трудовую книжку.
– Так, я отметил, что вы прибыли. А на работу вы оформлены с понедельника, с 28-го марта.
– А сегодня что мне делать?
– Зайдите в медчасть, познакомьтесь со своим начальством, представьтесь ему. Решите вопросы графика работы, кабинета и прочее. Вопросов у вас на первых порах будет, наверное, много. А потом отдыхайте до понедельника.
– Всё примерно так, как и предполагал Лукич, – подумал Андрей и обратился к Клюеву:
– Вадим Викторович, а у жены трудоустройство начинается не со дня пересечения границы?
– Увы, на неё это не распространяется. Вас вызывали лично мы, а вот вашу жену – это ваша инициатива.
– Всё понятно. Больше вопросов нет.
Морозевичи вышли из кабинета канцелярии в коридор, где Валерия спросила мужа:
– Теперь в санчасть?
– Погоди. Я хочу представить тебя заместителю командира батальона по тылу майору Лукшину, моему, да пожалуй, и твоему начальнику. Практически все служащие подчинены ему. Он хороший мужик. И в том, что ты сейчас здесь, его немалая заслуга. Был бы он только на месте.
Лукшин был в своём кабинете. Увидев Валерию, он тот час вскочил из-за стола и поспешил навстречу. Андрей представил их друг другу и, одновремённо подумал о том, что как же всё-таки отлично воспитывают офицеров в военных училищах – среди гражданских лиц редко приходилось видеть, чтобы мужчина так схватывался, когда в комнату заходит женщина.
– Рад с вами познакомиться, – обратился майор к Лере. – Как вы доехали? Каковы ваши первые впечатления?
– Спасибо, всё нормально. А впечатления очень хорошие.
– Устроились на работу?
– Меня зачислили, но выходить на работу уже с понедельника. А сейчас пойдём с Андреем знакомиться с местом моей будущей работы.
– Тогда не буду вас задерживать. Андрей Николаевич, у вас очень красивая жена и, чувствую, хороший человек. Берегите её.
– Спасибо, Борис Михайлович. Постараюсь уберечь. Но она себя в обиду не даст.
Далее Андрей проводил жену к санчасти, представил её начальнику и поспешил к себе в мастерскую, сказав Лере перед своим уходом:
– Ключ от комнаты у тебя есть. Я думаю, что дорогу ты найдёшь. Здесь заблудиться сложно – городок невелик. Походи по городку, погуляй, познакомься с городком. Зайди в магазины, осмотрись. И отдыхай. На обед я приду.
ГЛАВА 38. Тяготы работы
У Андрея были свои проблемы. В средине марта участились жалобы на то, что холодно в некоторых домах. Собственно говоря, таких домов было два: общежитие? 1 и дом? 3, в котором жил Лукич, а в полуподвальном помещении находилась мастерская теплохозяйства. Для Андрея это не было особой новостью. Лукич и раньше говорил, что у него в комнате прохладно, а о том, что также не жарко в общежитии Морозевич знал из собственного опыта. И холодно было не только в самом общежитии, а, естественно, и этажами выше. Жалобы от жильцов этих домов, как говорили слесари, были и раньше (ещё и до приезда Андрея), но в этом году обильный поток жалом иссяк по причине переменчивой погоды, которая всё же больше была тёплой. Но конец холодного февраля и начало марта вновь заставили вспомнить о проблемах отопления в этих домах. Поэтому ещё сегодня, в пятницу, а затем также и в понедельник Андрей со слесарями, как и в случае с санчастью, провели капитальное исследование дома, в котором располагалось общежитие? 1 – от его подвала и до чердака. Никаких неполадок в системе отопления обнаружено не было, но в жилых комнатах, действительно, было прохладно.
Андрей размышлял о создавшейся ситуации ещё до обеда во вторник, но уже когда он шёл вечером на планёрку, у него созрело решение. Оно было довольно непростое, и он не знал, как к нему отнесётся Лукшин. А планёрку они начали именно с вопроса об отоплении в общежитии. Андрей только рад был этому – все начальники служб в сборе и смогут высказаться, возможно, что-либо предложить.
– Товарищ майор, – начал свой отчёт Андрей, – неполадок в системе отопления мы не обнаружили. Но греют радиаторы и в самом деле неважно. Расстояние от котельной довольно большое, теплоизоляция труб очевидно не ахти какая и теплоноситель остывает. В котельную же возвращается вообще чуть тёплая вода.
– Вы предлагаете вскрыть теплотрассу и заново изолировать трубы?
– Нет, боюсь, что этим горю не поможешь.
– А что же тогда?
– Борис Михайлович, перед тем, как я озвучу своё предложение, могу я задать вам один вопрос?
– Пожалуйста, задавайте. Что вы ещё спрашиваете, когда это я запрещал вам задавать вопросы.
– Я просто боюсь, что вы на него не сможете ответить, – улыбнулся Морозевич. – И не потому, что не захотите, а потому, что, вполне возможно, вы и не знаете на него ответа.
– Вот даже как? – удивился майор. – И что же это за вопрос?
– Я с ребятами обследовал подвал общежития. Там находятся старые заброшенные котлы. Там раньше была котельная, но её почему-то и, пожалуй, давно вывели из эксплуатации. Так вот мой вопрос – не знаете ли вы, что стало причиной этому?
Видно было, что Лукшин растерялся:
– А вы оказывается правы, – сокрушённо покачал головой он. – Я, действительно, не знаю ответа на этот вопрос. Понятия не имею когда и зачем котельную остановили. Лукич у нас тоже старожил. Вы об этом что-нибудь знаете? – обратился он к Грицюку.
– Ничего, – покачал головой Лукич. – Я, честно говоря, даже не знал, что там имеется котельная. Я как-то в подвал и не заглядывал.
– Ладно. Андрей Николаевич, а как это касается вашего предложения?
– Самым непосредственным образом. Моё решение кардинальное, но боюсь, что без него не обойтись. Я предлагаю восстановить эту котельную.
В кабинете повисла тишина, которую никто пока что не пытался нарушить.
– Андрей Николаевич, – наконец неуверенно решился Грицюк, – но вы же знаете какие это затраты – возводить новую котельную.
– Затраты, я думаю, не такие уж и большие, Михаил Лукич. Ведь новую то котельную как раз строить не нужно. Она готова. Далее, я буду по порядку излагать. Вытащить оттуда всё старое оборудование труда не составит, с этим за несколько дней, ну, пусть за неделю справятся и 3–4 солдата. С моей, конечно, помощью – сварка нужна будет, да и слесарям там работа по демонтажу найдётся. Но это пустяки. Лукич, в принципе летом мы примерно так же отремонтировали не одну котельную, только оттуда разный металл не выносили.
– Согласен. А котлы, трубопроводы, насосы, радиаторы.
– Рассказываю далее. Теплотрассу мы трогать не будем, так же как и отопительные приборы. Трубы в теплотрассе на этой линии заглушим – тогда и другие дома действующая котельная будет лучше обогревать. Новая же котельная будет отапливать этот жилой дом и клуб. Вы же знаете все, что нередко и в клубе тепла нет. Что касается радиаторов, то, как показал ремонт в санчасти, они как раз меньше всего повинны в плохом отоплении. Что тогда остаётся – установить новые котлы. Половину одного из котлов я могу вам хоть завтра собрать из имеющихся у нас секций. Не такое это уж сложное дело. В эту котельную, нужно будет, я думаю, всего два котла – один рабочий и один резервный, который можно будет задействовать в очень уж сильные холода. Хотя их, как я понял, здесь и не бывает. Установить два новых котла – затраты не такие уж и большие. Да, насосы, действительно, понадобятся – и циркуляционные, и питательные. Ну, не без этого. Но это единовременные затраты, которые потом с лихвой окупятся.
– А ещё одна бригада кочегаров?
– Вы знаете, у меня есть подозрение, что как раз из экономии и закрыли эту котельную. Ну, и доэкономились в итоге. Кроме того, мы установим там водогрейные котлы, и тогда эту котельную, я думаю, да ещё и с удовольствием, согласится обслуживать всего один солдат-кочегар. У нас есть два таких очень хороших положительных примера. Разве есть нарекания на того же Рустама Исмаилова?
Снова наступила тишина. Каждый, наверное, осмысливал сказанное Морозевичем. Теперь уже тишину нарушил Лукшин:
– А вы знаете, мне нравится предложение Андрея Николаевича. К тому же он прав – если своими силами очистить котельную, а это мелочь, то затраты окажутся не такими уж большими, тем более, если не менять радиаторы. Ведь основная задача всех наших служб это создание нормальных жилищных условий тем, кто выполняет свои боевые задачи, стоя на защите Родины. А какие уж тут нормальные условия, если в квартире холодно. Будет ли думать об этих задачах офицер или прапорщик, если у него от холода будет болеть ребёнок? Так что считать в этом случае затраты – дело неправильное, – Лукшин немного помолчал, а затем добавил. – Я вот только не пойму, а почему бы и здесь не поставить насос, как в той же санчасти? Этот прошедший месяц показал, что он хорошо справляется со своей работой.