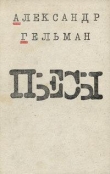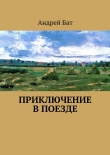Текст книги "Не повторяется такое никогда!"
Автор книги: Александр Ройко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Субботнее время тянулось как-то очень медленно. И всё это было потому, что нечем было заняться. Книги прочитаны, газеты пролистаны, до кино в клубе ещё далеко, идти играть в бильярд не хотелось – он уже немного приелся, и пора было сделать перерыв. Телевизора, как это часто бывало в союзных общежитиях, в Ленинской комнате не было. Не было его там по простой причине – потому что и самой Ленинской комнаты тоже не было. Вот как-то не предусмотрели её "туповатые" немцы, возводя этот дом, который уже значительно позже был приспособлен под общежитие? А перестраивать общежитие сейчас, означало бы уменьшить полезную жилую площадь. А жилая площадь для служащих была, в общем-то, ограничена. Их общежитие не было исключением в этом плане. Правда, Лукшин уже не один раз говорил, что это всё из-за расхлябанности самого коменданта общежития – у того (точнее, неё), мол, нет никакого плана поселения, люди заселяются как попало, при этом не учитывается, кто, когда приехал и кто когда уедет. Люди селятся вместе только по принципу принадлежности к одной для них службы. А это вовсе не является критерием, чепуха это всё. Он всё грозился навести в общежитии порядок, вот только руки у него не доходят, других работ полно. Но в последнем разговоре с комендантом, который краем уха слышал и Андрей, майор сказал, что не далее как к Новому году порядок в общежитии он наведёт. Андрей вернулся к предыдущей мысли о телевизорах и решил, что и они не очень то способны улучшить ситуацию со свободным временем, ведь русские передачи транслировались только пару раз в неделю. Вот и приходилось, как сейчас, лежать на койке, подложив руки за голову и слушать по радио русскую "Волну". Это было единственное что-то постоянно новое. Андрей даже прошёлся по 2-3-м котельным, поверяя работу кочегаров. Сделал он это тоже, скорее для того, чтобы приблизить вечер и сходить хотя бы на старый кинофильм. В котельных же всё было в порядке.
Примерно в таком же плане прошло и воскресенье. Зашёл, правда, Александров, они немного поболтали, и он ушёл. При этом ни от кого не поступало предложений сходить, например, "К Грише" или в кафе – пиво, когда стало не жарко, тоже потеряло свою привлекательность и актуальность. Правда, в воскресенье в общежитии появилась новость – после обеда вернулся из отпуска Кирзонян. Его и так редко можно было увидеть унывающим или просто расстроенным, а после отпуска он, даже как будто помолодевший, просто излучал положительную энергию. Вечером он заскочил к Андрею и пригласил того к себе в комнату. Андрею не очень-то хотелось идти, он понимал, для чего коллега его приглашает, но и не пойти было неудобно – ведь, действительно, коллеги и работать им бок о бок. Конечно, как и догадывался Андрей, у Григория уже был накрыт стол с союзной водкой и вкусно пахнущей домашней снедью. Григорий даже привёз из Союза буханку настоящего, приятно пахнувшего (хоть он был и не самый свежий) чёрного хлеба, по которому здесь все соскучились. Дело в том, что немцы в основном употребляли белый пшеничный хлеб, не кирпичиком, а в виде широкого и толстого батона или же в виде круглой булки. Он у них, надо отдать должное был неплохой. А вот чёрный хлеб они употребляли мало, но если и употребляли, то выпекать его они не умели. Он у них получался каким-то крошащимся, сыпался как опилки, да и по вкусу, наверное, смахивал на те же опилки.
Это было немного непонятно в ракурсе того, что, вообще-то Германию в Европе называют "хлебной нацией" – в целом в ней выпекается более 100 наименований чёрного хлеба и несколько сот кондитерских изделий из белой пшеничной муки. Возможно, это более касается ФРГ, но традиции то до войны были общие. Правда некоторые удивляются: откуда в Германии такой интерес к хлебу, если в ресторанах и кафе хлеб к горячим блюдам обычно даже и не подаётся. Немцы также и суп, и второе едят без хлеба. Поэтому туристам, особенно из СССР, приходится официантам специально напоминать о хлебе. Но дело в том, что хлеб – это основа немецкого завтрака и ужина. Конечно, какой же завтрак без хлеба и булочек? Стоять вечером или, тем более, утром у плиты эмансипированные немецкие женщины не желали. В большинстве семей домашний ужин – это бутерброды, да разве что ещё салатик. А бутерброды – это не обязательно один только белый хлеб. Взять хотя бы те же бутерброды из сырого фарша. Это вообще была для Андрея загадка – как можно есть сырое мясо? Правда это было не совсем сырое мясо – это был именно сырой фарш, и не просто фарш, а свиной фарш и, как говорили, молодых свиней, у которых ещё нежное мясо.
Дело в том, что немцы, действительно, готовили бутерброды из свежего свиного фарша, не просто свежего – свежайшего, из мяса только что забитого поросёнка. Ни мясо, ни сам фарш не мог быть, к примеру, позавчерашним, и заморозке в холодильнике он не подлежал. Вырезали кусок мяса из только что разделанной молодой свиньи, приготовили фарш, намазали им хлеб и к столу бутерброды. Завтра эти бутерброды уже можно выбросить. Фарш, конечно, присаливался и сдабривался специями, но не более того. Андрей видел такие бутерброды, и выглядели они довольно аппетитно – нежно-розовый фарш тонким-тонким слоем на чёрном хлебе. Было похоже на бутерброды с союзным мясным фаршем (но не сырым, конечно) из консервных банок "Завтрак туриста". Те, кто рискнул попробовать эти немецкие бутерброды, говорили, что довольно вкусно, но Андрей так и не решился отведать эту диковинку.
Возможно, чёрный немецкий хлеб невкусный был из-за того, что большинство его сортов готовятся из грубой непросеянной ржаной муки или потому, что немцы стараются не использовать для такого хлеба дрожжи, которые, как они говорят, просто "вздувают хлеб"? Ответа на эти вопросы Андрей не знал. Он также слышал, что есть очень даже вкуснее сорта чёрного немецкого хлеба, но ему такие что-то не попадались или же их не завозили в гарнизонные магазины. Так или иначе, но практически все скучали по-настоящему ржаному русскому (или украинскому) хлебу.
Всего отмечали приезд Кирзоняна четыре человека, кроме их двоих там ещё присутствовали и его напарники по комнате. Все вместе они выпили, закусили и даже закурили, хотя курение в комнатах общежития не приветствовалось. Потом они начали делиться своими новостями, точнее делился в основном Андрей. Григорий расспрашивал его о том, что произошло в городке за время его отсутствия. А как раз за этот месяц ничего-то и не было, кроме, разве что, поездок в Росток и Дрезден. Но это Кирзоняна мало интересовало, ему нужны были новости гарнизонные. Сам же он тоже ничего не мог рассказать своим собутыльникам по простой причине – те почти ничего не знали о его союзной жизни. Как они поняли, никуда Кирзонян не ездил – ни на море, ни куда-нибудь ещё, а просто слонялся по своей Молдавии (правда, по городам), от одного дружка к другому, попивая вместе молодое молдавское вино. Однако он рассказал немало разных союзных побасенок, а потому просидели они довольно долго – яств на столе хватало. Григорий, конечно, был компанейский парень, только вот о своей личной жизни он предпочитал умалчивать.
В понедельник, кроме как за столом в столовой, Андрей с Кирзоняном не виделся – очевидно, после отпуска тот наводил шорох в своём хозяйстве. А вот уже во вторник после обеда Григорий сам разыскал Андрея, отвёл в сторонку и начал разговор:
– Так, справка ещё при тебе?
Андрей, конечно же, сразу понял о какой справке идёт речь.
– Конечно же, не при мне, – улыбнулся Андрей. – Зачем я её постоянно таскать буду.
Но коллега юмора не понял:
– Да я не о том. Я понимаю, что ты её в кармане не носишь. Но она сохранилась?
– Конечно, как и договаривались, – уже серьёзно ответил Морозевич. – А ты что, деньги таки привёз?
– Привёз, правда, не все 300 рублей, а где-то 200 с хвостиком.
– Но справка то на 300 рублей.
– Вот в том-то и дело. Конечно, немцы поменяют и 200 или те же 220, но лучше, чтобы не возникали вопросы, всё же именно 300 рублей. У тебя что-нибудь есть?
– Естественно, 30 рублей.
– Хорошо, а кроме них? Нужно всё же дотянуть до 300 рублей.
– Откуда? Я же тебе говорил, что у меня кроме этих 30 рублей больше и копейки русской нет – всё в сберкассу сдал. Спроси у своих слесарей.
– Понимаешь, именно у них то я и не хочу спрашивать.
– Почему?
– Да всё потому же. Если кто-нибудь сболтнёт, то ясно будет, что я собираю деньги – я ведь только вернулся из отпуска. А мне нужны такие разговоры? Подумают, что я Бог знает, чем занимаюсь.
– Да, ты прав. И что же делать?
– Ты аккуратно спроси у своих. Только не связывайся с одесситами. У тебя есть ведь серьёзные ребята.
– Да, пожалуй, человека 4–5 серьёзных и неболтливых есть. Да вон те же Батурины. Из них слова не вытянешь.
– Батурины прекрасная кандидатура, но я боюсь, что они, как и ты, и копейки не провезли. Они не разговорчивые, это да, но они пугливые.
– Ладно, спрошу, конечно, и у них, и некоторых других. Но хотя бы через пару дней, чтобы это не связывалось с твоим приездом.
– Правильно. Я согласен, спешить некуда. Давай действуй.
Начал Андрей разговоры о советских деньгах всё же не с братьев Батуриных, а с Николая. Назавтра, когда все слесари и газосварщики разошлись после работы по домам, он, тоже направляясь с Кравченко в общежитие, на полдороге остановился, закурил (закурил и Николай) и спросил:
– Коля, у тебя случайно не сохранились советские деньги?
– Рублей 10–12, наверное, есть. А что?
– Я думаю, что тебе не помешают лишние 30–40 марок?
– В принципе, конечно, не помешают. А что?
– И я так думаю. Переговори с надёжными, я имею в виду, не болтливыми ребятами и спроси их об этом. Есть возможность обменять русские деньги на марки. Что это за возможность, я тебе позже расскажу. Только не связывайся с одесситами.
– Это я и сам понимаю, – усмехнулся Николай. – Хорошо, попробую разведать.
Андрей пришёл к себе в комнату, разделся, пошёл умыться и прилёг на кровать. Немного позже к нему обратился по какому-то вопросу Дмитрий (Алексей был на смене). Они немного поговорили, и Андрей постепенно свёл беседу к деньгам, после чего задал такой вопрос:
– Дмитрий, а ты с братом все русские деньги в Бресте положил на книжку? Или это я такой глупый, что всё до копейки положил. Некоторые провозят небольшие деньги и ничего – меняют их потом у поляков на марки.
– Нет, мы не провезли, – грустно покачал головой Дмитрий. – Мы, как и вы, всё положили на книжку.
– И то легче, – улыбнулся Андрей. – А то я думал, что один такой. Оказывается, что не один. Всё же есть компания.
На этом разговоры Андрея с Дмитрием о деньгах прекратились. Он не возобновлял и разговор с Николаем, тем более что в связи с похолоданием прибавилось работы. Теперь слесари уже не просиживали в мастерской, а мотались по объектам, а с ними, конечно же, и Николай – ему сейчас было не до денег.
Однако, работа работой, но было ещё и личное время, так же как и личная жизнь каждого. С наступлением зимы поутихли весёлые гулянки по вечерам – больше времени служащие начали просиживать дома, но нередко и не у себя дома. И в этой связи всё больше поползло по городку сплетен о том, кто и где был вчера или позавчера вечером или же ночью. В этом плане, конечно, наибольше всяких разговоров крутилось вокруг "Парижа" – женского общежития. И нельзя сказать, что эти разговоры были абсолютно беспочвенны, как говорится – нет дыма без огня. А дымок то был и порой довольно удушливый. Ни для кого не было секретом то, что многие служащие и неженатые военнослужащие проводят свой досуг там. Ну а где им было его проводить? Чем могли, например, заняться те же служащие из "Лондона", кроме игр в бильярд, шахматы, шашки или карты – в домино они играли только на работе. И это совместное времяпровождение особей разных полов было вполне естественным и в большинстве случаев ничего предосудительного в том не было. Женской половине как раз в плане досуга было ещё сложнее – во все вышеперечисленные игры они не играли. А чем они ещё могли заниматься – сидеть вышивать крестиком? А они во все времена ощущали повышенную потребность во внимании. Однако порой это повышенное внимание закручивалось в длительные флирты, а то и в крутые романы. Молодые жёны офицеров знали обо всех соблазнах "Парижа" и, как могли, оберегали своих мужей – ведь некоторым девчонкам из "Парижа" впору было на подиумы выходить. Многие ведь и приехали с тайной мыслью возвратиться в Союз уже вдвоём.
Все эти мысли прокручивались в голове Андрея во время праздничного концерта в честь Дня Конституции, который проходил накануне в субботу. Конституция СССР была принята VIII-м чрезвычайным съездом Советов 5-го декабря 1936-го года. Конституцию часто называют "Сталинской конституцией", потому что, как слышал Андрей, в работе над текстом основного закона СССР непосредственное участие принимал И.В. Сталин. По замыслу авторов эта Конституция должна была отразить важный этап в истории Советского государства – построение социализма, за что её ещё иногда называли "Конституцией победившего социализма". Сейчас, сидя в зале, никто из присутствовавших на концерте не догадывался, что уже в следующем году 5 декабря станет обычным рабочим днём. Андрей пошёл на этот концерт ещё послушать Александрова, который должен был принимать участие в этом концерте.
И вот, пока шли выступления других самодеятельных артистов, он, увидев одну парочку, и размышлял о том, как в гарнизоне его обитатели проводят свой досуг, главной частью которого чаще всего и становились такие праздничные концерты. В обычные же вечера рабочих дней или в выходные каждый развлекался так, на что он был горазд. И одним из таких развлечений и было совместное времяпрепровождение жильцов "Лондона" и "Парижа". Конечно, о молодых офицерах, а, тем более, женатых, слухов было немного. А прославился своими подвигами в "Париже" как раз парень из хозяйства Морозевича, один из замеченной Андреем парочки. Это был новый кочегар Анатолий Гуров, который только летом приехал. Отягчающим обстоятельством, как говорится, было то, что он был женат. Это был стройный, видный, да и просто красивый молодой человек и от девчонок отбоя не было, несмотря на его обручальное кольцо на пальце, которое он и не думал снимать. Покрутив небольшие романчики то с одной, то с другой девчонкой, он, в конце концов, остановил свой выбор на одной (под стать ему) красивой девице и с той поры в городке его видели только с ней. Роман был очень серьёзным, и Андрей надолго прописался в Париже. Он со своей подругой ничего ни от кого и не скрывал. Когда кто-нибудь начинал упрекать Андрея за такие поступки, он спокойно отвечал:
– Это моя вторая жена.
При этом невозможно было понять – шутит молодой человек или нет. Многие осуждали девчонку – что она себе думает, неужели рассчитывает, что это всерьёз. А если всерьёз, то, как она решилась разбить чужую семью, ведь на чужом несчастье своего счастья не построишь. Однако многие девчонки и откровенно завидовали той – такого парня отхватила. Андрей удивлялся и думал о том, что же будет, когда приедет из Союза жена Гурова, да и будет ли он её вообще вызывать. Но об этом пока было ещё рано думать.
Во вторник, ровно через неделю после первого разговора Григория о справке, когда никого не было поблизости, к Андрею подошёл Николай и сказал:
– Андрей Николаевич, деньги я собрал. Не так много, конечно, но это, наверное, и всё. На большее по-моему рассчитывать не следует.
– И сколько же ты собрал?
– Если не учитывать копейки, то 38 рублей.
– Ладно, нормально, давай их мне.
– А как вы их менять будете? У поляков? Так они мало дают.
– Нет, не у поляков. Буду менять официально, – и Андрей рассказал историю со справкой и о Кирзоняне. – Только ты не распространяйся.
– Обижаете, Андрей Николаевич, когда это я болтал лишнее.
Вечером Андрей зашёл к Кирзоняну и отдал собранные деньги.
– Всё равно немного не хватит.
– Но это всё, больше не собрать, если только не вводить в курс дела других.
– Да понятно.
Григорий посчитал все деньги вместе, и у него получилось 291 рубль и 27 копеек.
– Копейки, конечно, отбросим. Немцы их менять не будут. Не знаю, будут ли менять и 1 рубль, но попробую. А остальные скажу, что потерял. Всё, неси справку, я завтра же и поеду в Стендаль. А там конец года будет, Рождество – немцы работать не будут.
Андрей принёс Григорию злосчастную справку и отправился к себе в комнату.
ГЛАВА 30. Всё ближе Новый год
Новый рабочий день не принёс ничего нового. Правда, впервые за долгое время появилась внеплановая работа у газосварщиков – дал течь один из паропроводов в котельной. Поэтому пришлось почти загасить (но не совсем, чтобы можно было затем быстро довести давление до нормы) на время огонь в топке котла и заняться ремонтом. Когда Колыванов начать заваривать трубу, то оказалось, что дефектен участок трубы примерно в 30 см – пришлось его весь менять и это отняло больше времени, нежели предполагалось вначале. Андрей подумал о том, что хорошо, что течь дал паропровод, а не трубопровод, где теплоносителем являлась горячая вода. Тогда пришлось бы сливать воду из всей системы, а после ремонта заполнять вновь – и неизвестно, справились бы они за один день. Точнее, за целый день то справились бы, но сварщикам пришлось бы работать в две смены. Но участки с горячей водой редко выходили из строя. В системах водогрейных котлов вода в трубопроводах находилась практически круглогодично. Её сливали только один раз. Летом в один из дней в систему добавляли специальную жидкость (она поставлялась в бутылях подобным тем, в которые разливают кислоты) с присадками, которые очищали с трубопроводов накипь. Разогревали котлы, и воду с этой жидкостью в течение 2-3-х часов прогоняли через систему, после чего всю воду из системы сливали, а систему тут же заполняли свежей водой. Когда Андрею пришлось выполнять эту работу впервые, он подумал о том, как неразумно поступают летом с системами отопления в Союзе. Ведь там летом практически изо всех отопительных систем сливают воду и ведут ремонт. А заливают воду в системы только осенью за пару недель до начала отопительного сезона. А для влажных пустых трубопроводов не большего несчастья, нежели от соприкосновения с кислородом воздуха – они тут же начинают ржаветь. Конечно, и здесь летом, доводилось ремонтировать трубопроводы и сливать из них воду. Но сразу же после окончания ремонта в систему заливали воду и не держали сколь-нибудь длительное время трубопроводы без воды.
Вечером к Андрею заглянул Кирзонян и вызвал его в коридор. Он вручил ему с десятое бумажек – марок ГДР.
– Здесь твоим ребятам, всё по счёту и тебе с премией, так сказать.
– Да мне не надо никакой премии. Я ведь только 30 рублей давал.
– Ты больше всех давал – справку. Не будь её, то и денег не было бы. Так что, бери. Я никаких возражений и слушать не хочу.
– Ну, а как прошёл процесс обмена – без проблем?
– Абсолютно, – Григорий улыбнулся, – как говорится, я им стулья – они мне деньги. Никто никаких вопросов не задавал, да и зачем – вся отчётность соблюдена.
На следующий день Андрей отдал Николаю причитающиеся марки. У кого он их одалживал, он не знал, так же как пока он и не узнал, где же в Стендале производится обмен рублей на марки. Так благополучно завершилась эпопея со справкой, выданной Андрею ещё в конце мая в Бресте.
В первой декаде декабря стрелка показания термометра снизились практически до нуля градусов (это днём, а ночью вообще ниже нуля) и в хозяйстве Морозевича начали возникать отдельные более серьезные проблемы. Слесарей всё чаще стали вызывать в жилые дома – в штабе в специальном журнале, которые начальники служб ежедневно просматривали, начали появляться жалобы, что в квартирах холодно. Однако слесари, которые приходили на место очередного происшествия никакой вины службы теплохозяйства не устанавливали. Но когда записи в журнале начали увеличиваться, Лукшин на очередной планёрке обратился к Морозевичу:
– Андрей Николаевич, и вы, и я доверяем вашим слесарям, люди они, конечно, квалифицированные. Но нужно, всё же, разобраться в этом вопросе – обоснованные эти жалобы или нет? Я попрошу вас, выкройте время и сами заскочите в пару таких квартир. В чём же там, всё-таки, дело?
Андрей пообещал майору разобраться, взял на заметку для себя 3 квартиры и на следующий же день после, так называемого, "развода" рабочих по участкам, направился по одному из адресов.
На его звонок дверь открыла молодая женщина в домашнем халате и тапочках на босу ногу. Андрей представился и объяснил цель своего визита. Андрей снял свою куртку, повесил её и кепку на вешалку в прихожей, и женщина провела его в комнату.
– Что у вас стряслось?
– Холодно в квартире, – коротко ответила женщина.
– Извините, я этого не ощущаю.
– Конечно, не ощущаете. Вы только что с мороза, да ещё в тёплой куртке.
– О каком морозе вы говорите? На улице температура, хоть и не на много, но всё же выше нуля градусов.
– Ну, я не так выразилась – с холода.
– Хорошо, а какая у вас температура в квартире?
– Я не мерила.
– А градусник у вас есть? Я имею в виду комнатный.
– Есть, в другой комнате.
– Отлично. Чтобы я у вас не натоптал, вас не затруднить принести его сюда.
– Сейчас принесу.
Женщина ушла и через минуту принесла спиртовый градусник на деревянной досточке. Андрей глянул на градусник и сказал:
– Я плохо вижу, у вас зрение, наверное, лучше – скажите, пожалуйста, сколько там градусов?
– Всего двадцать один, – ответила женщина, глянув на градусник.
– И вы считаете, что этого мало, я так понимаю?
– Конечно, мало. Холодно ведь.
– Извините, а вы не скажете мне, чем вы занимались до моего прихода?
Женщина изумлённо уставилась на Андрея:
– Лежала и читала книгу. А что это запрещено? – уже резко спросила она.
– Нет, ну что вы. Можете, естественно, заниматься чем угодно, вы ведь свободный человек. А вы, кстати, знаете, какая допустимая нижняя температура в жилых квартирах?
– Нет, и какая же?
– Нижняя допустимая температура в жилых помещениях составляет 18 градусов Цельсия, но не более 22-х. Исключение составляет угловая комната, там минимальная температура должна быть не менее 20 градусов. У вас же нет угловой комнаты. И только в ванной температура должна быть 25 градусов. У вас в ванной холодно?
– Нет. А какая же тогда температура должна быть в садиках и школах, если в квартире всего 18 градусов?
– В садиках: в спальнях температура точно такая же, как и в жилых квартирах, а вот в игровых комнатах повыше – 21–23 градуса, но никак не более 24-х градусов. Теперь о школах, там температура воздуха в классах должна быть 17–20 градусов, в мастерских 16–18 градусов, а в спортивном зале – всего 15–17 градусов. Даже в лечебных заведениях температура не должна превышать 22-х градусов. Так что у вас температура в квартире как в больнице или детском садике.
– Этого не может быть! Даже в садиках всего 22 градуса? Неужели всё, что вы сказали верно?
– Может. И вы легко сумеете, если захотите, навести справки. Или просто зайдите ко мне на работу, и я вас в этом смогу убедить документально. Поэтому, я убедительно прошу – не отрывайте моих людей по пустякам. Работы у них и так много. Их раз-два и обчёлся, а сколько квартир в гарнизоне – вы представляете?
Женщина молчала. Андрей вышел в прихожую, оделся, попрощался с хозяйкой квартиры и направился по второму адресу. Картина там повторилась точь-в-точь, за исключением того, что в той квартире температура равнялась 220 Цельсия. В третью квартиру Андрей решил зайти после обеда. Для этого он захватил с собой стандартный градусник (вдруг в этой квартире его не окажется) и, главное, книгу с допустимыми нормами по теплу. Андрей ещё вчера, когда записывал адреса, обратил внимание, что все вызова в жилой дом лётного состава. Он не придал этому значения – возможно, и в самом деле этот дом плохо отапливается. Но теперь ему всё стало ясно. Все записи делали женщины, жёны лётчиков, самим же лётчикам было не до того, они служили. А вот их жёны мучались от безделья. Летом они ещё находили себе развлечения, а вот зимой им, действительно, помимо книг, сложно было найти себе занятие. Андрей не зря спросил хозяйку первой квартиры, чем она занималась до его прихода. Конечно, если целый день пролежать на диване, читая книгу, то ещё как можно замёрзнуть. Хотя по ней этого нельзя было сказать – пусть домашний халат и мог быть тёплым, но тапочки на босу ногу!
Поэтому в третьей квартире, чтобы в дальнейшем жёнам лётчиков не повадно было и дальше писать в журнале такие же записи, он поступил построже. В конце подобной беседы, после убедительной просьбы не заниматься в дальнейшем подобной ерундой, он добавил:
– Вы хотите, чтобы у ваших мужей были неприятности?
– А при чём здесь мой муж.
– А вот при чём. Вы знаете, что в Союзе за ложные вызова штрафуют? Я думаю, что знаете. Если необоснованно вызывать, например, скорую помощь или пожарных, то можно заплатить кругленькую сумму. Вы, я так понимаю, не работаете, а у вашего мужа что – много лишних денег? Если я обращусь по поводу ваших необоснованных жалоб к командиру полка, то я думаю, что вы прекрасно понимаете – он сможет легко наказать, но не вас, а вашего мужа. Между прочим, из других домов подобных жалоб не поступает, вы это можете проверить. Вам всё понятно?
– Понятно, – уныло протянула хозяйка квартиры.
– И ещё одно. Если бы я начал повышать у вас в квартирах температуру воздуха, то вам бы это влетело в копеечку.
– Это ещё почему?
– За перерасход угля, то есть брикета. Чтобы повысить температуру у вас в квартире, нужно лучше топить в котельных, по-простому больше брикета бросать в топку. Вам за что удобнее платить – за ложные вызовы или за перерасход брикета?
– Я не буду больше писать, – не поднимая головы, ответила женщина.
– Я очень на это надеюсь. И передайте, пожалуйста, о нашем с вами разговоре вашим подругам. Чтобы они не попали в подобную ситуацию.
– Хорошо, – тихо ответила женщина.
Когда на планёрке после работы Андрей рассказала обо всём Лукшину и остальным присутствующим, то хохот стоял неимоверный. Когда все немного успокоились, майор, удивлённо глядя на Морозевича, произнёс:
– Андрей Николаевич, глядя на вас, как-то сложно предположить, что в вас скрывается такой талант по убеждению офицерских жён.
– Борис Михайлович, а что мне оставалось делать? – развёл руками тот.
– Да я вас и не корю, всё правильно.
– Товарищ майор, а ведь он то прав, – начал Грицюк. – Ведь, в самом деле, большинство разных жалоб, не только по его хозяйству, высосаны из пальца, написаны просто от безделья жёнами офицеров.
– Это вы мне говорите, Лукич – офицеру, у которого тоже имеется жена?
– Простите, товарищ майор, я не хотел вас обидеть, я ведь… – начал оправдываться тот, но зам. по тылу перебил его:
– Да я не о том, какие там обиды. Я веду к тому, что прекрасно знаю ситуацию, когда жене нечем заняться. Она на тебя, конечно, жалобы не напишет, но головомойку может устроить ещё какую. Разве не так, Лукич?
– Совершенно верно, – засмеялся Грицюк. – А вот что касается взимания денег за ложный вызов и за перерасход брикета, то это хорошая идея – её можно взять на вооружение.
– Да ерунда всё это, – махнул рукой Лукшин. – Кто там с кого деньги будет взимать. Это же он придумал для устрашения.
– Я это прекрасно понимаю. Но жёны лётчиков то этого не знают, – хитро прищурился Михаил Лукич.
Расходились с планёрки все весёлые. Смех смехом, но после этого поток жалоб прекратился. Нет, жалобы, конечно, были и в дальнейшем, но они были единичные и, как правило, вполне обоснованные.
– Слушай Николаевич, – обратился к Морозевичу Лукич, когда они вчетвером шли к общежитию. – А вот с горячей водой у нас, как мне кажется, всё же не лады. Я имею в виду именно наш дом (Лукич проживал над мастерской теплотехников). Её назвать горячей очень сложно. Да и в квартире прохладно.
– Я это знаю, Лукич, в общежитии я тоже под такой водой моюсь. Здесь ситуация намного сложнее. И очень хорошо, что ваши жёны, я имею в виду в вашем доме, этого не знают. Да, температура горячей воды, да и радиаторы в квартире должна быть значительно выше. Но, насколько я знаю, это не только наша проблема. Эта проблема остро стоит и в Союзе. Нужно либо лучше её греть в котельных, а это огромный перерасход топлива, либо же, что более реально и, главное, целесообразно хорошо теплоизолировать трубопроводы. В данной ситуации выход только один – хотя бы в выходные дни лучше, как говорится, кочегарить. В котельных, где водогрейные котлы, это вполне реально, и я дам указание своим кочегарам. А вот там, где паровые котлы, боюсь это делать – как бы до беды не довести. Зазеваются кочегары, уйдёт вода из котла и тогда…
– Нет, нет, не нужно, – остановил его Лукич. – Это я к слову. Хотя у нас то в квартирах не жарко. Хорошо, что на улице ещё сравнительно тепло.
– И это я знаю, но здесь я пока что ничего вам ответить не смогу ответить. Нужно подождать нормальной зимы и посмотреть что будет, когда мы начнём топить посильнее.
Пока что разговор о том, что в доме, где проживал Лукич (дом? 3) не очень то тепло, был завершён. Но в последствии к этой теме Морозевичу пришлось вернуться на самом серьёзном уровне.
Тем временем уже шла средина декабря. Как-то в один из его дней Андрей, находясь в общежитии, услышал новую красивую песню, которую душевно и проникновенно пел звонким голосом какой-то певец. Общение с Родиной в городке, кроме пары русских передач по телевидению в неделю, происходило в основном через радиостанцию "Волга". Эта радиостанция обычно передавала программы советского радио, а в полдень ещё и некоторые немецкие программы с радио Москвы. Иногда, в большинстве случаев вечером, транслировались и программы её собственного производства. В песне, которую сейчас услышал Андрей (а начало он пропустил) шла речь о русском городе Вологда. Андрею так понравилась эта песня, что следующим днём на утреннем сборе с подчинёнными (а это были слесари, газосварщики и несколько свободных от смены кочегаров) он упомянул о ней, сказав, что, правда, не знает её названия.
– А она так и называется – "Вологда", – просветил его Борис Жуков. – Да, красиво её поют "Песняры", – добавил он.
– Какие ещё "Песняры", – возмутился его начальник. – Это явно не "Песняры". "Песняры" не поют подобные песни. Ведь основу их репертуара составляют обработанные белорусские народные песни. Ну, бывает ещё отдельные песни на стихи известных поэтов, таких, например, как Янка Купала или Роберт Бёрнс. У меня дома есть их записи. Ничего подобного там нет. Это же в первую очередь фольклорный ансамбль.