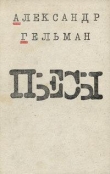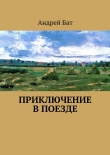Текст книги "Не повторяется такое никогда!"
Автор книги: Александр Ройко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Теперь Морозевич мог практически полностью переключиться на учёбу и инструктаж кочегаров. В конце августа подъехали ещё два новых кочегара, и теперь штат теплохозяйства был практически полностью укомплектован. Но начало обучения кочегаров, а точнее этап этому предшествовавший, оказался очень непростым. У Андрея на этом этапе возникло много проблем, ему довелось наслушаться от своих подчинённых немало возражений, пререканий, споров, а порой и просто не очень лестных слов в свой адрес. Речь шла о составе смен кочегаров. Андрей, чтобы несколько раз этим не заниматься и не "тасовать" кочегаров, решил один раз составить смены уже на новый отопительный сезон с учётом обучения молодых кочегаров сейчас в сентябре месяце. В силу того, что согласно КЗОТ кочегар, как и любой другой рабочий, не мог работать более 40 часов в неделю, в сутки было три смены, а всего (с учётом выходных) одну котельную должны были обслуживать 4 кочегара. Понятное дело, что из-за того, что работа сменная, то в один месяц может больше часов выходить, а в другой меньше. Поэтому ведётся суммированный учет рабочего времени, к примеру, по кварталу. Эта прописная истина пререканий и не вызывала, а вот сам состав этих четырёх кочегаров вызвал яростные споры. Одни не хотели работать с такими-то лицами, другие хотели работать только с иными и т. п. конечно, Андрей мог всё это решить своим распоряжением, несмотря на разные протесты. Но так поступать ему не хотелось. Такая работа из-под палки положительного результата не даст. И он по возможности шёл навстречу мелким просьбам, обязательно соблюдая при этом производственную целесообразность. В принципе они совместно практически утрясли все разногласия. Все, кроме одного – тройка одесситов категорически соглашалась работать только в одной котельной. Четвёртым членом их бригады они готовы были признать любого.
Андрей долго размышлял над этой ситуацией. Он, конечно, хотел развести одесситов в разные котельные, чтобы, так сказать, было меньшее их негативное, как он мог предполагать, влияние на сам процесс работы. Но, подумав как следует, он решил попробовать оставить их в одной связке. Это, как он решил, может иметь и свои положительные моменты. Во-первых, они будут лучше взаимозаменяемы – в случае чего один может по просьбе заменить другого, на что не в свою смену другие могут и не согласиться. Во-вторых, если случатся нарушения дисциплины или, не приведи Господь, какие-нибудь срывы в работе, то это случится только в одной котельной, и ответственность вся четвёрка будет нести вместе.
– Хорошо, – сказал Морозевич одесситам. – Я пойду вам навстречу, хотя мог бы так и не поступать. В моей власти назначать состав смен, и вы бы всё равно должны были подчиниться. Я иду вам навстречу, но с некоторыми условиями. Первое – я назначаю к вам четвёртого кочегара, опытного, который будет старшим вашей бригады, и все его распоряжения вы обязаны выполнять так же, как и мои, без всяких пререканий. А с вами, как я понял из обсуждения, ещё не каждый то согласен работать. Но по моему распоряжению будет. Согласны?
– Согласны, – хором ответили те. – Это первое условие, а какие ещё?
– Ещё есть только одно условие – при первом же нарушении дисциплины или непослушании вашего бригадира, я переформирую состав вашей бригады. При этом, уже не взирая ни на какие протесты. Ну что? И это принимается?
– Принимается, – уже не так бодро согласилась троица.
Почти все бригады работали в три смены с двумя выходными днями в неделю. Однако некоторые котельные работали по другому графику – одни полные сутки и затем 3 выходных дня. Трудовое законодательство не запрещает применение смены продолжительностью 24 часа. Статья Трудового кодекса разъясняет, что на таких условиях не могут привлекаться только отдельные категории работников. Например, на суточное дежурство нельзя направить работника моложе 18 лет. Но таковых в штате Андрея, естественно, и не было. Такой котельной в составе хозяйства была котельная, в которой работал Шмелёв. Афанасий сообщил, и это подтвердил Николай Кравченко, что так уж исторически сложилось ещё до его приезда. И все кочегары с таким графиком работы были согласны. Самому Афанасию, как подумал Андрей, это, конечно, было удобно – его жена работала рядом в лётной столовой и постоянно приносила ему еду, оставшуюся после каждого принятия пищи офицерами. Нет, это были не какие-нибудь объедки, а нормальная пища. Как и в технической столовой не все лётчики постоянно приходили в это заведение, и пищи оставалось много. Сначала всё же Морозевич хотел привести и эту столовую к единому знаменателю, но когда он сообщил об этой ситуации Лукшину, тот сказал:
– Не нужно. Пусть работают, как работали. Нареканий на их работу пока что не было. Действительно они работают так давно.
А вот ситуация с одесситами ему не очень понравилась.
– Вы уверены, что эта троица не создаст нам проблемы? Не нравятся мне они.
– Мне они тоже не особенно нравятся, в плане работы, – уточнил он. – Но я с ними за это время уже хорошо познакомился и в чисто человеческом плане они люди неплохие. Да, острые на язык, немного с ленцой, но в общем-то управляемы. – И Андрей рассказал ему о мотивации своего решения.
– Ну, смотрите, решать, конечно, вам. Но и отвечать тоже вам. Но мне это не очень нравится. Одна надежда, что они ничего не натворят, а если и натворят, то, действительно, только в одной котельной.
– Вот и я так подумал.
Когда все эти вопросы с составами бригад кочегаров были решены, началась и работа по получению производственных навыков молодыми кочегарами. В этом плане никаких возражений не было – ни со стороны молодых, ни со стороны опытных кочегаров. Все понимали, что это только пойдёт на пользу делу. Молодые кочегары работали в паре со старыми в течение двух недель, при этом одну неделю и в ночную смену. Но и этот небольшой срок позволил им овладеть нехитрыми навыками своего ремесла. Теперь Андрей мог облегчённо вздохнуть – всё запланированное успешно претворялось в жизнь. Но у него в голове давно крутилась мысль о брошенной фразе Лукича в отношении их мастерской-каптёрки – мол, какой она имеет неприглядный вид. И он в одно ближайшее утро, собрав перед выходом на объекты газосварщиков и слесарей, задал им вопрос:
– Ребята, вот мы с вами сидим здесь. А скажите мне, только честно, нравится вам наше место обитания, наша, так называемая, каптёрка?
– А что, каптёрка, как каптёрка, – сразу ответил Пампушко. – Нормальная.
– Ты в этом абсолютно уверен, Славик?
– Да ничего она не нормальная. Её то и сараем сложно назвать, – возразил газосварщику Николай. – Подвал захудалый и всё.
– Так он есть подвал, что от него ожидать, – вяло сопротивлялся Вячеслав. – Что можно сделать?
– Можно привести его в нормальный вид, чтобы сюда было приятно заходить. Смотрите, мы отремонтировали, практически уже отремонтировали, котельные и кочегарам теперь нравятся их рабочие места. Так почему мы должны с вами сидеть в этой грязи и неухоженности?
– Хорошо, Николай прав, – поддержали его другие слесари. – А как вы предлагаете облагородить каптёрку?
– Давайте вместе думать, – произнёс Морозевич. – Во-первых, я предлагаю разделить её на две части, площадь помещения это позволяет. Сделать некий тамбурок, где хранить все инструменты и материалы, а возможно и верхнюю одежду.
– Так зимой же холодно без курток, – отозвался Александр Колыванов.
– А холодно как раз потому, что вы заходите с улицы сразу в это помещение. Если будет тамбур, то здесь не должно быть холодно. Да, радиаторов в каптёрке нет, но посмотрите, какие здесь трубы отопления. Да здесь жарко может быть. Конечно, нужно отремонтировать окна и двери, чтобы нигде не дуло.
– А что, хорошая мысль, – поддержал начальника Юрий Гавриков, один из наиболее опытных слесарей. – Действительно, можно сделать нормальное помещение, побелить, покрасить, повесить там какие-нибудь картинки.
– Какие ещё картины, где ты будешь их брать? – удивился другой слесарь.
– Я сказал картинки, а не картины – иллюстрации картин. Их можно взять в клубе из старых журналов. В "Огоньке", например, есть довольно большие – на целый разворот.
– А у меня есть большая карта Советского Союза, её собирались выбрасывать, а я подобрал, – заявил Николай.
Тут уже все наперебой стали высказывать свои предложения по поводу благоустройства мастерской. Андрей слушал их с улыбкой, а когда идеи исчерпались, спросил:
– Я так понял, что решение по поводу ремонта каптёрки принято единогласно, да? – он взглянул на Пампушко.
– Принято, – улыбнулся уже тот. – Только вот кто этим заниматься будет, и дадут ли нам все необходимые материалы?
– Я уверен, что материалы дадут. Я поговорю с Лукичом. Их здесь во много раз меньше нужно, чем выписывалось для ремонта котельных. А что касается того, кто будет этим заниматься, то отвечаю – мы с вами, сообща. И я в том числе, ведь это и моё рабочее место. Я, конечно, выбью у Лукшина одного-двух солдат, но всё же управлять этим процессом придётся нам самим. Солдаты ведь будут делать только то, что им скажут. А вот мы должны проявить свою фантазию и смекалку.
– Да это понятно, – поддержал его Гавриков. – Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, то нужно самому засучить рукава.
Расходились на рабочие объекты ребята явно в хорошем настроении, по дороге ещё что-то обсуждая. Андрей не стал дожидаться вечерней планёрки, а решил поговорить с Лукичом прямо сейчас. Он разыскал его и после приветствий тот, хитро улыбнувшись, спросил его:
– Что это ты ко мне пожаловал? Работу мою проверяешь или что-то тебе самому позарез стало нужно?
– Позарез-не позарез, но, действительно нужно. У меня к вам серьёзный разговор.
– Давай говори, слушаю. Чем смогу – помогу.
Андрей напомнил ему разговор о мастерской в тот раз, когда он впервые завозил материалы начальнику теплохозяйства.
– Помню тот разговор. Ты что, хочешь заняться её ремонтом?
– Хочу.
– Давно пора. А от меня что ты хочешь? Выписывай материалы и ремонтируй.
– Лукич, понимаете, материалы то будут сплошь одни строительные. В КЭЧ мне как начальнику теплохозяйстава вряд ли их дадут. Дадут, конечно, куда они денутся, но мурыжить будут долго. Кроме того, я хотел с вами посоветоваться в плане самих работ. Вот, например из чего мне делать перегородку – из кирпича или из досок. Из досок всё же будет, наверное, прохладно.
– Нет, только не из кирпича, – уверенно заявил Грицюк. – Твоя мастерская довольно широкая, да и высота её, несмотря на полуподвал, не такая уж маленькая. Ты представь себе, сколько материала понадобится, если даже возводить стену в полкирпича. Нет, потом её штукатурить ещё. Не годится. Так, что же придумать? – он на некоторое время задумался, а потом уверенно сказал. – Знаешь, Андрей Николаевич, мне пришла в голову одна идея. А что, если делать перегородку их деревянных брусков, в качестве каркаса, а затем обшить фанерой. Нет, даже не фанерой, а ДВП. Она и дешевле, и лучше – одна сторона у неё полированная.
– Лукич, вы шутите? И что ДВП будет теплее досок?
– Будет, – засмеялся тот. – Будет, потому что пустоту в каркасе вы заполните теплоизоляционной шлаковатой, которой вы утепляете трубопроводы. А, как ты знаешь, она очень даже хороший теплоизолятор. Кроме того, у тебя её в избытке. Да и выписать ты можешь её хоть вагон.
– О, это, действительно, хорошая идея, – оценил задумку начальника КЭС Андрей.
– Конечно, нормально будет. Так что давай замеряй там всё, рисуй эскизы и высчитывай, сколько чего нужно – это касается брусьев и ДВП. Остальное, гвозди и прочее – это ерунда. Шлаковату сам выпишешь, если только она тебе нужна, а с брусками и ДВП я тебе, так и быть, помогу – чтобы тебя, как ты говоришь, не "мурыжили", выпишу на своё хозяйство. Всё равно всё будет списано. Давай, действуй.
Андрею понравилась идея Лукича в отношении ДВП – в Союзе Морозевичу пока что не приходилось иметь дело с ДВП, хотя в США её начали выпускать ещё с 20-х годов. Он знал, что и в СССР уже ДВП (древесно-волокнистая плита) начали широко использовать в промышленности. Здесь он уже успел с ней познакомиться поближе и оценить её преимущества перед фанерой. Поэтому он решил действовать немедленно – как говорят, куй железо, пока горячо или, как говорил герой Папанова из популярного фильма "Бриллиантовая рука": "куй железо, не отходя от кассы". Он решил тот же час приступить к реализации задуманного. Сначала нужно было сделать замеры в мастерской, но одному это несподручно. Он разыскал Николая, снял его временно с работы, и они вдвоём поехали на своих велосипедах в мастерскую. На месте Андрей рассказал о советах Грицюка и Николай согласился, что идея того хорошая. У него имелась рулетка, и они довольно быстро управились с замерами. Чистовик наброска эскизов и подсчёт материалов Морозевич решил оставить на вечер. В общежитии всё, не спеша, сделает. А сегодня ему нужно выполнять и свои прямые обязанности – организация и контроль ремонтных работ. Но уже на следующей планёрке он согласовал вопрос ремонта мастерской с майором и, получив его одобрение, передал Лукичу заявку на материалы. Шлаковаты у теплотехников, действительно, были большие запасы, и Андрей решил её пока что не заказывать. Нужно будет, то в течение двух дней он её доставит. Договорился Андрей с Лукшиным и о выделении ему на две недели двух солдат. Через три дня Лукич привёз весь необходимый материал, и вскоре в мастерской закипела работа.
ГЛАВА 22. Приятное с полезным
В один из рабочих дней к Андрею подошёл Александров. Друг с другом они всё же больше контачили, нежели каждый из них с Кирзоняном.
Поздоровавшись, эскулап спросил:
– Какие у тебя планы на это воскресенье? Чем ты собираешься заняться?
– Понятия не имею. Не думал ещё над этим. А что, есть какие-нибудь интересные предложения?
– Предложение есть, а вот интересное ли оно – тебе судить. Давай съездим вдвоём в воскресенье в Стендаль.
– На экскурсию, я так понимаю?
– Ну, экскурсия – это вторая часть этого мероприятия. А первая – я хочу себе купить приличный костюм. Я теперь после получения зарплаты при деньгах. Можно часть из них и потратить на хорошее дело.
– А как же ночной ресторан? Ты же собирался после получения зарплаты пойти в ресторан.
– Правильно, и собираюсь. Именно поэтому я и хочу купить костюм. Ну, не в этом же мне туда идти, – кивнул он на свой наряд – чёрные брюки и белую рубашку. Съездим в Стендаль и совместим, так сказать, приятное с полезным. Погуляем по городу, ты мне его покажешь. Отдохнём, посидим в хорошем кафе и так далее. Я то был в нём, но всего пару раз – да и то мало времени, не понял что к чему. Это будет приятная половина моей цели, а её вторая половина – покупка костюма, будет полезной.
– Тогда давай прихватим ещё и Кирзоняна. Я ведь тоже Стендаль ещё не особенно изучил, хотя, конечно, немного больше, нежели ты. А Григорий всё-таки больше знает – как-никак, он уже здесь второй год.
– Давай захватим и Григория, – без особого энтузиазма согласился Александров. – Хотя, я думаю, что мы и вдвоём разберёмся.
– Ну, ладно, посмотрим, может он ещё и не захочет ехать, – ответил Морозевич, а затем, чуть погодя, добавил. – Только если ты хочешь что-нибудь купить, то ехать в Стендаль нужно не в воскресенье, а не позже субботы. В воскресенье ни один магазин у немцев не работает.
– Что, и продуктовые тоже?
– Представь себе, и продуктовые тоже.
– А как же запасаться продуктами, когда же ходить в магазины, как не в выходной день?
– Это в Союзе так принято, но не у немцев. Мы в выходной день рыщем по магазинам в поисках нужного нам товара, но не всегда его находим. И часто, махнув рукой, берём первое, что под руку попадёт. У немцев по-другому – они знают, что им нужно, и они идут в магазин купить только этот товар, а не всё подряд. И искать им его не приходится. Он всегда есть, ведь у них нет такого понятия как "дефицит". Продуктами они на целую неделю не запасаются. Берут, в основном, на день-другой.
– Ну, если это так, то как они покупают продукты в воскресенье?
– Они их покупают в субботу, – растолковывал Андрей Александрову, впервые выступая в роли гида по Стендалю и порядков в городе. – Причём в первую половину дня, потому что даже продуктовые магазины в субботу работают не весь день, а где-то часов до трёх, ну, может быть, до четырёх. На один день еды то не много нужно, а они покупают только свежие продукты, и не хранят их, кто знает, сколько в холодильнике или, – засмеялся Морозевич, – в авоське за окном.
– Ну и порядки фрицы завели, – улыбаясь, протянул Александров. – Ладно, тогда давай съездим в субботу, прямо с утра.
– Хорошо, договорились. Съездим. Я, наверное, тоже себе костюм присмотрю. Давай заходи в субботу утром ко мне и поедем.
А сейчас Андрей спешил в мастерскую. И он, да и, пожалуй, все ребята увлеклись работами по её ремонту. К этим работам даже по собственной инициативе подключились свободные от смены кочегары. Впрочем, это было понятно – они тоже много времени проводили в мастерской. В самом начале Андрей организовал что-то наподобие субботника, и они хорошо вычистили помещение, выгребли весь мусор, почистив на окнах и дверях старую краску. Конечно, после монтажа перегородки и побелки той же эмульсионной краской потолка снова придёт время уборки, но тогда это уже будет хоть и генеральная, но не такая грязная уборка. Сразу после уборки Морозевич договорился с Виталием, что тот реконструирует ему электропроводку – перенесёт светильники (а это были лампы дневного света) по центру отгороженной большой комнаты и установит лампу в не таком уж малом тамбуре. Точнее установить следовало даже две лампы – одну такую же, а другую с обычным патроном в отгороженном закрытом уголке с полками для инструмента и мелких материалов и места внизу для газосварочных аппаратов – заходишь в помещение, и нигде нет ничего разбросанного, стоящего под стенками.
Совместно посоветовавшись, они решили не делать вешалку или шкаф для одежды в тамбуре-прихожей – зимой верхняя одежда будет охлаждаться и отсыревать. Но тогда в основном помещение нужно было сделать эту вешалку поприличней. Андрей попросил Грицюка выписать в ТЭЧ три хороших древесно-стружечных плиты (ДСП) со светло-коричневым ламинированием. Производство ДСП зародилось в конце 30-х годов как раз в той же в Германии и Швейцарии – странах, не особенно то богатыми на собственные лесные ресурсы, а поэтому особенно заинтересованными в максимальном использовании древесных отходов. Теплотехники решили соорудить в одном из углов своего помещения нормальный шкаф для одежды – плиты нужны были для одной из его боковых стенок и для дверей. Верх же будет из ДВП, а задней и второй боковой стенкой шкафа служили стены. Лукич пообещал привезти ему заказанные ДСП. Чем ближе к концу подходила обустройка помещения, тем больше людей принимали в ней участие. Они даже начинали мешать друг другу. На первых порах Андрей снимал с работы после обеда одну из бригад слесарей для этого ремонта, договорившись, что те активно будут работать на объектах в первой половине дня. Сейчас же этого не требовалось – в строительстве принимали участие все свободные люди. На обустройстве всё время находился Кравченко, как прораб, да и Андрей частенько принимал в нём участие. На первой стадии ремонта, здесь находились и выделенные Лукшиным два солдата – во время очистки стен и закрепления у стен (доводилось их долбить) основных несущих стоек. Сейчас уже необходимость в солдатах отпала. Морозевич даже как-то после разговора с Александровым подумал о том, что ремонт мастерской тоже совмещает приятное с полезным. Полезным было то, что эта работа сплотила коллектив, заставила бригады более интенсивно работать в первой половине дня, уменьшились безделье и праздношатающиеся. В отношении же второго, то кому может показаться неприятным проводить время в чистом, тёплом и уютном помещении – это, так сказать, было совершенно очевидным. Правда, что касается последнего, то позже Андрей понял, что всё же и здесь имеется обратная сторона медали.
Быстро пролетели дни, и наступила суббота. Направляясь после завтрака к общежитию, Андрей увидел, что Александров его уже ожидает.
– Привет, ранняя же ты пташка, – обратился к нему Андрей. – Я то думал, что попозже придёшь.
– И тебе не хворать. А чего тянуть кота за хвост, съездим с утра, скупимся, а потом там же и отдохнём.
– Хорошо, подожди. Я только заскочу в комнату и возьму деньги.
Взял он в комнате не только деньги, но и фотоаппарат, о котором он ранее совсем забыл. У него был фотоаппарат марки ФЭД-2, и в Союзе он любил заниматься фотоделом. Когда он вышел с ним на улицу, его тёзка удовлетворённо отметил:
– О, вообще прекрасно. Сами сфотографируемся и достопримечательности Стендаля поснимаем.
Поехали они в Стендаль вдвоём, Григорий, действительно, отказался – у него были какие-то свои планы. Втроём они съездили в Стендаль, теперь уже по инициативе самого Кирзоняна, через две недели, но уже не за покупками, а просто отдохнуть и сфотографироваться. Это Григорий увидел по возвращению Андрея с фотоаппаратом и пожалел, что ему не удалось запечатлеться в Стендале.
Когда два Андрея прибыли автобусом в город, то они, не спеша, прошли тем же маршрутом, что и ранее Морозевич с Григорием, к ратуше, сфотографировались на её фоне и на фоне рыцаря Роланда. Правда, не вблизи самого памятника, а немного впереди него, уж слишком тот был высок – где-то, наверное, в четыре (если не больше) человеческих роста. Поэтому стоя рядом с Роландом для фотографируемого получался либо слишком мелкий план, либо в кадр попадала только нижняя часть памятника.
– Интересный памятник, – произнёс Александров. – А кто он такой этот Роланд?
– Я когда-то задавал подобный вопрос Кирзоняну, но тот не знал. Тогда я сам кое-что разузнал. Рыцарь Роланд – это символ свободы средневекового города. Статуя Роланда в городе означала, что город обладает правом самостоятельно вести торговлю, осуществлять правосудие и таким образом является вольным. Ещё он служил "точкой сбора" (Treffpunkt) при пожарной тревоге в городе. Есть ещё одна версия о его предназначении: он должна напоминать отцам города и судьям быть твёрдыми и неподкупными в своих решениях. Они должны хорошо владеть мечом справедливости и иметь замкнутые, закрытые (как бы, неподкупные) руки.
– Ты смотри, как интересно, – уважительно произнёс Александров.
Затем они направились к расположенному поблизости центральному универмагу. Андрей сфотографировался и на фоне этого современного четырёхэтажного здания, с выступающими на стенах по всей длине от верха и до второго этажа вертикальными панелями. Первый же этаж его был отделён от второго (тоже по всей длине) козырьком. На фасаде его главного входа в самом верху красовались две большие буквы НО (вероятно, Handelsorganisation – государственная торговая организация). По-русски это звучало как ХО. Так этот универмаг и называли в быту: "Пойдём в ХО", "Была сегодня в ХО".
Далее они также, не спеша, ходили по универмагу, присматривая себе костюмы. Наконец, доктор приглядел себе один из них. Когда он примерил его и предстал перед Андреем, то тот оценил что он ему очень к лицу – на высоком, стройном Александрове костюм сидел как шитый на заказ. Он был тёмно-синего цвета из только входящего в моду кримплена, одного из синтетических полотен, которое объёмное, пластичное и мягкое. Кроме того, оно не мнется и легко стирается. Первое время этот материал пользовался невероятной популярностью. Узоры выдавливались уже по готовой ткани, поэтому могли быть абсолютно разными – от сдержанного диагонального рубчика до сумасшедших завитков всех размеров. Да, это была не натуральная ткань, но носились изделия из неё практически вечно, их даже трудно было порвать, Если возникали зацепы, то можно было просто выдернутую нитку аккуратно обрезать маленькими ножницами – и можно носите себе вещь дальше. Кримплену эти мини-экзекуции совершенно не мешали. Кроме всего прочего, такова была мода.
Но Морозевичу как-то непривычен был синий цвет. Себе же он хотел найти костюм коричневого цвета. Ранее он носил костюмы только чёрного, серого (различных оттенков) или коричневого цвета – но никогда не синего, будь то разные оттенки. Это была, вероятно, привычка жителя провинциального областного (а ранее и районного) центра – веяния моды не особенно утруждали его воображение. Однако найти коричневый костюм ему в этот раз не удалось – он его в итоге тоже купит, но значительно позже. Когда он поделился своими соображениями с тёзкой, тот набросился на него:
– Да ты что! Какой коричневый – это же прошлый век. Нет, конечно, коричневый тоже можно носить, но не более чем на работу. А синий – это же такой нарядный костюм, его нужно одевать для разных торжественных случаев. Я всю жизнь мечтал о таком костюме. Так что и ты покупай такой же и не сомневайся – твоей супруге он тоже очень понравиться.
В конце концов, Александрову удалось уговорить своего напарника купить себе синий костюм, хотя это было не так то и просто – Морозевич был слегка полноват. Но ему очень помогли продавщицы универмага, которые терпеливо подбирали размеры и нашли, наконец, нужный ему размер – костюм на нём сидел тоже, как влитой. Довольные сослуживцы с упакованными костюмами вышли из универмага.
– Ну что, куда теперь? – спросил Александров. – Веди, показывай Стендаль.
– Ты знаешь, коль мы находимся вблизи универмага, то можно прогуляться к нашей школе. Она недалеко, вон в том направлении, – указал он рукой в сторону обратную ратуше. – Как мне говорили там, рядом должен находиться и штаб дивизии, точнее даже не сам штаб, а гарнизон дивизии. А где-то за школой должно быть озеро. Посмотрим? А то Кирзоняна такие экскурсии не очень то интересовали.
– Конечно, посмотрим. Хорошо бы побольше всего увидеть. Город то красивый, – обрадовался Александров, а затем добавил. – А что Кирзоняна кроме своей собственной персоны ещё интересует?
Они пошли по улице в указанном Морозевичем направлении. Школа и в самом деле находилась недалеко – по правую руку, на левой стороне той же улицы, что и универмаг. Как они поняли, поблизости располагался и военный городок дивизии (его так и называли – "Дивизия"), в котором им делать было нечего. Не заходили они и в школу, довольствовавшись лишь осмотром с улицы её строений – высокое трёхэтажное из красного кирпича старой постройки здание с двухэтажными более современными пристройками из более светлого кирпича. Окна второго этажа были с арочным перекрытием, а первого и третьего этажей – прямоугольной формы. При этом окна третьего этажа были значительно больше по размерам окон первого, и ощущалась немалая высота помещений. Они обошли школу, и пошли по какой-то улочке по диагонали влево. Через время они увидели зелёную зону – то ли рощу, то ли парк, за которой им открылась панорама довольно крупного вытянутой формы озера. В дальней его части виднелся какой-то небольшой островок – похоже, с зелёными ивами.
– Красота, ничего не скажешь, – протянул Александров. – Нужно и здесь сфотографироваться.
– Обязательно. Действительно, красиво.
Они немного пофотографировались, ещё некоторое время побродили вблизи у озера, а затем Морозевич произнёс:
– Так, хотел тебе показать ещё площадь Мадонны. Там мы заодно и пообедаем. Только как к ней попасть отсюда, я себе не представляю. Не хочется бродить наугад, а наше знание немецкого языка пока что оставляет желать лучшего. Так что выход один – возвращаться прежней дорогой. А от ратуши я уже дорогу помню – там по-прямой, заблудиться невозможно.
– Да в чём дело. Давай прежней дорогой, спешить то нам некуда.
Они вернулись к ратуше, обошли её и, свернув вправо, пошли по уже знакомой "старожилу" Морозевичу Широкой улице. Вскоре перед их взором предстала площадь и статуя женщины с птицей – Андрей так и не знал, как её правильно называть: то ли Мадонна, то ли Ида с воробьём. Они начали фотографироваться и у памятника-фонтана и у витрин близлежащих магазинчиков. На одном из них красовались надписи Textilhaus Sperlingsberg. Если первая часть этой надписи означала что-то типа "Дом текстиля", то вторая часть была для них загадкой – то ли название фирмы (Sperlingsberge – Воробьёвы горы, от Иды с воробьём?) или выпускавшего товар города, то ли фамилия владельца магазина. Впрочем, они не особенно и ломали себе над этим голову. Они нашли хорошее кафе, иное, нежели ранее Морозевич с Григорием посещали во время их экскурсии, и хорошо подкрепились с пивом и дупельками – обмыли, так сказать, свои покупки.
После этого они вновь начали бродить улочками города. Они пошли в сторону противоположную ратуше с Роландом-великаном, где-то ещё свернули и оказались на улице, которая вела к Тангермюндским воротам и далее, как они узнали, к железнодорожному вокзалу. Тот им не был нужен, поэтому, дойдя до Тангермюндских ворот, они повернули назад. Тангермюндские ворота располагались на слиянии направлений из небольшого городка Тангермюнд и совсем крошечного Вербена, которые расположены вблизи Стендаля. Далее уже шла и ведущая на вокзал улица. Тангермюндские ворота ("Tangermunder Tor") – это что-то типа старинной башни с небольшим арочным проездом внизу и двухэтажным ярусом стен-бойниц вверху.
Не сразу определив верное направление, они, наконец-то вернулись на площадь Мадонны. Они уже довольно устали, поэтому с удовольствием присели за столик в открытом кафе и купили себе мороженое – ни пива, ни шнапса им в этот жаркий ещё день (средина сентября выдалась тёплой) уже не хотелось. До того ни тот, ни другой Андрей немецкого мороженого не пробовали. Оно продавалось в вафельных стаканчиках, но не цилиндрических, как в Союзе, в конических с длинным острым концом. Наполнялось мороженое из автоматов-морожениц и до конца в узкое коническое пространство оно не попадало. Поэтому вафельный кончик, практически пустой, просто выбрасывался – он был довольно жёстким. Не понравилось им и само мороженое – что-то типа замёрзшего молока (даже с мелкими кристаллами льда) с мизерной добавкой сахара. В СССР мороженое было сытное, там оно производилось из довольно жирных сливок, и было сладким. А это мороженое было не только мало сладким, а даже с каким-то ощущением солёности. Его производители, вероятно, мало беспокоились о его вкусе – по их представлениям мороженое должно было только освежать в жару. И с этой миссией оно справлялось, но не более того.
В свою очередь, справившись довольно быстро и с самим мороженым, друзья решительно направились к остановке автобуса на Борстель – Стендалем они уже насытились. Конечно же, выходной день во всех отношениях удался на славу. Но экскурсии хороши только тогда, когда они не очень утомляют жаждущих ознакомиться с достопримечательностями и красивыми пейзажами каких-либо мест. Уставшие, но вполне удовлетворённые проведенным временем, оба Андрея с радостью вернулись в свой городок и ещё долго сидели на лавочке, покуривая и обсуждая проведенный ими такой содержательный день.