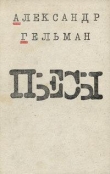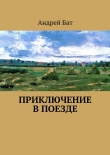Текст книги "Не повторяется такое никогда!"
Автор книги: Александр Ройко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
– Ладно, утро вечера мудренее. Всё равно нужно ждать до завтра, чего гадать.
Следующим же утром этот вопрос решился – не за одну минуту, конечно, но и без особых проволочек. После консультации майором Морозевич написал заявление об отпуске за свой счёт на 10 суток вместе с дорогой. Майор завизировал заявление и вместе с телеграммой, выбрав момент, пошёл к командиру ОБАТО. Вышел он уже с подписанным заявлением.
– Теперь в канцелярию, – сказал он. – Пусть оформляют вам паспорт. К концу дня вы его получите, а завтра в путь.
– Спасибо, Борис Михайлович. Никаких вопросов не возникало?
– А какие вопросы? Текст телеграммы ясен, к тому же она заверена врачом. Решайте дома свои вопросы. Но постарайтесь не задерживаться. Всё же ещё зима, мало ли что. До сих пор памятен день 1-го января.
– Я не могу твёрдо обещать, что не задержусь, поскольку не знаю положения дел дома, но постараюсь вернуться пораньше. Вот только чистого времени мало.
– Да, дорога поездом займёт у вас, вероятно, большую часть времени, – произнёс Лукшин. – Поэтому я бы порекомендовал вам лететь самолётом из Берлина. Вам ближе всего, наверное, Киев, а в этот город, я думаю, есть прямые рейсы. Пару часов и вы уже там.
– А что, можно ехать в Берлин?
– В таких случаях можно. Сообщение у немцев хорошее. Доберётесь до центрального вокзала в Берлине, а там автобусом или городской электричкой до аэропорта. Это, конечно, дороже вам обойдётся, но как говорят: "Время – деньги".
– Да не в деньгах дело. Конечно, я тогда полечу самолётом. Вот только возникает другая проблема.
– Какая?
– У меня не нет наших рублей. Я их все положил на книжку в Бресте. До Киева то я доберусь, а дальше как?
– Это не проблема. Возьмите марки с запасом и часть их в аэропорту в Берлине поменяйте на рубли. Там для этого есть обменные пункты. Только не забудьте оставшиеся марки задекларировать, а то уже у нас в Союзе могут возникнуть неприятности.
– Спасибо за совет. Так я и сделаю.
– Кого вы оставляете на это время вместо себя?
– Николая Кравченко. Он парень толковый.
– Я так и предполагал. Но официально вас на это время будет подменять Кирзонян. Он и будет после планёрок передавать Кравченко все распоряжения о срочных работах, если таковые появятся. Журнал же заявок он будет просматривать сам. Ну, что ж, Андрей Николаевич. Удачи вам. Готовьтесь в дорогу. Всего вам хорошего.
– Спасибо, Борис Михайлович – и за пожелания и за само ваше участие. До свидания!
Они попрощались, и Андрей поспешил в канцелярию. После этого он разыскал Николая и проинструктировал его обо всём. Далее он направился в общежитие собираться в дорогу. Он решил по случаю отвезти в Союз только что приобретённый ковёр. Кроме ковра у него будет ещё только небольшой чемодан с подарками жене и сыну, а также самое необходимое ему самому на эти дни. Несколько подарков жене он купил уже давно, надеясь, что по её приезду они ей понравятся, будут для неё сюрпризом. Теперь этот сюрприз должен состояться в Полтаве. Кроме того, он готовил очередную посылку, где были подарки для сына – так что почти всё было готово. Он только зашёл в магазин и купил ещё пару игрушек покрупнее, которые в посылку обычно не вложишь. Купил он ещё разных конфет и, конечно же, цитрусовых. Он прекрасно знал, что они, как и многие другие продукты, к провозу запрещены. Но не мог же он не попытаться привезти сыну и жене апельсины, а жене, если она больна, ещё и лимоны. На Новый год в Союзе цитрусовые ещё бывали, в остальное время это всё же был дефицит.
Он решил схитрить. Ковёр в свёрнутом состоянии везти неудобно. Он видел, что ковры перевозили обычно в сложенном прямоугольником состоянии, этаким "чемоданчиком". Так поступил и он. Андрей аккуратно сложил его и хорошо связал ремнями и верёвками. Ещё с Союза он припас один ремень с деревянной ручкой. Теперь ковёр стал как бы вторым чемоданом Андрея. Ремнями он связал ковёр вдоль и поперёк, хорошо затягивая ремни и пряжки в расчёте на то, что какому-нибудь ретивому таможеннику лень будет распаковывать ковёр. Что там, мол, смотреть – ковёр в сложенном и развёрнутом виде остаётся ковром. А хитрость заключалась в том, что во внутренние складки ковра Андрей поместил купленные апельсины и лимоны, а также часть конфет. Но, когда он с помогавшим ему Григорием, справились, наконец, с ковром и Андрей начал укладывать в чемодан приготовленные в дорогу вещи и подарки, он обнаружил, что под ними осталось ещё два ранее незамеченные им лимона. Решив не переупаковывать из-за них ковёр, Морозевич просто положил их на дно чемодана и прикрыл вещами. Теперь к дороге было всё готово. После обеда он зашёл в штаб и забрал приготовленный ему Клюевым паспорт.
Выехал из Борстеля Андрей утром, хотя и не совсем рано. По имеющемуся у него справочнику Андрей выяснил, что проходящий через Стендаль поезд на Берлин проследует в начале одиннадцатого, так что особо торопиться ему было нечего. Добрался он до Берлина без проблем и даже без особых волнений. Да и чего было волноваться – у него на руках был паспорт с визой и справка, что он направляется в Союз по семейным обстоятельствам. Небольшая проблема возникла на вокзале, пока он выяснил у немцев, как ему лучше добраться до аэропорта "Шёнефельд", да и частично в самом аэропорту. Проблемы возникали из-за того, что знание им немецкого языка всё ещё оставляло желать лучшего.
Аэропорт "Шёнефельд" (Schönefeld) находился в 22-х км от западной части города и являлся главным аэропортом Германии, поскольку обслуживал большинство рейсов из (или в) Берлина. В 1934-м году здесь был построен авиазавод Henschel. С 1946-го года на аэродроме "Шёнефельд" базировались ВВС Советского Союза, а в 1947-м началось строительство гражданского аэропорта.
Добраться до него можно было городской электричкой (S-bahn), экспрессом Airport Express train или линией метро с пересадкой на автобус. Воспользовавшись маршрутом Аэропорт Экспресс (Airport Express train), с центрального вокзала Берлина Hauptbahnhof можно достигнуть "Шёнефельд" всего за 30 минут. Маршрут автобуса проходит через центр города: Александерплац, Фридрихштрассе. Этот автобус проходит и через центральный вокзал Берлина, а потому им тоже легко попасть с вокзала в аэропорт.
Андрей попал в аэропорт городской электричкой с центрального вокзала. Далее от вокзала городской электрички Flughafen Schonefeld бесплатный автобус доставляет пассажиров к зданию аэропорта буквально в течение 2-х минут. Андрей и подъехал на нём к входу в здание аэропорта. Правда, он прикинул, что от станции S-bahn до здания аэропорта всего 5–8 минут пешком, поэтому ждать транспорта (бесплатный автобус) имеет смысл только обладателям тяжёлого багажа. Почти все терминалы аэропорта также обслуживались автобусами.
Не смотря на указанные небольшие проблемы с языком, в конце концов, он купил билет на рейс Берлин – Киев (прямой, как и предвидел Лукшин) и теперь спокойно ожидал сигнала о регистрации билетов и посадки в самолёт. Далее, как он надеялся, проблем уже быть не должно. И проблем в аэропорту "Шёнефельд" ни с пограничниками, ни с таможенниками у него, действительно, не возникло.
Прилетел Андрей в Киев в аэропорт "Борисполь" вечером. Ему ещё предстояло добираться на железнодорожный вокзал. Поездов в сторону Полтавы из Киева было немало, но в ночное время большей частью они были проходящими. Был только один поезд с прицепными вагонами до Полтавы. Поэтому нередко возникали проблемы с билетами, и Морозевичу следовало торопиться. Отправлялись они во второй половине дня из Киева в районе 10–12 часов, то есть ближе к полуночи. Времени у него, в расчёте на то, что придётся выстаивать на вокзале в кассах, было не та уж и много. Кроме того, фирменный автобус "Аэрофлота" на железнодорожный вокзал не заходит. Брать такси он не хотел – он и так немало потратился, а здесь киевские таксисты сдерут с него три шкуры, у них глаз на пассажиров из-за рубежа намётан. Ладно, успеет и так. Летел Андрей, как он понял ещё в самолёте, с большой группой немецких туристов (или делегацией). Другие пассажиры, кроме него, тоже вроде бы были немцами. По крайней мере, русских Морозевич что-то не приметил. Паспортный контроль все прошли без проблем, как, впрочем, большинство затем и таможенный. Украинские таможенники мило улыбались, поверхностно осматривая багаж немцев, практически не открывая их сумки или чемоданы. Они перекидывались с немцами парой фраз, ставили штампы и пропускали дальше со словами: "Битте, фрау", "Битте, герр".
Однако не все прошли таможенный контроль без проблем. Всё в корне изменилось, когда один из таможенников (пожилой, даже, скорее, старый) не добрался до Андрея. Начав с ним говорить по-немецки и тут же поняв, что перед ним земляк, этот старый валенок (как позже для его для себя назвал Морозевич, подумав о том, почему того до сих пор не отправили на пенсию – туда ему только и дорога), сменил слащавую улыбку на строгое выражение лица и очень обрадовался:
– О, так вы наш! Очень хорошо. Значит, вас мы сейчас хорошенько проверим. А то, знаете ли, наши граждане так и норовят провезти что-либо недозволенное. Ну, никак не могут без этого. Где ваш багаж?
– Да вот, чемодан и ковёр. Это всё. Что я могу провезти недозволенного.
– А это мы сейчас и проверим. Ладно, ковёр пусть полежит, а вот ваш чемоданчик, пожалуйста, положите на стойку и откройте его.
Этот таможенник был до тошноты показательно любезен с Андреем. А у того начала накапливаться злость. Он понял, что этот "любезный валенок" основательно задержит его в аэропорту. Того и гляди, Андрей потом не сможет приобрести билет на поезд и придётся ему, заночевав на вокзале, потом уже утром ехать на Полтаву. Но нечего поделать он, естественно, не мог. Таможенник, на первый взгляд, просто выполнял свою работу. Сейчас в таможенном зале Морозевич уже остался один на один с этим старым таможенником. Все пассажиры уже прошли таможенный контроль. Разошлись также почти все таможенники. Андрей положил на стойку чемодан и открыл его замки. Старый хрыч открыл крышку чемодана и произнёс:
– Будьте любезны, выложите верхнюю часть ваших вещей на стойку.
– Нет уж, будьте любезны, это делать сами. Это ваша работа, – Андрей чувствовал, что он вот-вот сорвётся.
– Хорошо, сами, так сами.
И таможенник, не спеша, начал выкладывать вещи на стойку. При этом он каждую разворачивал, оглядывал и комментировал:
– Надо же, умеют немцы делать хорошие вещи. Ой, какая симпатичная блузочка. Ты смотри, детские туфельки, и те лакированные. Какая симпатичная машинка, наверное, сама ездит и поворачивает.
Подобными комментариями сопровождалась почти каждая вынутая им из чемодана вещь. Морозевича бесила эта неторопливая с издевкой работа таможенника, но он заставлял себя сдерживаться.
– Я вас очень прошу, – обратился он к таможеннику, – ускорьте, пожалуйста, досмотр багажа. Я боюсь опоздать на поезд в Полтаву, мне тогда придётся ночь просидеть на вокзале.
– Ничего, успеете, – невозмутимо ответил старик. – Кстати, а вы везёте с собой деньги, я имею в виду немецкие?
– Конечно, везу, – так же невозмутимо ответил Андрей. – Мне ведь ещё предстоит возвращаться, и они мне очень понадобятся. Я ведь еду не по предписанию. Но все деньги задекларированы. Да и кому в СССР нужны марки ГДР.
– Как знать, как знать, – снова невозмутимо протянул таможенник и вдруг оживился. – А это что у вас? – он, наконец-то, добрался до дна чемодана.
– Вы же видите это конфеты малышу. Я год не виделся с сыном. Могу я ему привезти что-нибудь вкусненькое, ведь он этого ждёт.
– Но вы же знаете, что…, – начал таможенник и прервал свою речь – он наткнулся на лимоны. – А это что такое? Это уже контрабанда. Если конфеты сыну я ещё могу вам простить, то вот это никак. Лимоны запрещены к перевозке. Или вы будете меня убеждать, что не знали этого?
– Я знал это. Но я еду по телеграмме, у меня заболела жена. Неужели привезти больному человеку так нужные ему пару лимонов, это такое уж большое преступление?
– Не знаю, не знаю – законы написаны для всего. Так, будем составлять протокол.
– Товарищ таможенник, – взмолился Андрей, сразу вспомнив виденное им в Бресте и, понимая, что это заберёт немало времени. – Не нужно составлять протокол. Это же займёт много времени, а я опаздываю. Да заберите вы эти несчастные лимоны и отпустите меня. У меня же скоро поезд.
– Что значит, "заберите"? Вы мне что, взятку предлагаете?
– Да какую взятку. Я имею в виду, конфискуйте эти лимоны в пользу государства и всё.
– А вот для того, чтобы конфисковать что-либо, – назидательно заметил таможенник, – мне как раз и нужно составить протокол. А иначе я буду такой же преступник, как и вы.
– Тоже мне, нашли преступника, который провозил всего два лимона.
– Ну, хорошо, – смилостивился тот. – Не преступник, но всё равно нарушитель, – строго сказал он, подтверждая свои слова соответствующим знаком указательного пальца.
Морозевич понял, что переубедить этого старого хрыча ему не удастся, и безропотно стал ожидать, когда в протоколе таможенник опишет эти злосчастные лимоны. Он вновь вспомнил виденную им в Бресте картину, как пассажир умолял местного таможенника забрать две бутылки водки, которые провозил сверх установленной нормы и не составлять протокол, потому что опоздает на поезд. Сейчас в такую же ситуацию попал сам Андрей. И он понял, что ему просто придётся смириться. Наверное, подумал он, и у таможенников есть установленные планы на количество случаев конфискации.
– Я могу собирать остальные вещи? Или вы ещё продолжите осмотр?
– Осмотр я закончил, так что можете собирать вещи. Затем подпишите протокол, я уже заканчиваю, и вы свободны.
Андрей начал спешно собирать свои вещи, чтобы хоть как-то выиграть время. Наконец, таможенник протянул Андрею на подпись протокол, который тот подписал и бегом направился к выходу. Когда он вышел из здания аэропорта, то сразу же вспомнил свои последние поездки в Стендаль и то, что он не смог, а скорее, не захотел подобрать себе тёплую обувь. В Борисполе было примерно 17–20 градусов мороза и после простаивания в тёплом помещении аэровокзала это особенно ощущалось. Морозевич был без головного убора и в осенних туфлях. Головной убор ему сразу же компенсировал откидной капюшон анорака, а вот осенние туфли (хотя и тёплые для своей поры) компенсировать было нечем. И ему пришлось хорошо пританцовывать, дожидаясь рейса автобуса аэрофлота. Он решил таки рискнуть ехать на вокзал автобусом – по времени он на поезд вроде бы успевал. Анатолию пришлось ещё пробежаться затем от центральных касс "Аэрофлота" на проспекте Победы до остановки трамвая (возле универмага "Украина"), идущего на вокзал. Но вот он уже благополучно добрался до железнодорожного вокзала. Слава Богу, очереди на вокзале были не такими уж и большими и, главное, были билеты на поезд до Полтавы. Кроме того, в очереди тех, у кого поезд отправлялся в ближайшее время, пропускали без очереди.
И вот, наконец-то Морозевич сидел в поезде, едущем в Кременчуг через Полтаву (прицепные вагоны). Он снял верхнюю одежду, сложил багаж и анорак и сидел, приятно грея ноги около проходящего внизу под столиком отопителя. Теперь он мог уже с улыбкой вспомнить своё приключение в таможенном зале аэропорта. Он подумал о том, что как же удачно получилось, что при упаковке ковра затерялись под вещами эти два лимона. Ведь, если бы не они, то, возможно, этот дотошный таможенник заставил его (или сделал бы это сам) распаковать ковёр. А последствия этого могли быть неизвестно какими, по крайней мере, времени это забрало бы намного больше, да и остался бы он вообще без цитрусовых. А так эти два лимона спасли гораздо больнее – ведь таможенник, смилостивившись, не изъял даже конфеты для сына. Возможно, и права поговорка, которая гласит: "Что ни делается, то к лучшему". Анатолий при этом вспомнил и побасенку, услышанную во Франкфурте-на-Одере о том, как две бутылки водки уберегли от конфискации целый её чемодан.
Ещё Андрей рассуждал про себя о тех же цитрусовых и других продуктах. Конечно, по праздникам в Союзе продавались апельсины (лимоны бывали чаще) или предлагались в наборе с другими дефицитами (сгущённое молоко и какао, шпроты, мясные паштеты, консервированная печень трески, хорошие шоколадные конфеты и прочее). На Новый год к радости малышей ещё появлялись мандарины. О других экзотических фруктах, таких, например, как ананасы, бананы, авокадо и прочих преобладающая часть советского народа только слышала, видела в фильмах или же читала в книгах. Правда, авокадо в немецких магазинах Анатолию пока что тоже не доводилось видеть, а возможно, он просто не знал, как этот фрукт выглядит, тем более что ценники то в магазинах были, естественно, на немецком языке. Что же касается бананов или ананасов, то они были практически всё время. О цитрусовых и говорить не приходилось – они были круглый год. Андрей попробовал в ГДР и бананы и ананас. У каждого из них был свой своеобразный вкус, бананы немного напоминали малосочную дыню. Но ему больше понравился ананас и, скорее даже не вкусом, а той своей нарядной необычной изысканностью, которая могла украсить любой праздничный стол.
Но, Бог с ними, с ананасами и прочими заморскими диковинами. Морозевич думал о том, почему нужно простые лимоны, апельсины или мандарины (это уже не говоря о сгущённом молоке и других редко появляющихся продуктах, которые в достаточном количестве производились в СССР) вводить в ранг дефицита. Неужели так сложно закупить нужное количество тех же апельсинов (чтобы не везти их контрабандой), ведь это всё окупится. Андрей читал, что, например, в Греции растёт столько апельсинов, что их от избытка скармливают скоту. Но немало растёт цитрусовых и в самом СССР, на том же Кавказе. Он после виденного изобилия в ГДР не мог понять эту дикую союзную необходимость из всего создавать дефицит. Поразмышляв подобным образом ещё некоторое время, Андрей умозрительно махнул рукой на эти наболевшие вопросы и начал укладываться спать – что зря думать, когда не в его власти что-либо изменить.
ГЛАВА 34. И снова в Полтаве
Приехал в Полтаву Андрей рано утром, не было ещё и шести часов. Несмотря на то, что стоял февраль месяц, красоту этого провинциального в общем-то областного центра, можно было оценить даже сейчас. А что же говорить о Полтаве летом. Это небольшой (население менее 300.000 человек) поражал своей зеленью, старинной архитектурой и каким-то спокойствием. Город богат историческими памятными местами. Транспорт – автобус и троллейбус. Располагался город в северо-восточной части Украинской республики (на Приднепровской низменности) на реке Ворскла. Первое упоминание о городе датируется (судя по археологическим раскопкам) ещё в VIII-м веке. Своим уникальным и неповторимым архитектурным обликом центральная часть города обязана последовавшему 27 февраля 1802-го года Высочайшему повелению, согласно которому созданная в 1796-м году Малороссийская губерния разделялась на две – Полтавскую и Черниговскую. В Полтаве практически собраны воедино проекты «образцовых» строений губернских городов. Генерал-губернатор Полтавской губернии князь А.Б. Куракин составил план устройства города таким образом, чтобы превратить Полтаву в небольшое подобие великой северной столицы с дворцами.
Приехав в город своего теперь постоянного проживания, город, ставший для Андрея за короткое время почти родным, он уже не стал экономить, а сразу взял такси – до квартиры, которую снимали Морозевичи, от вокзала было далековато. Сегодня была пятница, и жена может торопиться на работу (если, конечно, не на больничном), да ещё ей нужно сына в садик завести. Но что-то не позволяло Андрею думать, что жена и в самом деле серьёзно заболела. Он застал жену дома и она, действительно, собиралась на работу. Увидев мужа, она бросилась ему на шею:
– Ой, я и не думала, что ты так скоро будешь. Ты что, самолётом прилетел?
– Ага, личным самолётом, – пошутил Андрей. – Как тут не прилетишь, если получил такую телеграмму. Что случилось?
– Ничего не случилось. Мы живы и здоровы – и я, и сын. Я спешу на работу, сейчас будем собирать Никитку в садик. Отведём его в садик вместе, он будет рад папе.
– Так зачем же ты меня вызывала? Если только для того, чтобы увидеться, то дороговатое удовольствие, – улыбнулся, уже успокоившись, Андрей.
– Я тебе всё расскажу после работы, сейчас, чтобы обстоятельно поговорить, времени мало. Я постараюсь вернуться пораньше и всё расскажу. А ты тем временем позавтракай и отдыхай.
– Ты знаешь, позавтракать то я позавтракаю, а вот отдыхать не буду, я в поезде нормально спал. Лучше я схожу на работу, узнаю как там у них дела, повидаюсь со всеми.
– Пожалуйста. Можно и так. Только возвращайся часам к трём.
– Конечно, вернусь, времени у меня много, – Андрей глянул не часы, покачал головой и произнёс. – Странно даже.
– Что странно?
– Понимаешь, я вчера в это время был в Стендале. Нет, даже не в Стендале, а ещё в Борстеле, и ещё не выходил из общежития. А менее чем через сутки, я уже в Полтаве. Вот что значит технический прогресс.
Валерия подняла сына, который спросонья вначале не понял, кто к ним приехал, а затем узнал таки отца и очень ему обрадовался.
– Не хочу в садик, – захныкал он. – Хочу с папой.
– Вот сейчас ты с папой как раз и пойдёшь в садик, – начал успокаивать его тот. – Я никуда не уезжаю. Сейчас мы все вместе сходим в садик. А потом мы тебя пораньше заберём и будем уже вместе. А я тебе тем временем подарки приготовлю.
– А какие подарки?
– Вот вернёшься из садика и увидишь. Они пока не готовы. Так что идём в садик. Хорошо?
– Хорошо.
Когда они одели малыша и начали одеваться сами, жена увила осенние туфли Андрея и всплеснула руками:
– Господи, ты в чём приехал? С ума сошёл, что ли. На улице мороз, а он в осенних туфлях. Пальтишко себе симпатичное купил, костюм вообще высший класс, – Андрей приехал в коричневом костюме, – а на сапоги что, денег не хватило?
– Да денег то хватало, – виновато оправдывался муж. – Только подобрать я ничего не мог. Недели три тому назад рыскал по магазинам в поисках зимней обуви, но ничего стоящего не подыскал.
– Видно, плохо ты искал. Не верю, что у немцев нет зимней обуви, да ещё сейчас.
– Может быть и так. Конечно, я тогда не ставил такую цель – непременно купить тёплые сапоги. Я же не знал, что буду ехать в Союз. А у нас там плюсовая температура.
– Прямо таки плюсовая. Быть такого не может.
– И, тем не менее, это так. Я же тебе писал, что снега мы ещё не видели. На земле, я имею в виду. Так то он пролетал иногда, но всегда таял. Чаще дождь идёт, нежели снег. Вот такие дела.
– Ладно, сейчас я найду твои старые тёплые ботинки. В туфлях ты не пойдёшь.
Они отвели сына в садик, который находился рядом, жена поехала на работу, Андрей же вернулся в квартиру. Сосед как раз собирался на работу, удивился приезду Андрея и начал его обо всём расспрашивать. Потом он таки убежал на работу, а расспросы продолжила его жена, находившаяся в положении и в декретном отпуске. Наконец, расспросы закончились. Андрей, не спеша, позавтракал и поехал на свою бывшую работу.
На проходной завода Андрея помнили и пропустили без лишних вопросов. Он прошёл территорией завода и направился в технологический отдел. За это время на заводе практически ничего не изменилось. Он, ещё идя по территории завода, встретил много знакомых, которые, конечно же, расспрашивали его, поэтому попал он в отдел не так уж скоро. Там его тоже встретили с удивлением и засыпали массой вопросов. Людей, которые никогда не выезжали за пределы своей страны, а некоторые и в крупные союзные города, интересовало буквально всё о неведомой им стране. Подошёл даже начальник отдела и тоже прислушался и задал пару вопросов. Он не стал даже разгонять всех по своим рабочим местам, а просто сказал, чтобы они поменьше группировались всем отделом, а расспрашивали Андрея группами не более 3-х человек – всё-таки рабочее время. И рассказы Морозевича продолжились, иногда и повторные. Больше всего коллег удивляло то обстоятельство, что у немцев нет никакого дефицита. Их стереотипы отказывались в это верить. Ну, как такое может быть? Как это в магазинах всё есть? Особенно донимал Андрея вопросами об этом дефиците 50-летний его коллега, инженер-конструктор Пётр Купол. Он в начале 1945-го года 18-летним пареньком попал на фронт и в одном из первых же боёв получил тяжёлое ранение (ему оторвало ступню правой ноги) и стал инвалидом 1-й группы. На этой ноге у него были также повреждены какие-то сухожилия, и потому он передвигался на специальным протезе-ботинке, прихрамывая и волоча ногу.
– Ну что, неужели, в самом деле, у немцев всё есть и на протяжении всего года? Что, и клубника, например, зимой есть?
– Есть, только привозная или из теплиц, и, конечно же, значительно дороже, чем летом.
– А ананасы и рябчики тоже всё время есть? – спросил Пётр, намекая на строчку из произведения Владимира Маяковского, творчество которого ему очень нравилось.
– На счёт рябчиков я не интересовался, – улыбнулся Андрей. – А вот ананасы практически есть всегда. Правда, летом я их не замечал, но я ими не очень то и интересовался.
– О, хоть ананасов нет! – обрадовался Купол. – И то хорошо.
Он помолчал немного, а затем уже раздражённо добавил:
– Ну, как же это так? Мы этих фрицев били-били, некоторые их города с землёй смешали, выиграли войну, а эти гады живут намного лучше нас. Где же справедливость?
– О какой справедливости вы говорите, Пётр Алексеевич, – поддержала его молодая женщина, технолог отдела. – Мы своему ребёнку на праздник с боем несчастный апельсин достаём, а они там с жиру бесятся.
Андрей понял, что своими рассказами о жизни в ГДР он только поднял волну протестов и возмущений в душах своих коллег. Это было похоже на то, если бы голодающему начали рассказывать об изобилии яств, аппетитно смакуя их вкус. Чтобы более не накалять обстановку, сославшись на другие дела, Морозевич начал прощаться со всеми и покинул отдел. Учитывая этот опыт своего повествования, в дальнейших беседах о жизни в ГДР он старался уже более осторожно описывать жизненный уклад немцев, меньше заострять внимание на, мягко сказано, безбедном их существовании. И хотя Андрей тоже недоумевал по поводу дефицитов в Советском Союзе, он уже всё же понимал, почему все эти "геры" и "фрау" в ГДР живут значительно лучше граждан СССР. Всё было не так-то просто. Морозевичу ещё не исполнилось и 31-го года, и он ещё был пока что зеленоват в вопросах внутренней и внешней политики отдельных стран, однако даже такой короткий период пребывания в ГДР значительно восполнил этот пробел. Хотя убедительно объяснить все свои соображения заводским коллегам, да ещё сейчас очень агрессивно настроенным, было бы для него не таким-то простым делом.
Для себя кое-какие вещи в вопросах жизнеобеспечения жителей ГДР он уже немного уяснил. Во-первых, как бы там ни было, Германия во время войны была менее разрушена, нежели Советский Союз. К тому же, образовавшаяся 7 октября 1949-го года ГДР была по размерам несоизмеримо меньше пострадавшей в войне европейской части СССР. Отстраивать же ГДР помогал тот же Советский Союз и другие братские страны. Федеративная Республика Германии (ФРГ) вообще отстраивалась на деньги европейских и американских промышленников, вовремя почувствовавших в развитой в будущем промышленности ФРГ свой интерес, свою выгоду. Советскому же Союзу в вопросах восстановления разрушенного войной народного хозяйства не помогал никто.
Но всё это, тем не менее, было не главным. Главным были вопросы обороноспособности стран (СССР и ГДР), вопросы расходов на оборону. Советскому Союзу одновремённо с восстановлением народного хозяйства приходилось решать архиважную и одновремённо архисложную задачу защиты своего Отечества. Сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы никак не позволяли забыть об этом. Советский Союз не мог рискнуть отстать от своих бывших военных союзников хотя бы на один шаг. А средства для этого требовались огромные. Соединённые Штаты Америки вели войну не на своей территории и их производственные мощности только увеличились за годы Второй мировой воны. В Советском Союзе картина в этом плане сразу по окончанию войны была довольно неприглядной.
Казалось бы, что той же ГДР тоже следовало заботиться о своей безопасности, ведь мировой империализм ополчился против всех стан социалистического лагеря. Конечно же, Германская Демократическая Республика тоже не забывала о своей безопасности, но сравнивать её в этом плане с Советским Союзом было бы неверно. Пребывая в ГДР, Андрей не так уж часто видел на улицах городов немецких военнослужащих. Пожалуй, советские офицеры встречались отнюдь не реже – и это при том, что в свободное время наши соотечественники предпочитали находиться в гражданской одежде. Но соотношение военнослужащих ГДР и СССР было явно в пользу последних. Да это и не удивительно – численность народной армии ГДР составляла примерно 170.000 человек. В ГДР, к примеру, даже численность полиции была выше, нежели армии – около 185.000 милиционеров-полицейских. Наших же военнослужащих в 70-х годах в составе ГСВГ было более чем в 2 раза больше. Порой численность личного состава группы советских войск доходила до 500 тысяч человек. Группа советских войск в Германии была самой крупной группой советских войск за пределами СССР. При этом советские войска находились ещё и в других странах Варшавского договора.
Далее мысли Морозевича были направлены на то, что основные средства по обеспечению армии идут на содержание военнослужащих (зарплата, обмундирование, питание), содержание жилищно-казарменного фонда (военные городки) и обеспечение вооружением (техника и боеприпасы). Андрей, конечно, понимал, что это несколько утрированные его размышления о содержании армии, но даже они всё же неплохо отражают общую картину в вопросах обороноспособности стран. При этом содержание военнослужащих и военных городков составляют, как говорится, мизер по сравнению с затратами на обеспечение армии вооружением и поддержании его в должном состоянии. В Германии ещё до войны и во время войны была довольно хорошо развита инфраструктура армии. Поэтому ГДР потребовалось не так уж много средств для восстановления и последующего поддержания армии на должном уровне. Ведь для этого не было необходимости отстраивать или создавать новые производства. Совсем другое дело обеспечение военной техникой. Для этого непременно нужны были мощнейшие военные производства, которые должны постоянно наращивать мощности и модернизироваться, иначе сегодня ты впереди, а завтра – далеко позади в вопросах военного обеспечения. Германская Демократическая Республика практически тратила мало денег как на саму военную технику, так и, естественно, на военные производства. Именно поэтому свой национальный бюджет она могла почти полностью расходовать на восстановление народного хозяйства, на постоянное улучшение жизни своих граждан.