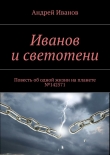Текст книги "Не повторяется такое никогда!"
Автор книги: Александр Ройко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Андрей листал этот железнодорожный справочник и удивлялся – в нём действительно, было всё (для больших и мелких маршрутов): время отправления и время прибытия не только на конечную, но и на все промежуточные станции. По этому справочнику легко можно было выяснить, как стыкуются в таком-то железнодорожном узле поезда, как можно быстрее и удобнее проехать в любой, даже самый маленький городишко (если только там есть ж/д путь). Это была информация, причём полнейшая, за которой на союзных вокзалах простаивают в очередях к справочному бюро или пытаются разобраться в появившихся автоматических (далеко не полных) указателях. И стоил этот справочник, по мнению Андрея, смехотворно мало – всего какие-то 2,00 марки, это менее 70 союзных копеек. В его руках был справочник на зимний сезон, хотя правильнее его было бы назвать на осенне-зимне-весенний сезон, поскольку он действовал с 26-го сентября 1976-го года по 21-е мая 1977-го года, то есть практически охватывал период в 8 месяцев. На летний же период оставалось всего 4 месяца – с конца мая по конец сентября. И Андрей решил, что это вполне логично – это именно тот период, когда люди, взяв отпуск, едут куда-нибудь отдыхать, и вот тогда необходимы дополнительные поезда.
Итак, один запланированный вопрос он решил. Но у него оставался ещё один очень важный вопрос, который обязательно нужно было решить, но Андрей никак не мог к нему приступить. Это был вопрос личного плана. Дело в том, что в последних своих письмах его жена высказывала ему упрёки, что он совсем забыл о ней и о сыне, редко пишет письма, а если и пишет, то эти письма коротенькие и очень сухие – он, мол, забыл её, загулял там с кем-нибудь, и так далее и тому подобное – в общем, обычное письмо женщины, надолго оторванной от своего мужа (или точнее наоборот). Андрей понимал, что Валерию нужно успокоить и всё объяснить. Он уже который раз думал о том, что в письмах не будешь же давать отчёт о том, чем ты занимался сегодня, вчера и позавчера. Но его письма, он это понимал, действительно были суховатыми, ласковых слов там было очень мало. Андрей вообще не любил писать письма, а уж тем более выражать в них свои чувства. Но, как известно, женщины любят ушами, а мужчины – глазами. Сейчас же Валерия любила, можно сказать глазо-ушами – она читала письмо и как бы слушала его слова. А добрых слов было маловато. И Андрей решил, что не позже, чем до конца недели он напишет жене подробное письмо, в котором и объяснит всё.
Встретившись в один из дней с Александровым, они обсудили дату поездки в Магдебург. Это можно было сделать не ранее следующих выходных – в эту субботу у Андрея-врача было ночное дежурство, а ехать в воскресенье им не очень хотелось. Магдебург большой город и там можно заскочить в магазины, которые в воскресенье будут закрыты. Они договорились, что поедут в Магдебург в следующую субботу 9 октября. Это было удобно ещё и тем, что к тому времени они уже получат зарплату за сентябрь месяц – авось деньги в Магдебурге пригодятся. На дальше же откладывать поездку было тоже не желательно – начнётся отопительный сезон, и кто его знает, как там пойдут дела уже у Андрея-инженера. Теперь нормально спланировать поездку поможет и купленный им справочник Kursbuch.
А сегодня вечером Андрей засел за письмо жене. В этом письме на 6-ти страницах (правда, почерк у Андрея был не особо мелкий) он заново признавался жене в любви и писал, что она для него единственная на всю жизнь и больше ему никто не нужен. Он писал, что очень любит её и сына и очень по ним скучает. В письме было много хороших ласковых слов и всего такого. Это письмо будет очень своевременным и должно доставить радость жене ещё и потому, что в ближайшие дни она отпразднует свой день рождения. Это её первый день рождения, который она за 6 лет их совместной супружеской жизни будет встречать неполной семьёй. Завтра Андрей обязательно поздравит её телеграммой, заказав бланк красивой открытки, а ещё через пару дней она получит письмо, которое вновь станет для неё праздником. Забегая вперёд, можно сказать, что жене письмо, действительно, очень понравилось, и она его сохранила на долгую память, как образец того, как нужно писать жене письма – так сказать, как образцово-показательное. Правда, укоряла его, что таким было лишь одно письмо, хотя в дальнейшем Андрей и старался писать так, чтобы письма не были такими уж сухими.
Следующая неделя таки ознаменовалась завершением подготовительных работ к отопительному сезону. Андрей лично с Николаем и старшими бригад кочегаров обошёл все котельные, и проверили всё оборудование. С начала новой недели в течение первых же двух дней (11–12 октября), Андрей планировал заполнить все теплосистемы водой и испытать их под давлением – на предмет обнаружения возможных утечек ввиду какой-либо местной частичной разгерметизации системы. Они, наконец-то закончили переоборудование своей мастерской. Осталось только навести там после ремонта порядок – уборка, мытьё и расстановка мебели и прочего. Но это уже мелочи. К началу отопительного сезона они уже также будут сидеть в уютной "каптёрке". Теперь их мастерскую уже не стыдно показать и майору Лукшину, Грицюку, да и кому угодно. Только это уже будет на следующей неделе.
ГЛАВА 25. Магдебург
Но вот уже закончилась трудовая неделя и наступила суббота – день, на который была запланирована поездка с Александровым в Магдебург. Находился тот примерно в 55 км на юг от Стендаля. И хоть это не так уж далеко, выехать они решили пораньше: во-первых, в Магдебург предстояло ехать с вокзала в Стендале, а во-вторых Магдебург – это не Гарделеген, там придётся долго бродить по нему. Вот только они совсем не знали этого города, и не представляли, где именно им придётся бродить. Врачу, правда, его коллеги (те, с которыми они играли в карты) объяснили, как добраться до нашего гарнизона в городе, но о самом городе и они мало что знали. Друзья же надеялись, что на большом вокзале в Магдебурге им удастся купить какой-нибудь буклет или путеводитель по городу – если такие буклеты есть, к примеру, в Киеве, то почему им не быть в Магдебурге. А ещё, как говорится, язык до Киева довёдёт. Правда, этот язык в их исполнении пока что очень ненадёжное средство общения, но что поделаешь – не всё сразу.
В поезде они, как раз и обсудили тему преподавания иностранных языков в Союзе – в школе и в институте. Раньше Морозевич думал, что это только ему так "повезло" со знанием иностранного языка, но, пообщавшись с тёзкой, понял, что это проблема более глобальная. В специализированных ВУЗах иностранные языки преподавали очень хорошо, но на то они и специализированные. А вот в других ВУЗах – и технических, и гуманитарных языки молодые специалисты после окончания учебного заведения знали очень плохо. В анкетах, которые им доводилось заполнять, была графа "Знание иностранных языков", в которой практически все писали изучаемый в школе язык (английский, немецкий, французский) и далее приписывали "со словарём". Вот только подобный словарь им был необходим практически от "А" и до "Я", потому что собственный словарный запас был очень ограничен. Андрея очень удивляло, когда он в газетах или журналах прочитывал о том, что какой-нибудь зарубежный инженер среднего звена знает два-три иностранных языка, и знает очень хорошо – легко на них объясняется.
Но думы думами, а они уже начали приближаться к Магдебургу. Оба приятеля впервые ехали в немецком поезде по советским понятиям дальнего следования. Поездка в Гарделеген это было какое-то подобие электрички. Сейчас они ехали проходящим через Стендаль дневным экспрессом, который останавливается только в крупных и средних городах. Такие поезда имеют разделённые стеклянной дверью купе с сидячими местами, а также бар или ресторан. Они выяснили, что бывают также дневные высокоскоростные экспрессы, которые останавливается только в крупных городах, а также ночные спальные поезда – одно– двух– и четырёхместные купе со спальными местами. Недалеко от Магдебурга они пересекли, судя по указателю, реку Эльба.
– Вот, где-то в этих местах наши отцы и встретились с союзниками в Великую отечественную войну, – задумчиво протянул Александров.
– Да, это так, только одно непонятно – мы пересекли Эльбу, а города то ещё не видно. А Эльба протекает через Магдебург. Странно.
– Да нет ничего странного – или река петляет или же у неё имеются рукава.
– Вполне возможно. А вон, кстати, уже и город показался.
– Ну что ж, значит скоро и начнётся наша экскурсия.
Экскурсия, а точнее будет сказать, попытки её осуществления, действительно, вскоре начались. Здание магдебургского железнодорожного вокзала производило довольно странное впечатление по сравнению с довольно симпатичным строением вокзала Стендаля. Это была тёмная двухэтажная постройка с немного выступавшей центральной частью. Окна, да и сами этажи (особенно первый) были довольно высокими. Но само здание больше напоминало какое-то административное учреждение, очень уж оно было каким-то строгим и "тяжеловесным". Напротив здания вокзала, за привокзальной площадью располагалась девятиэтажная гостиница "Интернационал".
В киоске, не на самом вокзале, а возле него они нашли некое подобие буклета по Магдебургу, где были приведены достопримечательности города. Но их ещё нужно было отыскать в этом переплетении улиц. Магдебург то довольно крупный город. Этот древний город является столицей федеральной земли Саксония-Анхальт. Его население насчитывает более 200 тысяч жителей. Это город со многими отраслями промышленности, но преобладает в нём тяжёлое машиностроение, например, Магдебургский комбинат тяжёлого машиностроения. Одновремённо в городе имеется множество красивых уголков.
На этот раз основную экскурсию было решено провести именно по городу, а уже в гарнизон наведаться, когда для этого останется время. Как живут наши люди в гарнизонах, они уже знали. Конечно, в Магдебурге гарнизон значительно больший, ведь там располагается не полк, не дивизия, а 3-я общевойсковая Краснознамённая армия. Но быт во всех гарнизонах одинаков, разве что в некоторых магазинов побольше да вместо клубов Дома офицеров. Так что военный городок они оставят напоследок – если останется время. Вот только с чего начать экскурсию по незнакомому городу?
– Ты знаешь, – задумчиво протянул Морозевич, – можно применить метод, который я использовал для более детального изучения Москвы, когда работал в Калуге.
– И что это за метод?
– Я ехал в центр, например к Красной площади, а там отходил немного от неё, садился на автобус или троллейбус и ехал наугад в любом направлении. Минут через 15–20 я выходил и уже пешком направлялся в сторону Красной площади. И по пути, который длился уже часа полтора, я открывал для себя очень много интересных мест.
– А почему ты отъезжал на троллейбусе или автобусе? Ведь в Москве есть метро.
– Э, нет, на метро это не получится. Ты же не видишь, в какую сторону ты отъезжаешь и куда нужно возвращаться.
– Можно было по солнцу ориентироваться.
– Это в лесу можно по солнцу ориентироваться, но не в случае с метром. Я первый раз так и сделал, но потом так заблудился, что пришлось искать ближайшую станцию метро. Хорошо что там схемы метро есть.
– Не понял, почему ты заблудился? Например, ты запомнил, что тебе к Красной площади нужно идти в сторону солнца. Вышел из метро и иди себе в этом направлении.
– Раньше и я так думал, – улыбнулся Андрей. – Пока не обжёгся. Ты представь себе, что метро завозит тебя тоже по направлению к солнцу. Тогда ты выходишь между Красной площадью и солнцем. Но ты же этого не знаешь – ты же под землёй ехал. И куда ты попадёшь, продолжая идти в сторону солнца? Уразумел?
– Подожди, почему ты не знаешь, в какую сторону ты ехал на метро? Там же схемы есть.
– Есть, конечно, только эти схемы не привязаны к сторонам света. В Киеве что, на аналогичных схемах есть указатели сторон света?
– Нет, конечно. Но они более-менее, насколько я сейчас помню, соответствуют этим указателям.
– Вот именно, более-менее. Нет, нужно ехать только наземным транспортом, чтобы видеть в которую сторону он направляется. Он, конечно, петляет, но это не мешает находить дорогу назад по тому же солнцу.
– Да, ты смотри как интересно, – улыбнулся и Александров. – Я о таких нюансах и не подумал. Но нам это не грозит, потому что в Магдебурге нет метро. Так что доберёмся до центра, а там используем твоё метод, хоть что-нибудь да увидим.
Увидели они не так уж и мало. Самой запоминающей, по мнению обоих Андреев была скульптура, посвящённая одному физическому явлению, а именно – вакууму. Магдебург как раз был известен каждому школьнику, учившему физику, благодаря этому памятнику. Именно в этом городе был проведен опыт с "магдебургскими полушариями": два плотно подогнанных друг к другу металлических полушария соединили, откачали из них воздух и попытались разъединить шестнадцатью лошадьми. Вакуум держал полушария вместе и не давал лошадям разъединить их. Представшая перед друзьями скульптура как раз изображала всадников на двух лошадях, которые безуспешно пытались разъединить половинки шара, из которого выкачан воздух.
– Да, любопытная скульптура, – отметил Александров. – Только, насколько я помню, лошадей должно было быть побольше.
– Но это же просто символический памятник.
Что же они увидели в Магдебурге ещё. В первую очередь, его как бы символ – собор святых Мауритиуса и Катарины с его башнями высотой около 100 метров. Собор с его фронтонами и аркадами, его порталами, эпитафиями и скульптурами предстал перед ними в виде ансамбля произведений искусства восьми веков. Увидели они также Магдебургского всадника – статую всадника, представляющую кайзера Отто I-го, которая была создана в 1240-м году и находится на Старом рынке. Около всадника изображены две девушки, которые символизируют юных дев, сопровождавших властителя при каждом его появлении на публике.
В "светской" части Магдебурга (а есть ещё и "духовная часть") они увидели Рыночную площадь с двухэтажной ратушей XVII-го века. Но что было удивительно для друзей, так это то, что и перед ней стоял рыцарь Роланд. Здесь уже Александров дополнил рассказ Морозевича об этом рыцаре. Он где-то вычитал, что в Средние века эту статую было принято ставить на главную площадь города, чтобы он охранял город от напастей вроде войны или чумы. Ну, и, конечно, Роланд также служил символом справедливости в городе. Интересной достопримечательностью Магдебурга был его городской парк "Ротехорн". Он расположен на внутригородском острове Эльбы. Это так называемая "зелёная душа" Магдебурга и вообще один из красивейших английских парков Германии. Парк являлся одним из любимых мест магдебуржцев для проведения времени на природе, особенно летом. Приятели осмотрели его, прогуливаясь по пешеходному подвесному мосту через Эльбу.
Конечно, друзья не могли увидеть все достопримечательности города, за такое короткое время это было и не возможно. Но они радовались и тому, что увидели. Кроме достопримечательностей города они ещё просто ходили и любовались его улочками и площадями, его строениями. И вот как раз с улицей у них был связан один эпизод, который они запомнили надолго и по возвращению в Союз часто рассказывали о нём друзьям и знакомым.
Ещё в самом начале своей экскурсии по центру города по их предполагаемому маршруту им необходимо было перейти довольно широкую улицу. Транспорта было мало и перед переходом, оглядевшись по сторонам и не увидев приближающихся машин, они смело ступили на пешеходную дорожку, размеченную на проезжей части. Морозевич сделал всего пару шагов по ней и явственно ощутил (пожалуй, впервые в жизни) как его спину что-то буравит. Он, а за ним и Александров, оглянулись назад и увидели, что их "буравят" недоумённые и даже испуганные взгляды немцев. Они тот час поняли, в чём дело и тут же вернулись на тротуар. Они стояли с красными лицами, не смея поднять глаза. Перед переходом, как обычно, стоял светофор. Они видели, что он горел красным цветом, но не придали этому никакого значения, машин то нет, значит можно спокойно переходить. В Союзе все так поступали, особенно в провинциальных городах. В Союзе да, но не в Германии! Немецкая пунктуальность и дисциплинированность не позволяла гражданам даже мысленно представить себе ситуацию, при которой можно идти на красный свет светофора – есть ли на проезжей части автомобили или же их нет. В Стендале улочки были небольшие, светофоров мало и поэтому одному и другому Андрею не приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Получив хороший урок, они в дальнейшем были очень внимательными при переходе улиц.
Они заходили в некоторые крупные магазины, попадающиеся им по пути. Мелких они избегали. Александров уже тоже был наслышан о традициях, так сказать, мелких магазинчиков: зашёл – купи. Но поскольку они не планировали покупать что-то конкретное, то предпочитали крупные магазины – в них хоть можно немного осмотреться. Хотя часто и в них, вероятно, заведующие секциями подходили к ним и спрашивали о том, что они хотят приобрести. В самом городе они в итоге так ничего и не купили – Александров, правда, купил позже одну мелочь, но не в самом городе.
Поскольку они проводили пешую экскурсию, лишь изредка подъезжая на общественном транспорте, то к обеду уже изрядно устали. Они зашли в ближайшее кафе и, не спеша, основательно там подкрепились, а заодно и немного отдохнули. Следует пару слов сказать о посуде, в которой хозяева заведений подавали пищу. Она была подобна в разных городах – и в Стендале, и в Магдебурге. Морозевич это отметил давно. Если для первых блюд были обыкновенные тарелки, то вот тарелки, на которых немцы подавали вторые блюда, были довольно интересными. Такая тарелка прямоугольной или немного овальной формы (фарфоровая или пластмассовая) со скруглёнными углами была разделена рельефными выступами на две части: в первой части располагалось основное блюдо, например, отбивная. Вторая же была предназначена для гарнира и подобными рельефными выступами делилась уже на 3–5 частей – они могли быть прямоугольной или в форме усечённых секторов (чаще). Все эти части заполнялись разными видами гарнира. Это в зависимости от сезона, вкусов хозяина заведения или его фантазии могли быть: отварной картофель брусочками, отварные морковь или свекла кубиками, свежая или тушёная капуста, зелёный горошек, тонкие отваренные стручки спаржевой фасоли или сама рваная спаржа. Характерным было ещё и то, что гарнир (даже отварной картофель) был совершенно пресным – его никогда не поливали никакими соусами, что так характерно для славянской кухни. Он мог быть разве что слегка подсолен (варился в солёной воде) и только. Далее клиент его сам досаливал, доперчивал и тому подобное.
Далее приятели обсудили план своих дальнейших действий и решили продолжить экскурсию уже в направлении гарнизона – всё равно они весь город не осмотрят, а представление о нём они уже получили. По дороге к военному городку они попутно ещё что-нибудь увидят. Так они и поступили. Попали на территорию гарнизона они довольно скоро и без проблем. Они немного побродили по городку, пообщались с местным населением, заглянули в некоторые магазинчики. Конечно, территорию гарнизона никак нельзя было сравнивать с территорией их городка. Ведь в Магдебурге, где, как они узнали из рассказов местных жителей, стоял штаб армии и размещался приличный гарнизон, кроме того, рядом ещё находился и крупнейший в ГСВГ полигон, куда регулярно съезжались части с бронетехникой чуть не со всей ГДР. Оба Андрея не ставили себе целью детально изучить городок, зачем это нужно. Так, немного ознакомились – и достаточно. В городке им запомнились многоэтажные казармы, Дом офицеров и, конечно же, располагавшаяся поблизости средняя школа? 37. Это было массивное угловое трёхэтажное (а с мансардами так и четырёх) строение с круглой башней и арочным угловым входом со стороны Эльбы.
Там же в городке, зайдя в один из бакалейных гарнизонных магазинчиков и посмотрев на его полки, Александров вдруг сказал своему тёзке:
– О, здесь я кое-что куплю.
– И что же ты присмотрел?
– "Герцеговину Флор".
– Ух, ты!? – удивился тёзка. – Это тот самый табак, который курил Сталин?
– Вот именно. Только здесь не табак, а папиросы. Покурим, попробуем. Сталин, конечно, курил не папиросы, а именно табак, набивая им свою трубку. А мы попробуем папиросы. Трубок у нас с тобой не имеется.
Купив коробку папирос, они вышли наружу, прошли немного, а затем присев на низенькую металлическую ограду, распечатали коробку. Они закурили по папироске, и Морозевич сказал:
– Табак, действительно, приятный, а сама коробка какая-то невзрачная. Другие папиросы более красочные.
Выглядела коробка довольно просто. На других коробках папирос были какие-то, скажем так, картинки: на "Богатырях", к примеру, красовались три богатыря, на "Казбеке" – всадник на фоне гор и голубого неба, на наиболее распространённом "Беломорканале", – участок карты с каналом (правда, последние были в мягкой упаковке.). На этой же коробке на тёмном фоне была простая надпись прямоугольным шрифтом золотого цвета названия папирос и внизу логотип подмосковной табачной фабрики "Ява" – и всё.
– Да, табак хороший, – протянул Александров. – Я хотел их ещё в Киеве попробовать, но не попадались они мне. Может быть в "Каштане" они и были, но мне туда, естественно, хода не было.
– Что это ещё за каштан? – удивился Морозевич.
– А ты не знаешь? – в свою очередь удивился первый Андрей. – Хотя, возможно, что их у вас и не было. Полтава – город ведь небольшой.
И он рассказал, что "Каштаном" на Украине назывался один из созданных в 1964-м году "сертификатных" (а с 1974-го года "чековых") магазинов сети фирменной розничной торговли, который реализовывали товары и продукты питания за иностранную валюту (иностранцам) и сертификаты или чеки Внешторгбанка и Внешпосылторга. Магазины этой торговой сети существовали только в Москве, Ленинграде, столицах союзных республик и крупных областных центрах. Они носили и другие названия, чаще всего связанные с характерным для данной республики деревом – так, в России, например, они назывались "Берёзка", в Азербайджане – "Чинар", а вот в Латвии – "Дзинтарс" ("Янтарь").
Морозевич как раз с 1964-го года 5 лет учился в Киеве, но сталкиваться с подобными магазинами ему не приходилось. Он, конечно, краем уха слышал о валютных магазинах, но никогда ими не интересовался. Да и откуда у студентов могли взяться деньги на поход в подобный магазин. К тому же эти деньги необходимо было заранее обменять на чеки или валюту. Он также слышал о, так называемых, "фарцовщиках", которые и занимались подобным обменом. Он знал о них ещё с конца 50-х годов, когда в СССР появились "стиляги" – как бы основатели разных обменов денег и товаров у иностранцев. Но сам он никогда к числу таковых не принадлежал, хотя в их районной школе пара-тройка таких была – но их клеймили позором на каждом углу. Андрей никогда не стремился приобрести что-нибудь модное из одежды. Его интересы на этом поприще ограничивались плащом-болоньей и слегка суженными (чтобы не выделяться в компании друзей) брюками. Наибольшего расцвета стиляжничсество и фарцовка, пожалуй, достигли после прошедшего в Москве в 1957-м году VI-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Не рискуя продолжать далее разговор о неведомых ему магазинах, он предпочёл сменить тему:
– А я вот слышал, что рисунок на пачке "Казбека", вроде бы, сам Сталин утверждал. А курил, видишь ли, "Герцеговину Флор". Наверное, именно благодаря выбору Сталина, эти папиросы начали считаться очень престижными среди элиты общества и богемы, а сейчас уже эта марка папирос, как и нескорые другие, поставляется на экспорт в страны социалистического лагеря.
Выкурив по папиросе, они поднялись и, не спеша, пошли дальше. Пора уже было выбираться в город. Хотя время их ещё не поджимало – они заранее купили билеты на обратный поезд, – но не особенно хотелось бродить по незнакомым улицам Магдебурга вечером. Пора то была осенняя и световые дни в октябре уже стали значительно короче. Назад они сначала пошли к центру пешком, но затем сели на автобус, направляющийся в сторону железнодорожного вокзала. Он к самому вокзалу не шёл, но дальше они снова пошли пешком – они немного запомнили дорогу в начале своего путешествия. На вокзале им тоже пришлось ещё немного погулять – скамейки в зале вокзала были неудобными и не располагали к длинному отдыху. У немцев вообще не принято долгое время проводить на вокзалах, а уж ночевать, как это постоянно случается на вокзалах крупных городов Союза, тем более. Ночью, долго пребывая на вокзале, ты становишься объектом пристального внимания полицейских, а иногда и преступных элементов.
Возвратились они в Стендаль поздно вечером – было уже совсем темно. А ещё им предстояло добираться до Борстеля. Хорошо ещё, что в ГДР, не в пример магазинам, по выходным исправно работает городской транспорт, и им не пришлось добираться до своего городка пешком. И они к нему успешно добрались, хоть и очень уставшие, но не разочарованные – проведенным днём они остались очень довольны. Их ещё успокаивала мысль о том, что они очень правильно спланировали свою поездку – ведь завтра полноценный выходной и можно хорошо отдохнуть у себя в городке.
Дополнили свой отдых друзья в воскресенье и более активным, точнее спортивным – они поиграли на стадионе в футбол, а затем, помывшись и переодевшись, пошли играть вместе с Кирзоняном (Вася куда-то запропастился) в бильярд. И, наконец, поздним вечером, пошли в клуб, где демонстрировался не совсем новый, но и не такой уж старый и довольно интересный советский фильм.
ГЛАВА 26. Начало сезона
А дальше уже начиналась новая трудовая неделя и лично для Андрея она выдалась очень напряжённой. Да, ещё на прошлой неделе подготовительные работы к новому отопительному сезону были практически завершены. Осталось, как уже говорилось, проверить герметичность систем. Это была кропотливая работа. В системах водяного отопления это сделать можно было легче, не разжигая котлов, а просто заполнив всю систему водой. Конечно, для очень качественной проверки давления водопроводной сети было недостаточно, но некачественные сварные швы или протечки на соединении приборов обнаружить можно было. Вот только для этого необходимо было пройти все участки трубопроводов или же в квартирах проверить такие обогревательные приборы, а это были, конечно, радиаторы. С радиаторами было проще – их нужно было проверять, конечно, не во всех квартирах (с этим и за месяц не справились бы), а только там, где они были заменены. А таких случаев были единицы. С трубопроводами было посложнее: видимых трубопроводов тоже было многовато и требовалось определённое время для их проверки. Причём не только те участки, которые ремонтировались, но и остальные – сварные швы старых участков имели свойство ржаветь и могли дать течь. Но большинство подающих трубопроводов пролегали в каналах под землёй. Те участки, что ремонтировались, были просто прикрыты бетонными плитами (чтобы не попадали дождевые воды), но землёй временно не засыпались. Их тоже не представляло сложности проверить. Остальной же метраж (а может и километраж) сейчас не представляло возможности проверить – они могут дать о себе знать только уже в период отопительного сезона. Практически невозможно было проверить системы парового отопления, потому что их водой не заполнишь – конденсатоотводчики (а они были поплавковые) на обратных трубопроводах (так называемых, «обратках») не справятся с таким обилием воды и могут выйти из строя. Конденсатоотводчики в таких котельных были предназначены для автоматического отделения конденсата от пароводяной эмульсии и выведения его из системы. Этот конденсат появляется в результате потери паром тепла в теплообменниках, когда часть пара превращается в воду. Паром же без растопки котлов такие системы не заполнишь. Две котельных с паровым отоплением работали и летом, и было ещё две таких котельных, которые летом не обслуживались. Опять таки приходилось делать просто визуальный обзор таких паропроводов и уповать на то, что они не подведут. Разжигать сейчас котлы в этих котельных не имело смысла – через пару дней это придётся делать планово.
Кроме того, Андрею необходимо было заняться рутинной работой – составить графики работы кочегаров, довести их до сведения и развесить во всех котельных на специальных стендах, где постоянно висели документы по служебным обязанностям кочегаров, правилам техники безопасности и прочее. Некоторые из этих документов нужно было обновить. Копии графиков работы кочегаров должны были быть у майора Лукшина, да и у него самого – он должен был постоянно знать, кто из его подчинённых сейчас на смене. Эту работу Андрей начал делать ещё с наступлением осени, когда переформировал бригады кочегаров, но многое ещё осталось недоделанным. Обновляя документацию, ему приходилось через Лукшина обращаться в канцелярию к машинистке, поскольку ни у кого в службах пишущих машинок не было. Такими вот выдались последние дни перед 15 октября. Это ещё хорошо, что тёплой выдалась осень, и не довелось начинать отопительный сезон раньше. Ведь отопительный сезон пришлось бы начинать и раньше, если бы среднесуточная температура за последние 5 суток не превышала + 8 °C. Но осень, слава Богу, не подвела Андрея – ему не пришлось ничего делать в авральном порядке. А дни, действительно, стояли тёплые, грибные.
В один из таких дней в обеденный перерыв Андрей подсел к группе своих подчинённых, расположившихся на лавочках. Он достал сигареты, закурил и вполуха слушал разные анекдоты и байки, которыми они потчевали друг друга. Кроме того, они подобно старушкам в союзных дворах на таких же лавочках, комментировали действия каждого проходящего или же того самого.
– Куда это, интересно, "220" потопал? – протянул после очередного анекдота один из слесарей, увидев вышедшего из общежития и направившегося в сторону штаба Горшкова. Почему начальника электрохозяйства нарекли именно таким прозвищем, было, конечно же, всем понятно.
– Куда-куда, наверное, к Альхену или отцу Фёдору, – предположил, улыбнувшись, Николай Кравченко.
– А всё же Ильф и Петров классные писатели, – произнёс Анатолий Громов. – Хорошие у них персонажи книг. И у нас здесь есть почти все основные действующие лица их книг – Балаганов, Тихон, Корейко, Паниковский, Козлевич.
Начальник теплохозяйства улыбнулся, слушая трёп своих подчинённых. Язык у одесситов, действительно, был без костей, да и глаз острый – они подмечали все тонкости и моментально давали человеку кличку, которая потом надолго прилипала к нему. Кроме прозвища братьям Батуриным ("братья Карамазовы"), одесситы нарекли различными псевдонимами-кличками многих служащих, а также некоторых военнослужащих городка, как того же фельдшера Васю. Например, сварщика Александра Колыванова одесситы прозвали Шурой Балагановым – кроме имени и созвучной фамилии тот, и в самом деле, внешним видом и своей наивностью несколько напоминал популярного персонажа книги "Двенадцати стульев". Кирзонян был для них миллионером "Корейко", Андрей Александров невинным "Айболитом". Лукича они как раз и прозывали "Альхен" – по аналогии с застенчивым ворюгой, завхозом одного из домов "Старсобеса", который обкрадывал беспомощных старушек в богадельне. Вячеслав Пампушко почему-то был водителем Козлевичем из "Золотого телёнка" – вероятно потому, что постоянно возил тачку с газосварочным аппаратом (как, впрочем, и Колыванов). Одесситам вообще очень нравились произведения их знаменитых земляков Ильфа и Петрова. Они постоянно цитировали героев их книг, а порой спорили между собой: например, в доме под каким номером на такой-то улице проживал один их героев – номер шесть или восемь. У них ещё несколько человек ассоциировались с персонажами "Двенадцати стульев". Так, например, Афанасий Шмелёв был дворником Тихоном (тоже было определённое сходство), прапорщик Пинчук – "нэпманом Кислярским", а вот майор Лукшин и значился отцом Фёдором. Они, памятуя о прошедшей накануне планёрке начальников служб у Лукшина, часто спрашивали Андрея по утрам: "Ну, на какие дела нас сегодня благословил отец Фёдор?". Перечислить все их выдумки было непросто. Из произнесённых Громовым кличек Морозевич почти всех их обладателей знал. Кроме одного – кто скрывается под кличкой "Паниковский"? Этого Андрей не знал.