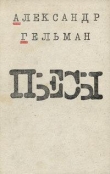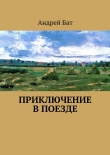Текст книги "Не повторяется такое никогда!"
Автор книги: Александр Ройко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
После этого Вячеслава Пампушко надёжно закрепили на последнем, немного выдвинутом звене лестницы. Это было непросто, потому что нужно было, чтобы крепёжные ремни не мешали подъёму, надёжно страховали газосварщика и, одновремённо, не стесняли его действий. Наконец, проверив всё, командир расчёта дал команду поднимать лестницу с Пампушко, и лестница медленно начала подниматься. Как не волновались стоящие на земле, подъём прошёл благополучно. Тем временем Колыванов с солдатами, которые тащили газосварочный аппарат, кислородный баллон и шланги, поднялись на крышу дома. С ними поднялся и Сергей – на всякий случай нужно было верёвкой страховать и Колыванова, который будет подавать Пампушко шланги и материалы. Поднявшись в нужную точку, Пампушко немного подождал, пока хорошо застопорили лестницу, а затем начал распаковывать теплоизоляцию трубы.
Оказалось, как позже рассказал Славик, разморозилась не сама труба, а чугунный уголок, который соединял вертикальную и горизонтальную (вход в стену) части магистрали. Чугун менее стоек при подобных расширениях, нежели сталь, потому то и разморозился (треснул) именно чугунный уголок. Немцы, которые возводили здание, всю систему трубопроводов собирали только на резьбе, а не с помощью сварки. При этом изоляция в месте поворота трубы была немного раскрыта. То ли плохо её смонтировали, то ли ветер её немного растрепал, но этот уголок оказался почти открытым. Повороты трубопроводов всегда были непростым местом для изоляции, да ещё у немцев, которые закрывали шлаковату (теплоизоляционный материал) не рубероидом, как в Союзе, а специальным гибким пластиком. Но для поворотов он то, как раз был недостаточно гибок, чтобы надёжно закрыть чугунный уголок – вот мороз и разморозил именно его.
Теперь же этот уголок пришлось вырезать и вваривать стальной отвод. Заняло это относительно много времени. В других условиях, конечно, это была бы пустяковая работа. Но не на высоте, на ветру, да ещё в холодное время года (пусть и не было мороза). Кроме того, на лестнице всё же стоять было не совсем удобно, и Пампушко часто отдыхал, грел руки (в рукавицах Вячеславу работать было неудобно). Но, в конце концов, работа была сделана. Теперь уже изоляцию вваренной части трубы производили с помощью шлаковаты и нешироких полосок рубероида, бинтуя трубу как локтевой или коленный сустав, и одновремённо обматывая мягкой проволокой. Действовали Пампушко и Колыванов с Митрохиным слаженно, и к полудню все работы были завершены. Систему дополнили водой и испытали – всё было нормально. Лукшин поблагодарил всех тех, кто участвовал в ремонтных работах, и они начали покидать место бывшей аварии. Андрей сдержал своё слово, он вечером зашёл в "Хоромы" и немного посидел с ребятами ха столом.
На первой же планёрке 1977-го года в понедельник Лукшин от имени командира ОБАТО и его лично выразил благодарность Морозевичу за грамотное и своевременное устранение последствий аварии. Когда же планёрка завершилась, он обратился к начальнику теплохозяйства:
– Андрей Николаевич, задержитесь.
Когда они остались наедине, майор сказал:
– Ну что, Андрей Николаевич, можно подвести итоги прошедшего года – вы себя за эти полгода проявили хорошо. А потому завтра прямо с утра вы идёте к начальнику медчасти и визируете своё заявление на вызов жены. Затем с этим заявлением сразу же ко мне. Я его тоже завизирую, и командир вам его подпишет.
– А если не согласится начальник медчасти? – спросил Андрей, почувствовав, как бешено заколотилось его сердце.
– Ещё чего! Командир ОБАТО согласен подписать, а начальник медчасти откажется? Такого в армии не бывает. Так что не забивайте себе ерундой голову, а действуйте.
Анатолий вышел из кабинета заместителя командира батальона окрылённый. Вот уж точно – никогда не знаешь, где найдёшь, а где потеряешь. Не случись эта авария, то кто его знает, сколько бы времени ему ещё пришлось обивать пороги разных гарнизонных инстанций. А эта злосчастная авария, точнее, её успешное устранение в один момент решило все вопросы. Конечно, завтра с самого утра Андрей помчался в санчасть с заявлением, которое начальник этой службы подписал, не задав при этом ни единого вопроса. Морозевич тут же занёс завизированное заявление Лукшину, а в конце недели старший лейтенант Клюев, с которым у Андрея установились неплохие отношения, сообщил ему, что Андреев подписал вызов на его жену, который он ещё вчера отправил в соответствующие инстанции в СССР. Так неожиданно, сначала печально, а потом довольно радостно завершилась для Андрея первая неделя нового 1977-го года.
ГЛАВА 32. Новые приобретения
В дальнейшем январь месяц никаких проблем для Андрея и его подчинённых не создавал. Мелкие хлопоты, конечно, случались, но они не шли ни в какое сравнение с проблемами в начале года. Видимо, Всевышний решил, что на первый раз с Морозевича достаточно – один экзамен он сдал, но не следует их проводить очень часто. Погода, вообще-то, для теплотехников была не совсем подходящая. Нет, особых холодов не было, так же, впрочем, как и снега. Но уж очень она была неустойчивой – то подморозит на 3–4 дня, а затем наступит оттепель. Это совсем не способствовало ритмичной работе котельных – то сильнее топи, то слабее. Но всё же к этим капризам погоды приноровились. И всё шло более-менее нормально.
Пока теплохозяйство, да и все широты, на которых находился гарнизон, какой-то природный покровитель решил поберечь от холодов, Андрей решил заняться вопросом получения отдельной комнаты для его дальнейшего проживания уже вместе с женой. Раз вызов отослан в Союз, то никто не сомневался, что жена Андрея вскоре приедет. Сам же он был просто уверен в этом – биография жены не имела каких-либо тёмных пятен – комсомолка, окончила с золотой медалью школу, успешно окончила институт и хорошо работала. Её отец провёл на фронте всю Великую отечественную войну, с первого и до последнего дня, причём служил в войсках НКВД.
Комнату Андрею могли выделить в 3-х местах: в жилом доме над мастерской теплохозяйства (где жил Лукич с женой), в верхних этажах над общежитием? 1 ("Лондон") или в жилых одноэтажных строениях, прозванными "Бухенвальд". В доме, где проживал Лукич, свободных комнат в настоящий момент не имелось. Сам Лукич освобождал комнату, возвращаясь на Родину, только в конце июня, но жена Морозевича по его расчётам должна была приехать гораздо раньше. В доме, где выше "Лондона" проживали в основном военнослужащие, имелась одна свободная комната, но она Андрею совсем не понравилась – угловая, холодная, да ещё и требует капитального ремонта. Оно было и понятно – как и везде, при отъезде кого-либо, происходило небольшое переселение проживающих, и, если комната уехавших была неплохая, то она незамедлительно занималась. В итоге после нескольких подобных ротаций жильцов оставались самые плохие комнаты. Андрей решил осмотреть жильё в одном из корпусов "Бухенвальда". Когда он был в гостях у Леонида, то там жильё ему понравилось – комнаты были просторные, современные (здание было построено сравнительно недавно). Минусом этого жилья являлось только то, что там не было центрального отопления, комнаты отапливались самыми жильцами. Военнослужащие не очень охотно поселялись там. Но это обстоятельство ещё неизвестно к чему следовало относить – к минусам, или же, наоборот, к плюсам. Если сравнивать с жилым домом лётного состава, то, несомненно, к минусу. А вот, если сравнивать с "Лондоном" или домом? 3, где жил Лукич, то, скорее, к плюсу. В обоих этих домах особого тепла не ощущалось, да и сами дома были ещё довоенными постройками. В остальном условия проживания были примерно одинаковы. Все перечисленные здания были построены по типу общежитий, а потому во всех их были места общественного пользования – кухни, санузлы, душевые.
В "Бухенвальде" отопление осуществлялось специальными печками-каминами на брикетном топливе. Это были небольшие аккуратные небольшие металлические мини-печки – немногим больше тумбочки, покрытые красивой тёмно-коричневой эмалью. Они не были встроены в стены комнат во время постройка зданий, а просто в любое время могли быть установлены у стены и подсоединялись к отверстию дымохода. Выписывались такие печки в КЭЧ, а устанавливала их служба Грицюка. Они легко растапливались и очень хорошо обогревали помещения – когда такие печки-камины уже были хорошо разогреты, то достаточно было подбросить в них 3–4 брикетины, чтобы долго поддерживать горение. Они не чадили, поскольку имели хорошую тягу – здания имели сравнительно высокие дымовые трубы, из-за чего (плюс одноэтажное строение по типу барака) их прозвали "Бухенвальдом". В комнате, конечно, немного ощущался небольшой специфический запах горения брикета. Но к нему очень быстро привыкали и далее уже не ощущали его – как до того тысячелетиями привыкали к запаху горящего костра. Но зато ты был сам себе хозяин и температуру воздуха в комнате мог регулировать самостоятельно, по своему усмотрению. Подбрасывали брикет в топку такой мини-печи практически всего пару раз – уходя утром на работу и возвращаясь с неё, уже ближе к ночи. Брикет регулярно завозили к зданиям, так же, как и к котельным, и поэтому обычно у входной двери у каждой проживающей семьи всегда стояло небольшое ведёрко набранного брикета.
Как выяснилось позже, общими кухнями в Бухенвальде пользовались редко – по праздникам, когда нужно было много готовить, или же в том случае, когда жарили какой-либо продукт, выделяющий в процессе жарки не совсем приятный запах, например, рыбу. Но это было не часто. А так в основном готовили у себя в комнатах, для чего покупали компактные комнатные настольные электроплитки. В зимний период печи-камины имели ещё одну выгоду – на них очень хорошо в нагретом состоянии ожидала хозяев, пришедших с работы, посуда с заранее приготовленной пищей – её уже не приходилось разогревать.
Сами жилые помещения в Бухенвальде были однокомнатные, но, если семья прапорщика или офицера (реже) имела несколько детей, то, с разрешения зам. командира ОБАТО по тылу, можно было совместить две комнаты. Тогда в удобном месте пробивался проём, в котором устанавливались двери. У такой комнаты тогда имелось две входные двери, одна из которых прикрывалась шкафом, занавешивалась ковриком или чем-то подобным. Аналогично поступали и в том случае, когда на место многодетной семьи поселись в каждой комнате по семье. Двери из одной комнаты в другую уже не закладывались, а просто в небольшую нишу вплотную к двери устанавливались шкафы в обеих комнатах, и это было довольно удобно.
Андрей, взвесив все "за" и "против", выбрал комнату для проживания именно в "Бухенвальде". Он осмотрел 3 свободные комнаты в 2-х зданиях и присмотрел неплохую, на его взгляд, комнату. И Морозевич сообщил о своём решении майору Лукшину и Грицюку – с того времени эта комната стала официально числиться за Морозевичем. Но её ещё нужно было привести в надлежащий вид. Времени было достаточно и Андрей, не спеша, занялся ремонтом комнаты. Она и так была в хорошем состоянии, но он всё же решил провести в ней косметический ремонт – обновить водоэмульсионной краской потолок и стены. Краскопульт у него в хозяйстве был свой, а пару солдат на несколько часов ему в один из дней выделил Лукич. Далее он договорился с тем же Лукичом о выписке новой печи-камина – старая в этой комнате уже имела не очень привлекательный вид. Кроме того, он попросил начальника КЭС выписать ему (на хозяйство самого Лукича) одну ДСП-плиту с коричневым ламинированным покрытием – для спинок и боковушек кровати, которую он собирался изготовить, а также, уже на своё хозяйство, несколько метров квадратного пустотелого металлического профиля. Основным предметом мебели в комнате всё же являлась кровать, без стола или шкафа, хоть и с трудом, но можно обойтись. А без кровати не очень то удобно – не будешь же постоянно спать на полу. Андрей решил последовать раннему (ещё летом) совету того же Лукича и изготовить хорошую кровать. Ранее за 6 лет их совместной жизни у Морозевичей кровати не было. Её им заменял раскладной диван, который днём использовался ещё и в качестве сидений. Площадь комнат, которые они снимали, не позволяла иметь много мебели, и такой диван был в этом плане удобным. Кроме дивана у них был шкаф, небольшой кухонный столик с навесным шкафчиком и двумя табуретками и тумбочка с телевизором. Позже появилась ещё и детская кроватка.
Лукич был прав ещё и в том, что на солдатских панцирных кроватях вдвоём не поспишь. Но другого материала для сооружения кровати не было. Не покупать же в самом то деле в Стендале двуспальную кровать. И Андрей решил соорудить кровать из имеющегося материала на свой вкус. Он решил объединить две панцирные сетки в одну, сделав некое подобие двух– или полутора спальной кровати. Чего-чего, а солдатских кроватей в гарнизоне хватало. Спинки от них Морозевичу были не нужны, нужны были только сетки с рамкой. Его сварщики объединили две таких рамки с сетками в одну, выкинув по одной из их боковых сторон – иначе посредине получалась жёсткая перемычка, на которой не очень то поспишь. Посредине две сетки они соединили жёсткой проволокой по типу того, как соединяются плоские пружины диванов. Жёсткость и надёжность соединения была отличная. Но панцирная сетка имела одно не совсем полезное свойство – чем больше была её площадь, тем больше она посредине прогибалась. Спать в такой яме, конечно же, не годилось. Тогда Андрей решил закрепить на том же каркасе кровати второй ряд панцирной сетки, но уже поперёк, соединяя его с первым рядом той же жёсткой проволокой. И вот тогда сетка изготовленной кровати получилась отличной – в меру жёсткая, она и пружинила, но и не очень прогибалась, как раз то, что нужно. Конечно, изготовление этого главного элемента кровати сопровождалось потоком едких шуточек, но дело своё сварщики сделали добросовестно.
Стенки кровати по изготовлению заняли, пожалуй, не меньше времени, но работа не была сложной, а они сами получились довольно симпатичными, ажурными, но прочными – именно они были выполнены их квадратного профиля, на ножках с пластинками-пятками. Эти рамки металлических рамок спинки прочно и надёжно крепились к каркасу сетки с помощью болтов через ужесточающие конструкцию косынки. Собрав спинки с рамкой, ребята в шутку даже испытали кровать, используя её в качестве своеобразного батута, и признали её вполне соответствующей прямому назначению. Из ламинированной ДСП Андрей изготовил две разной высоты спинки и две одинаковые боковины шириной примерно 25 см по всей длине кровати. Торцы спинок и боковушек он обклеил плотной тёмно-коричневой бумагой. Оставался только вопрос, как прикрепить деревянные части к металлическому каркасу кровати, не хотелось крепить их обычными машиностроительными болтами. Однако всё тот же Грицюк подсказал Андрею, что в немецких магазинах продаются специальные мебельные болты с круглыми слегка сферическими головками, причём двух типов: чёрные (воронёные) и блестящие (хромированные). Андрей съездил в Стендаль и купил два десятка таких болтов. Правда, хромированных он не нашёл. Но чёрные воронёные вполне смотрелись на тёмно-коричневой поверхности деревянных частей и не так выделялись. Сам же каркас кровати Андрей покрасил светло-коричневой краской, как бы немного оттеняя более тёмный цвет спинок и боковушек. Когда ребята полностью собрали кровать, то вид у неё был ничем не хуже фабричной.
Вообще, начало нового календарного года ознаменовалось для Андрея рядом приобретений. Кроме такого крупного приобретения, как отдельная комната, а затем печи-камина в неё и кровати, он немного ещё и приоделся. В конце прошлого года Морозевич очень редко ездил в Стендаль. Покупки он совершать не собирался, а в КЭЧ ездить не было особой необходимости. В наступившем же году он поехал в город по истечении двух недель, в третью субботу, 15-го января. Поехал он потому, что ему понадобились мебельные болты к кровати. И оказалось, что Морозевичу не в чем ехать в город, в самом прямом смысле. Он, как и остальные, привык ходить в городке в технической куртке, она была удобная и тёплая. Но ехать в такой куртке в Стендаль было неудобно, хотя некоторые и ездили. У Андрея была привезенная с собой только одна сравнительно тёплая вещь – осенняя, уже не новая куртка. Пришлось надеть пару тёплых рубашек и ехать в ней – благо в их широтах в самый пик зимы по-прежнему не было морозов. Андрей довольно быстро купил мебельные болты и вернулся в городок. Но в этот же день он принял твёрдое решение купить себе подходящую выходную верхнюю зимнюю одежду. Он как-то совсем выпустил из виду, что она ему просто необходима, особенно сейчас – приедет жена, а её не в чем ни встретить, ни затем с ней в городок выйти или в Стендаль съездить. Но он пока не мог определиться, что ему покупать: тёплое пальто, полушубок из искусственного меха или что-то другое. Пальто ему не хотелось покупать, полушубки, в которых ходили в основном только немцы – тем более. И он приглядел, что многие военнослужащие не на службе ходят в тёплых куртках-полупальто, которые называются "анораки".
Анорак себя прекрасно зарекомендовал. Это была довольно тёплая и удобная вещь. В общем-то это была национальная немецкая разработка, частично заимствованная у народов Севера. Ещё до войны их носили альпинисты, а в войну – егеря-эдельвейсы, это была штатная часть их экипировки. Он в основном был однотонным и мог носиться даже поверх кителя.
Однако, приобретённый Андреем анорак, собственно говоря, не совсем соответствовал этому названию, потому, что анорак – это лёгкая ветрозащитная куртка с капюшоном, надеваемая через голову. Это плащ-пальто через голову не одевалось. Анорак одевался как обычное пальто и застёгивался и на молнию, и на пуговицы, имел карманы-кенгуру, по низу рукавов и куртки проходил стягивающий шнурок. Мех его отстёгивался, этот анорак был тёплым, не продуваемым и зимой. Кроме того, настоящий анорак не очень длинный, а у этой одёжки длина позволяла сохранить в тепле все чувствительные части организма. Ранее это была традиционная эскимосская глухая одежда, защищающая от мороза – тёплая куртка с капюшоном (глухого покроя, которая позже использовалась для работы в Арктике) или плащ на утеплённой подкладке, с застёжкой, кушаком.
Эта одёжка, с лёгкой руки немцев именуемая "анорак", скорее походила на военно-полевую зимнюю куртку "Смок", которая обычно состоит из основной куртки и куртки подстёжки. Основная куртка изготавливалась из плотной смесовой ткани хлопка и нейлона, с водоотталкивающей пропиткой. Такая ткань обладает высокими ветрозащитными свойствами и уменьшает возможность механических повреждений. Объём анорака по талии и низу регулировался шнурами. Куртка имела несколько наружных карманов и 2 внутренних. Это было некий гибрид обоих видов одежды, и он как раз начал довольно прочно входить в обиход. Эти куртки стали довольно популярны среди альпинистов, охотников, спортсменов и любителей активного отдыха.
И Морозевич решил приобрести себе именно такой анорак. В следующую субботу он в той же старенькой осенней куртке поехал в Стендаль, а вернулся уже в новом анораке (правда, и старую куртку он сохранил – пригодится ещё в Союзе осенью за грибами ходить). Он купил себе тёмно-кофейный анорак с откидным капюшоном и с тёплой подстёжкой. Анорак застёгивался и на замок-молнию, и на пуговицы. Удобство и тепло нового приобретения Андрей оценил, ещё возвращаясь в городок, так же, как и увидевший его в обновке Кирзонян.
Но Андрей присмотрел в Стендале не только анорак. Подыскивая анорак, он увидел в одном из магазинов вещь, о которой мечтал ранее – это был коричневый кримпленовый костюм. Морозевич подумал, что можно купить его на пару с анораком, но денег на две покупки не хватало. Он то взял денег с запасом, но, конечно же, не на две крупные покупки. Поэтому он решил обязательно наведаться в этот магазин и приобрести понравившуюся ему вещь. Сегодня во второй раз съездить в город он не успевал. Он не переживал, что через неделю таких костюмов может не быть – у немцев такое редко случалось. Кроме того, Андрей зашёл ещё в пару обувных магазинов посмотреть обувь на зиму. Но ему там из товара ничего не понравилось. Да и не была эта обувь по-настоящему зимней, на меху, какую производили в Советском Союзе. Оно и понятно – климат всё же не тот. Хотя, нужно честно признать, хорошая тёплая обувь у немцев была. И под конец этого же года Андрей купил себе хорошие тёплые полусапожки. Просто сейчас он несколько халатно отнёсся к этому вопросу. Он решил, что посмотрит ещё в следующий раз, а не найдёт ничего подходящего, то и так пока что обойдётся. В той точке пересечения параллелей и меридианов, в которой он сейчас находился, и в тёплых осенних туфлях не холодно – они у него добротные, на толстой подошве, слегка утеплённые и практически новые. Правда, о таком решении он очень пожалел уже менее чем через три недели.
На работе конец января и начало февраля по хозяйству Морозевича, вероятно, все негативные лимиты выбрали, и всё шло спокойно и нормально. После многочисленных январских праздников люди уже постепенно втянулись в привычный рабочий ритм, и их ничего не отвлекало от привычных служебных обязанностей. Столбик термометра периодически прыгал возле отметки 00 по Цельсию то в одну, то в другую сторону. Ниже нуля – мог пролететь и мелкий снежок, который сразу таял, а выше – пару раз и дождик накрапывал. Кочегары работали по графику, а слесари не так уж часто выходили на вызовы, большей частью просиживали в мастерской или изредка вели профилактические работы в котельных на работающем оборудовании: в одном месте нужно было поменять прокладку на фланцах задвижки, потому что просачивалась вода, в другом – запал клапан конденсатоотводчика и требовался ремонт. Ещё где-нибудь по неаккуратности разбили водоуказательное стекло на котле, и его, естественно, нужно было менять, в следующей котельной нужно было отрегулировать очистной насос, который автоматически откачивал скопившуюся воду из приямка. В общем, это были в основном мелкие, рутинные работы, без которых редко обходится любая хозяйственная служба. Их всех объединяло только то, что они и в самом деле были мелкими и случались нечасто.
И вот через неделю после покупки анорака Андрей вернулся из поездки в Стендаль с очередной обновкой. Он купил таки желанный коричневый костюм, и нужно сказать, что был тот очень даже неплохим. Это был двубортный костюм, который ранее Морозевич никогда не носил, с накладными карманами пиджака. Костюм сидел на нём очень хорошо – немцы выпускали такой большой ассортимент размеров одной и той же продукции, что её можно было подобрать на любую фигуру. Новым приобретением Андрей остался очень доволен.
За работой, поездками в Стендаль и покупками медленно, но заметно подходила к своему окончанию и зима. Начало февраля принесло Морозевичу ещё одно приобретение. И оно было для него неожиданным. На этом приобретении следует остановиться более детально. Дело в том, что каждый служащий или военнослужащий за время своего пребывания в ГДР имел право получить 3 талона на покупку дефицитных вещей. Это можно было сравнить с тем, как в Союзе записывались в очереди и ждали пока подойдёт их черёд на получение той или иной дефицитной книги известного писателя. В ГДР для служащих таким дефицитным товаром были:
а) хрусталь – но не рюмки или фужеры, а большие красивые вазы, конфетницы, салатницы, крюшонницы и тому подобное;
б) чайные или кофейные сервизы, расписные с перламутровым отливом и позолотой, которые за изображённые на них сюжеты назывались "Мадонна";
в) ковры настенные или напольные – различных размеров, окрасок и узоров.
Андрей не понимал, что было причиной дефицита на эти товары, само это явление вроде бы не было знакомо немцам. Был ли это действительно дефицит или немцы не интересовались такими товарами (хотя они были красивыми, а потому в это совсем не верилось). Или же просто его соотечественники не знали где искать такие товары, в каких магазинах они могут находиться. В Стендале, по крайней мере, Андрею подобные предметы не попадались. Да, такие магазины Морозевичу пока что не попадались, но это не означало, что их совсем не могло быть. Да и где он успел побывать. Гарделеген – тот вообще не в счёт. В Магдебурге он с Александровым заглянул всего в пару магазинов, а в Ростоке Андрей в магазины вообще не заходил. Он думал о том, что, возможно, это был просто некий отзвук советской социалистической системы, который вынуждал людей хорошо работать ещё и ради того, чтобы иметь право на приобретение некой красивой вещи. И под конец своего пребывания в ГДР Андрей всё больше склонялся именно к этой версии. Ведь всё это было заложено в условиях получения подобного дефицита – именно "имели право", но его ещё нужно было заработать образцовым трудом. Талоны на дефицит распределялись по службам, а далее на собрании служб, а чаще на общем собрании всех служащих решали, какой талон кому достанется. И делалось это после рекомендации начальников служб. Талоны распределялись несколько раз в год, но чаще всего право на них получали те, кто уже практически дорабатывал очередной годичный срок или же проработал хотя бы 8–9 месяцев.
И вот на очередном общем собрании, которое произошло 8 февраля после того, как было зачитано, сколько и какие талоны выделены службе теплохозяйства, Грицюк, как начальник КЭС, объявил:
– Я предлагаю один из талонов на ковёр выделить начальнику теплохозяйства, товарищу Морозевичу.
Для самого Андрея это стало полной неожиданностью, хотя в зале это предложение никто и не оспаривал. Раздался только один вопрос:
– А сколько времени проработал Морозевич?
– Морозевич в ГСВГ с 27 мая прошлого года, то есть уже больше восьми месяцев, – ответил вместо Грицюка майор Лукшин, который всегда присутствовал на таких собраниях (как лицо, которому подчинены все служащие батальона, но обычно редко вмешивающийся в ход самого собрания). – Морозевич, – продолжил он, – это право заслужил своей хорошей работой. Многие из вас знают, что он в краткий срок произвёл ремонт котельных и то, что мы с вами сидим сейчас в тепле, тоже немалая его заслуга. Кроме того, в первые дни нового года вы все отдыхали, а он и работники его службы устраняли последствия аварии на жилом доме.
В общем, талон на ковёр Андрей получил единогласно. И теперь требовалось подождать пару дней, внести деньги и получить сам ковёр. Что в итоге и произошло в ближайшую пятницу. Морозевич получил (купил) настенный ковёр размером 2×3 метра с красивым красно-бордово-бежевым узором под названием "Герат". Что это означало, он не знал, да и не имело это никакого значения. Уже значительно позже, в Союзе, Морозевич узнал, что "Герат" был лучшим сортом ковров, которые выпускались в ГДР по узорам ковров провинции Герат в Афганистане. Правда, в отличие от настоящих персидских ковров ковры ГДР были искусственными, но по качеству очень хорошими. Оказывается ещё с конца XVI-го века, в одноимённом персидском (ныне афганистанском) городе Герат создавались великолепные ковры. Поверхность этих ковров покрыта регулярным и плотным узлом так называемой "герати". Эти ковры находили себе место не только в мечетях, но и в Европе, где их изображение присутствует в картинах некоторых живописцев, в том числе Рубенса и Ван Дейка. В коврах "Герат" нашли отражение все цвета палитры, в них отражены растительный и животный мир, нравы и устои этих мест. Самые популярные мотивы – рога овна и цветочные узоры. Каждый ковёр – эксклюзив, не повторяющий работу другого мастера или мастерицы.
Свёрнутый ковёр Андрей поставил в один из углов их с Кирзоняном комнаты. Сам Григорий за пару месяцев до своего очередного отпуска тоже получил талон и приобрёл ковёр, правда, другой расцветки, размера и под другим названием. Андрей не знал, кто это так ему посодействовал в этом вопросе – Грицюк по согласованию с Лукшиным или же сам майор это посоветовал Лукичу, пообещав поддержку. По мнению Морозевича, скорее похоже на второе. И при удобном случае он поблагодарил их обоих. Довольный своими приобретениями в наступившем году Андрей в выходные сидел и думал о том, какой ещё сюрприз его может ожидать. И этот сюрприз не заставил себя долго ждать. Но сюрприз этот был совсем не радостным. Во вторник после работы почтальон вручил ему телеграмму из Полтавы, в которой было написано всего пять слов: "Серьёзно заболела. Срочно приезжай. Валерия". Телеграмма была заверена врачом.
ГЛАВА 33. Отпуск за свой счёт
Андрей растерянно сидел на кровати и ломал голову о том, что же произошло в Полтаве. Он три дня назад получил письмо от жены, в котором она сообщала, что у них всё в порядке – живы, здоровы, не болеют, и она с нетерпением ждет, когда ей придёт вызов. Но гадай, не гадай, а ехать придётся. Плохо было то, что отсюда невозможно заказать телефонный разговор и поговорить с женой – узнать, что случилось. Конечно, жена могла заболеть, от этого никто не застрахован. Но она не была паникёршей, и Андрей не думал, что она стала бы его беспокоить по такому поводу. Она сама врач да, к тому же, там, в Полтаве проживает и её дядя, очень опытный врач, хотя и не терапевт, а также его сын (кузен жены) тоже врач, да и вторая жена дяди, как уже говорилось, была врачом, причём как раз терапевтом – в общем, целая семейная династия. Они бы сообща справились с любой болезнью. Что-то здесь было не то. Но что? Что-то с сыном? Но тогда жена точно указала бы это в телеграмме. Ладно, он поедет и всё узнает. Нужно готовиться в дорогу. Конечно, сегодня он уже этот вопрос решить не сможет. Нужно ждать завтрашнего утра. Кстати, дядя Валерии работал в обласном госпитале инвалидов Отечественной войны, который находился на территории обласной больницы. А буквально через дорогу работала в областном детском неврологическом отделении и Валерия. Рядом находилась и областная детская поликлиника, а напротив издательство «Полтава».
Андрей показал телеграмму Кирзоняну, после чего спросил у него:
– Слушай, Григорий, а были такие случаи, что служащие уезжали в Союз по таким телеграммам?
– На моей памяти один такой случай был. Уезжал один служащий по телеграмме то ли о тяжёлой болезни отца, то ли о его смерти. Так что это, в принципе, не запрещено. Только едешь ты за свой счёт.
– Ну, это понятно. И отпуск берёшь за свой счёт. А кто решает этот вопрос?
– Понятия не имею. Лукшин, наверное, знает и всё тебе растолкует.