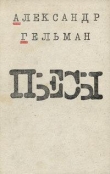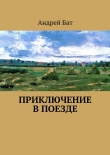Текст книги "Не повторяется такое никогда!"
Автор книги: Александр Ройко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Лукшин внимательно посмотрел на Андрея и сказал:
– Повинную голову меч не сечёт. Да и в чём, собственно, ваша вина. И вашу супругу кто может винить – любая мать на её месте поступила бы та же. Спасибо за откровенность. Всё останется между нами. Отдыхайте. Вы сейчас к себе?
– Нет, на КПП.
– На КПП? – удивился Лукшин. – Это ещё зачем?
– Я там вещи оставил. Спешил в штаб.
– Странный вы человек, Андрей Николаевич, – удивлённо качая головой, промолвил майор. – Точнее, наверное, не странный, а удивительный. Ну, кто бы так по возвращению сразу мчался в штаб докладывать о своём прибытии. Ну, надо же. Чем больше вас узнаю, тем больше удивляюсь, – потеплели глаза Лукшина.
– Как тут дела с моим хозяйством? – спросил Морозевич.
– К счастью, всё нормально. Никаких проблем не было. Так что спокойно отдыхайте. Встретимся уже в понедельник.
Они расстались, но с этой поры у них, ещё недавно незнакомых людей, разных по рангу и по статусу установились, если и не дружеские, то очень хорошие отношения. Далее Андрей отнёс из КПП в свою комнату сначала телевизор.
– О, скоро кино будем смотреть, – засмеялся, читающий в комнате газету, Кирзонян. – С прибытием. Всё нормально?
– Порядок, – коротко ответил Андрей. – А вот кино так быстро не будет.
– Понятно – ни приставки, ни антенны пока что нет. А сейчас ты куда? – спросил Григорий, увидев, что напарник по комнате собрался вновь уходить.
– Ты думаешь, что, кроме телевизора, у меня других вещей нет? У меня ещё чемодан и сумка. Я их на КПП оставил.
– Ну-ну. Помощь нужна?
– Нет, справлюсь сам. Просто их с телевизором вместе неудобно было нести.
Наконец-то, Андрей принёс остальные вещи и начал распаковывать свою сумку. Чемодан с вещами жены он не трогал – всё равно его нужно будет переносить в "Бухенвальд", а там уже жена приедет и всё сама разберёт.
ГЛАВА 36. Запарка по возвращению
Свой выходной Андрей решил посвятить завершению ремонта комнаты в «Бухенвальде», правда, он сначала всё же обошёл котельные и убедился, что там всё в порядке. В комнате оставались, в общем-то, только работы по уборке.
А погода тем временем начала меняться – к удивлению резко похолодало. Зима, видимо, решила отвоевать у весны хоть какую-то часть времени и ещё немного повластвовать. И всё это, правда, вновь без снега. Но зато с противным северо-западным ветром. Снова начались жалобы на то, что в домах холодно. Большинство подобных жалоб были, как обычно, необоснованными. Но были, увы, и вполне обоснованные, в некоторых помещениях, действительно, было прохладно. И главные такие помещения находились в санчасти. Андрею и раньше приходилось слышать, что в санчасти холодновато, хотя официально до той поры её начальник не жаловался. Чаще жаловались жильцы, проживающие в её мансардах. Это подтверждал и Андрей Александров. Однако слесари ничего не находили необычного в системе отопления этого здания, которое было довольно старой постройки. Зима, в общем-то, до этого времени не была особо холодной, и в помещениях тоже как-то холода не ощущалось. Но сейчас, в самый канун весны ситуация изменилась. Если зима и была тёплой (в сравнении с союзными зимами), то вот весна обещала быть относительно холодной и затяжной. Андрей, памятуя о том, что вскоре там придётся работать и его жене, решил сам всё досконально обследовать.
Он в течение двух дней вместе с Николаем и другими слесарями обследовали каждый участок теплосистемы медчасти: они провели ревизию задвижек, спустили в мансарде воздух из радиаторов, обстучали чуть ли не каждый метр трубопроводов, увеличили нагрузку в котельной (топили сильнее) и т. п. Но воз и ныне был там – радиаторы прогревались явно недостаточно. Менять всю систему отопления в здании было невозможно, по крайней мере, до конца отопительного сезона, и Андрей лихорадочно искал выход из положения. Во время обследования системы работники теплохозяйства установили, что не была особо горячей и труба подачи на входе в здание, и это навело Морозевича на кое-какие мысли. В конце второго дня обследования Андрей остался после планёрки вдвоём с Лукшиным, и они начали обсуждать проблему отопления санчасти. Лукшин знал, что причину плохого отопления санчасти установить не удалось. И он обеспокоено спросил начальника теплохозяйства:
– Но в чём же всё-таки дело, Андрей Николаевич? Ваши предположения по этому вопросу. Какие могут быть причины всего этого?
– Вы знаете, Борис Михайлович, проанализировав всё, я пришёл к выводу, что причин несколько. Да, кстати, скажите, а раньше, в прошлые годы таких жалоб не было?
– Были постоянно. Одно время даже хотели менять всю систему отопления. Но в санчасти, где постоянно находятся больные и ведутся приёмы, это не так то просто сделать. Поговорили-поговорили, да так всё и оставили.
– Ну, что ж, это только подтверждает мои предположения.
– И какие же они?
– Первое это то, что трубы и батареи в санчасти старые, они, вероятно, частично покрылись накипью и плохо отдают тепло. Но не это главное. Наверху, когда мы спускали воздух из радиаторов, мы перекрыли систему и отсоединили для проверки одну из батарей. Да, трубы немного "заросли", но не настолько, чтобы совсем не греть. Тем более что летом система периодически промывалась специальной жидкостью.
– Так, это понятно. Но, если есть "первое", то, значит, есть и "второе". Какое же оно?
– Есть не только второе, но и третье, на мой взгляд, конечно. Второе таково: ранее, до строительства центральной котельной, санчасть грелась от другой котельной. Диаметр труб к различным зданиям был примерно одинаков, поэтому горячая вода распределялась равномерно. Однако когда вели отопление к жилому дому лётного состава, трубы подачи и обратки к санчасти просто врезали в новый трубопровод. Но на жилой дом трубы по своей пропускной способности гораздо бо́льшие, нежели трубы к санчасти.
– О, это я тоже понял. То есть основная масса теплоносителя как бы проскакивает мимо.
– Совершенно верно. Теплоноситель гонят мощные насосы из котельной по прямой магистрали и ему "не особенно хочется" забираться в разные закоулки.
– Да, это серьёзно. И что-то изменить сложно.
– Вы знаете, может быть, и не так уж сложно, но только не в отопительный сезон. Но есть ещё и третья причина. Она чисто гипотетическая, но я на 99 % уверен, что моё предположение верно.
– Так, и в чём же дело?
– Мы не вскрывали каналы теплотрасс, но я уверен, что трубы к санчасти врезаны в магистральный трубопровод, ведущий к дому лётного состава, под углом 900.
– Вероятно, это так. И что из этого следует?
– Я сейчас объясню вам на примере. Вы Борис Михайлович, можно сказать, автолюбитель. Я не знаю, есть ли у вас свой личный автомобиль, но ездите вы часто. Не так ли?
– Естественно. А автомобили то здесь при чём?
– Не сами автомобили, а дороги. Когда вы едете по прямой дороге и вам нужно повернуть влево или вправо под углом 900, то есть два случая. Первый, это когда идёт заблаговременно плавный по радиусу поворот дороги в нужную вам сторону. Вправо, например, чтобы мы не разбирали случай езды по "кленовому листу". Ваш автомобиль при этом поворачивает, практически не снижая скорости. А вот…
– Всё, понял, – перебил Андрея майор. – Если поворачивать резко под прямым углом, то или скорость снижается, или непросто вписаться в такой поворот.
– Вот именно. То же самое происходит и с теплоносителем, который подаётся к санчасти – он не успевает нормально "вписаться" в поворот. И, если первые две причины устранить сложно, то третью – вполне реально. Только, увы, не сейчас, – вздохнул Морозевич.
– Я смотрю, вы провели хороший анализ, пусть даже он больше мыслительный. Но что делать именно сейчас?
– У меня есть одна идея, но мне нужно съездить в КЭЧ. Я хочу поставить в санчасти небольшой циркуляционный насос, чтобы он принудительно "втягивал" теплоноситель из магистрали в санчасть. Такие насосы, я знаю, есть, хотя мне самому с ними сталкиваться не приходилось. Поэтому я и хочу в КЭЧ с ними ознакомиться. Если туда в ближайшее время будет идти машина, то его можно сразу выписать и привезти, подобрав нужный. Но, чтобы не терять времени, заявку на него придётся подписывать, как говориться, "вслепую", без проставления его марки. Она мне пока что неизвестна. Если вы склонны поверить мне на слово, то такую подписанную вами заявку я хотел бы иметь при себе, когда в КЭЧ будет ехать машина.
– Андрей Николаевич, да о чём вы говорите. Я вам доверяю и подпишу любую заявку. Только этого делать не придётся. На завтра машина в КЭЧ не заказана, а вот послезавтра я сам собираюсь туда ехать. Так что мы с вами на месте всё и решим.
Так они послезавтра, прямо с утра и поступили. Приехав в КЭЧ, Лукшин занялся своими вопросами, оставив Морозевича знакомиться с нужными ему насосами. Андрей, ознакомившись с каталогами, подобрал, как он рассчитывал оптимальный насос для санчасти. Это был небольшой настенный насос с необходимыми входными и выходными диаметрами под трубы в санчасти и довольно производительный по расходу. Андрей даже показал показать ему этот насос, так сказать, воочию, пообещав, что он его сегодня же выпишет. Когда майор справился со своими делами, Андрей ознакомил его со своим выбором.
– Ну, что ж, на вид вполне прилично выглядит. Но какой-то он маленький. Достаточно ли будет такого насоса.
– Он маленький, но производительный. Так, по крайней мере, указано в каталоге. Параметры у него подходящие. Так что, я думаю, он вполне нам подходит.
– Хорошо, вам виднее. Вы хотите один такой насос брать?
– Лучше бы, конечно, два. Один оставить как резервный – мало ли что.
– Правильно. Будем брать два. Что ещё нужно?
– Остальное – чисто теплотехнические детали: фланцы, задвижки и тому подобное. Вот, правда, Виталию его нужно будет подключать насос к электрической сети, а я не знаю, есть ли у него всё необходимое. Кабель то точно есть, а вот остальное… Наверное, выпишем на всякий случай электропакетник под рабочий ток такого насоса. Ребята здесь подскажут, какую марку нужно взять.
Морозеич составил необходимую заявку, которую Лукшин тут же подписал и отдал работнику склада. Им вынесли всё необходимое, и солдаты стали всё грузить на машину.
– Когда вы собираетесь заняться установкой насоса? – спросил Лукшин, уже едя в машине.
– Сегодня же после обеда и начнём. До выходных нужно успеть, послезавтра уже суббота. А там вообще в среду уже и Женский день, праздник ведь. Сегодня мы произведём некоторые подготовительные работы, а завтра насос установим. Я думаю, что за день справимся, работы здесь не так уж и много. В крайнем случае, закончим в субботу, но думаю и завтра успеем.
– Хорошо, действуйте. Я завезу вам всё это прямо к санчасти.
Сразу же после обеда Морозевич с одной из бригад газосварщиков уже был в санчасти. Он вместе с начальником санчасти обошёл помещения на первом этаже с целью выбора места для установки насоса. Его, конечно, можно было установить и в подвальном помещении, но этого Андрею делать не хотелось, подвал для этого не очень-то был приспособлен – темно, сыро, вообще, условия для обслуживания насоса были не из лучших. Хорошо, что начальник санчасти показал Андрею одно из угловых помещений (причём со стороны ввода трубопроводов), которое использовалось как подсобное. Там, как раз на подающем трубопроводе и решено было установить насос. При этом Андрей решил установить насос вместе с обводной линией. Это позволит безболезненно отключать насос и для ремонта, и в том случае, когда погода будет тёплой, рассчитывая в этом случае на естественную циркуляцию. А в холодную пору года насос будет включаться. Сварщик со слесарями, промерив всё, занялись подготовительными работами, сваривая отдельные элементы системы (отводы с фланцами и участки трубы – чтобы ускорить завтра монтаж насоса), не трогая пока самой действующей линии. Андрей тем временем разыскал Горшкова и попросил направить к ним электрика для прокладки кабеля, установки электропакетника и, уже завтра, самого подключения насоса.
На следующий день с утра слесари слили из системы отопления санчасти воду и занялись непосредственно монтажом насоса. С этим они успешно справились ещё до обеда, справились с подключением насоса и электрики. Далее вновь начали запитывать систему водой, и ушли на обед. Вернувшись с обеда, слесари спустили воздух в системе (из радиаторов в мансарде) и стали ожидать, когда система нормально прогреется. И вот наступил момент пуска насоса. Слесари по указанию Андрея установили в качестве запорной арматуры не вентили, а пробковые краны: два на входе и выходе насоса и один на обводной линии. Вентиль, даже полностью открытый, из-за поворотов жидкости в нём создаёт значительное сопротивление. Полностью же открытый пробковый кран не создаёт ни малейшего сопротивления. Слесари открыли краны на насосе, закрыли его на обводной линии и включили насос. Раздалось тихое жужжание насоса, именно жужжание, а не приличный шум, который издавали циркуляционные насосы в котельных. Минут через 15 труба за насосом значительно потеплела – насос работал и довольно хорошо выполнял свою работу. Он понравился и слесарям.
– Да, такой насосик неплохо было бы установить и дома, в Союзе, я имею в виду, – маленький, тихий, а работает здорово, – сказал один из них. – А в Союзе я что-то таких компактных и не встречал.
Слесари вместе с газосварщиком отвезли газосварочный аппарат и инструменты в мастерскую, а затем вернулись и, распределившись, начали обходить для контроля помещения санчасти. К концу рабочего дня все батареи были горячими, начало ощущаться тепло и в самих помещениях. Начальник санчасти только удивлялся и разводил руками:
– Надо же. Три года мучались с этим отоплением, мёрзли. Систему никто переделывать не хотел. Я уже думал, что нам придётся так всё время мёрзнуть. А ваши специалисты всего то за один день всё наладили. Просто невероятно. Не знаю, как вас и благодарить.
Андрей хотел было намекнуть ему, как благодарить, вспомнив нежелание того принимать его жену на работу. Но потом решил не заедаться – не всё зависело и от самого начальника санчасти, а Валерии ещё с ним придётся работать. Вечером на планёрке Морозевич доложил Лукшину о том, что с отоплением в санчасти всё в порядке – её начальник работой системы отопления доволен.
– Прекрасно, – обрадовался майор. – Сколько эта санчасть из нас крови выпила. А как вы считаете, нужно будет летом скруглять ввод трубопроводов в санчасть.
– Не знаю пока что. Нужно будет посмотреть, как в дальнейшее будет обогреваться здание. Хотя, я думаю, что всё будет и так нормально. А поэтому такие работы, наверное, проводить будет нецелесообразно. Ведь мы одним вскрытием канала в месте подсоединения трубопроводов не обойдёмся. В пределах самого канала радиус поворота труб всё равно будет очень малым. Значит, нужно будет класть новые лотки по большему радиусу, а это земляные, бетонные работы, сварка и т. п. В крайнем случае, мы можем установить в санчасти и второй такой же насос (сейчас резервный) на обратном трубопроводе, и создать в санчасти такую циркуляцию, что и чертям станет жарко. Но, я думаю, до этого не дойдёт.
Тема отопления санчасти была исчерпана. Теперь Андрей больше внимания мог уделить ремонту своей комнаты, точнее, уже не ремонту, а её обустройству. На это у него пошли оставшиеся до праздника дни, да ещё и пара дней после него. Нужно было подумать о мебели. Ещё до праздника Андрей выписал у Грицюка двухстворчатый шкаф, стол, четыре стула, две табуретки, две тумбочки и завёз их в "Бухенвальд". Далее он начал расставлять эту мебель. Он принёс хранившуюся дотоле в разобранном виде в мастерской кровать и собрал её. Он также взял на складе четыре матраса (двух ему показалось маловато – они были какими-то на вид тонкими) и два солдатских одеяла. И того и другого, как и самих кроватей, на складе было с избытком. Но одеяла он брал не для того, чтобы ими укрываться, для этой цели одно одеяло Андрей в этот раз привёз из Полтавы, а второе привезёт Лера. Матрасы, обёрнутые совместно сверху одеялами, хорошо легли на кровати между деревянными стенками и боковинами. С помощью ребят Андрей установил шкаф в одном из углов комнаты. За это время Морозевич уже пару раз производил пробные топки печи-камина, и остался ею доволен. Далее он перенёс телевизор и чемодан с вещами жены в новую комнату. Телевизор он установил на сдвоенные тумбочки. Он намеревался всё же не дожидаться Леры и развесить её вещи в шкаф, но оказалось, что у него практически нет вешалок-тремпелей. Пришлось покупать. Там же, в гарнизонном магазине он купил и среднего размера зеркало – если в комнате будет проживать женщина, то без него никак не обойтись. В ближайшую после праздника субботу Андрей съездил в Стендаль и купил хорошую двухкомфорочную настольную электроплитку. Завершение обустройства комнаты подходило к концу. Но когда Андрей практически всё перенёс (кроме некоторых своих вещей) перенёс из общежития, то оказалось, что собралось много различной тары – не от телевизора, конечно, а разные чемоданы, сумки, да ещё пару таких же вещей жена привезёт с собой. Он сложил их в шкаф, но они занимали много места, а поверх шкафа хранить их не хотелось – некрасиво. Тогда Андрей временно затолкал их под кровать, хотя и понимал, что это не выход. Они будут собирать массу пыли, а при уборке, мытье полов их придётся постоянно вытаскивать и затаскивать. Он уже в душе чертыхался от этих мелких проблем – оказывается даже одну комнату не так то просто привести в порядок. Тогда Морозевич вновь обратился к Лукичу, рассказав тому о своих бесхозных чемоданах.
– Второй такой же шкаф я, к сожалению, выписать вам не могу. Их не так много и они выписываются только по одному на комнату. Но у меня есть один тоже бесхозный, как вы сказали, шкаф, не учтённый. Он, правда, небольшой, другого цвета и староват. Но он достаточно крепкий и его недолго привести в божеский вид, оклеив тёмной бумагой, а затем покрыть латексом.
Это была неплохая идея. У того же Лукича было много рулонов различной бумаги, но ещё большой выбор её был у заведующего клубом. У него постоянно работали три солдата, которые изготавливали массу стендов, наглядной агитации и вообще украшений для клуба. Они это делали из плотной (плотнее обоев) цветной бумаги с разнообразными узорами и оттенками. Из этой бумаги получались великолепные аппликации, даже картины. Для этого требовался только глаз художника. И такой художник в клубе был среди этих трёх солдат, двое других же были у него просто подсобными рабочими. Глаз и чувство красоты, пропорции у этого солдата были отменные. Он со своими подручными изготавливал такие красочные (из тщательно подобранных оттенков бумаги) аппликации, что ими любовалось всё начальство и даже проверяющие, без которых, наверное, не обходилась ни одна воинская часть. Он даже много работ делал на заказ. Да что там говорить, если он изготавливал красивые коллажи, главным действующим лицом которых был вождь мирового пролетариата В.И. Ленин. И это при том, что для изготовления портретов Ленина требовалось особое разрешение, которое давалось далеко не всем даже известным художникам. У этого же самоучки портреты Ленина получались настолько удачными, что на отсутствие указанного разрешения закрывали глаза проверяющие даже самого высокого уровня.
Андрей к тому времени уже неплохо изучил технологию наклейки такой бумаги. Для этого очищенные фанера, ДСП, ДВП или даже хорошо проструганная доска смазывались слегка разведённым в воде латексом, с помощью которого затем и приклеивался декоративный лист бумаги. Он сразу же хорошо разглаживался, чтобы удалить воздух, после чего сверху сбрызгивался водой из пульверизатора. Через несколько минут этот лист покрывался рябью мелких морщинок, но уже при высыхании бумага очень хорошо натягивалась и разглаживалась. После покрытия сверху тем же латексом, бумага приобретала лаковый блеск и смотрелась очень хорошо.
Андрей поставил новый шкаф вплотную к первому. Поэтому ему нужно было оклеить бумагой только переднюю стенку с дверцей и одну из боковых сторон его. Бумаги для этого нужно было не так уж и много (её Андрей подобрал в клубе), однако сам процесс наклейки занял у него полностью пару вечеров. Шкаф был старой конструкции и его стенки имели углубления, так называемые, филёнки, которые и принесли Андрею много хлопот при наклейке бумаги. Он даже после окончания возни с этим шкафом впервые заночевал в своей комнате. Он ещё ранее выписал у комендантши общежития пару простыней, пододеяльников, подушек и наволочек. Спал он на новом месте довольно крепко и спокойно, из чего следовало, что кровать успешно прошла первое испытание.
От жены регулярно приходили письма, последнее из которых Андрей получил сразу после праздника. Но ничего нового Лера не сообщала. В один из дней при разговоре с Лукшиным, тот поинтересовался у Морозевича сроком приезда жены. На что Андрей ответил, что пока новостей в этом плане нет, и посетовал на то, как ему не хочется снова шастать по берлинскому вокзалу.
– А зачем вам берлинский вокзал? – удивился майор.
– Но жена то туда должна приехать. Это самое, так сказать, известное ей, хотя и заочно, место в Германии. Ведь она здесь ничего не знает. Как она будет блуждать, не зная городов, расписаний поездов, да ещё с вещами. Не во Франкфурте же мне её встречать, это ведь далеко.
– Конечно, не во Франкфурте, но не обязательно и в Берлине. Вы её можете встретить поближе к Стендалю. Ведь есть поезд Брест – Магдебург, который проходит, например, через Гентин, а это примерно в 25 километрах от Стендаля. Я, правда, не знаю, сколько он там стоит. Да и останавливается ли вообще. Но вот в Брандебурге он останавливается точно. Ну, и естественно, в Магдебурге. Но, вообще-то, лучше всего, на мой взгляд, если она будет ехать до Вюнсдорфа. Наши офицеры, да и я – короче, все, и в отпуск и назад, ездят через Вюнсдорф. Там наш вокзал, наши кассы, наши люди – это как-то удобнее. Пусть ваша жена берёт в Бресте билет на поезд? 17/18 Москва – Вюнсдорф. Правда, в Союзе на вагонах пишут Москва – Берлин, но в Бресте знают этот поезд и осведомлены, куда он направляется. Это гораздо удобнее. В Вюнсдорфе он прибывает на отдельный 12-й путь. А от Вюнсдорфа прямой поезд до Стендаля или, в крайнем случае, с пересадкой в Ратенове.
Андрей уже неоднократно слышал о Вюнсдорфе, в котором находился штаб ГСВГ. Но сам он там не бывал, да и о поезде услышал впервые.
– А я ранее как-то и не знал о существовании такого поезда. Никто мне о нём не говорил.
– Вероятно, просто к слову не приходилось. Теперь будете знать. Там во Вюнсдорфе, правда, до сих пор вокзал не достроен, обещают закончить его в этом году. Но поезда ходят регулярно по расписанию.
Андрей поблагодарил Лукшина за столь ценную информацию и помчался в общежитие писать письмо жене. Он написал ей об этом поезде и попросил дать ему две телеграммы: первую о дате выезда из Полтавы, а вторую – из Бреста о том, на который поезд она взяла билет. Почти за двое суток (в Бресте жена будет утром) телеграмма до него точно дойдёт, и он будет знать на какой день ему отпрашиваться с работы и на какой станции Валерию встречать.
Шла уже средина марта, а погода по-прежнему капризничала – то тепло, то холодно. Но после работ в санчасти у Андрея появилось больше времени уделять другим объектам своего хозяйства. Одной из забот начальника теплохозяйства было регулярное обеспечение котельных брикетом. Конечно, завозил брикет не он сам. Завоз брикета осуществлял Лукшин, но вот куда и сколько брикета нужно, заявку ему давал Морозевич. Вот и сейчас Андрей обошёл все котельные и установил, что в некоторые из них пора подвозить брикет. То, на сколько дней хватит той или иной котельной топлива, определялось, конечно же, на глаз. Но и сам Андрей уже научился этим прикидкам, да и кочегары котельных определяли эту норму довольно точно. Последней котельной, которую посетил Морозевич, была котельная под ТЭЧ. В этой котельной, так же как и в котельной, которая обогревала солдатские казармы и подавала горячую воду в баню, служащие не работали. На некоторых должностях кочегаров работали люди, не имеющие никакого отношения к его хозяйству. Но он знал, что такое положение часто можно встретить и в Советском Союзе, это никого не удивляло. Да и было это, в общем-то понятно – гарнизон хоть и не очень большой, но нужны специалисты по многим вопросам, а штатном расписании на них ставки не выделены. Вместо таких работников-призраков хозяйству Морозевича выделялись солдаты. К тому же, частично это могло быть и экономией средств, ведь на две котельные освобождалось как минимум 8 ставок кочегаров, "призраков" же было меньше. Как бы то ни было, но эти две котельные обслуживались солдатами. Причём, в каждой котельной работал всего один! солдат. На первый взгляд, это была жестокая эксплуатация человеческого труда. Однако всё было не так то просто, да и не так уж страшно. Сначала в этих котельных, как рассказывали Андрею, работали по два человека. Но когда одни их них ушли на "дембель", то их напарники сами попросили зам. командира батальона по тылу никого к ним в пару не назначать, они, мол, справятся сами. И справлялись, как оказалось, очень даже хорошо. Как же это получалось? На первый взгляд, тогда солдаты должны были ни есть и ни спать, совсем не отдыхать, круглосуточно обслуживая свои котельные. Но, оказывается, они и ели, и спали, и отдыхали, и находили ещё время заниматься своими будущими дембельскими альбомами и тому подобное. И при этом они были очень довольны такой вот службе. Как же это могло быть? Дело в том, что в этих котельных стояли водогрейные котлы, а потому основной задачей кочегаров было не дать угаснуть огню в топке и вовремя удалить золу. Но на это уходило не так уж много времени. Брикет в топку не нужно было подбрасывать ежеминутно, а потому свободного времени у солдат было достаточно. Подбросив брикет в топку, они спокойно шли в столовую, зная, что за это время в котельной ничего не произойдёт. Кроме того, в каждой котельной был душ, и они могли спокойно мыться в удобное для себя время. Спали они тоже в котельной, оборудовав возле лежаков дымоходов некое подобие кроватей и, таким образом, практически всё время проводили в ней. И за всё время работы этих котельных не было ни одного срыва и не поступило ни одной жалобы, ни одного нарекания на работу этих внештатных кочегаров.
Чем же прельщала солдат такая круглосуточная работа в котельных? А тем, что они не бывали в общей казарме. Не ходили в наряды, на различные срочные работы и, самое главное, они не ощущали на себе такого, к сожалению, не столь уж редкого явления в армии, как "дедовщина". Их никто не трогал, они как бы выпали их обычного солдатского распорядка жизни гарнизона. Они даже в столовую старались ходить после того, как основная масса уже заканчивала приём пищи, чтобы меньше контактировать с "дедами". Лукшин им это разрешил за безупречную работу. При этом эти кочегары пользовались у других солдат уважением и имели свою выгоду. К ним часто обращались с просьбой помыться в котельной в неурочное время или постирать свои вещи.
Конечно, таким же образом могли работать и служащие в тех котельных, где стояли водогрейные котлы. И нередко они так и работали, не смотря на утверждённые графики. Официально они, конечно же, так работать не могли, должен был соблюдаться 8-часовый рабочий день. Но работать сутки, а затем трое суток отдыхать законодательством разрешалось. Правда, в гарнизоне такое разрешение было дано только кочегарам котельной под лётной столовой. Но неофициально так работали и некоторые другие котельные с водогрейными котлами. Один кочегар работал сутки (имея при этом, как и солдаты, ещё и свободное время), а трое других ездили в Стендаль в магазины или занимались чем-то своим в городке. Все прекрасно понимали, что очень уж неравноценна работа кочегаров у водогрейных и паровых котлов. Поэтому Морозевич уже один раз после Нового года поменял график работы кочегаров, поменяв некоторых местами. Начало нового календарного года это ему позволяло, да и никто, в общем-то, и не протестовал против этого, понимая, что это всё-таки справедливо. То же самое начальник теплохозяйства намеревался сделать уже перед началом следующего отопительного сезона. Справедливости ради следует отметить, что кочегары страховали друг друга, проявляя взаимовыручку – они, практически, никогда не отказываясь подменить товарища, которому по той или другой причине нужно было куда-то отлучиться.
Примерно такой же образ жизни, как и два солдата-кочегара, в гарнизоне вели ещё несколько солдат. Двое их них работали в подсобном хозяйстве, которое располагалось чуть в стороне от ТЭЧ. Там откармливали свиней, благо пищевых отходов из трёх столовых, да и других продуктов (та же прокисшая весной капуста) было достаточно. Уход за свиньями требовал больше времени, поэтому и работали там вдвоём или втроём. Эти солдаты тоже практически не покидали стен свинарника. Мыться они ходили в ту же котельную под ТЭЧ. Вот только свинарник – это не котельная, и запашок от этих солдат исходил специфический. Интересным при этом было то обстоятельство, что ухаживали за свиньями солдаты тех национальностей, которые шарахаются от свиного мяса, как чёрт от ладана. Это были волжский татарин и таджик. Но над такими солдатами наибольше издевались "деды", называя их "чурками". Поэтому и эти солдаты были очень довольны своей жизнью в свинарнике. Вот так, на практике, усваивалась истина, что всё в жизни относительно, относительны и ценности, как относительна более культурная жизнь в казарме и в той же котельной или свинарнике.
В котельной, которая обслуживала ТЭЧ, работал солдат-узбек Рустам Исмаилов. Он закончил одиннадцатилетку и был грамотным и эрудированным парнем. Андрею нравилось вести с ним беседы. Рустам чисто говорил по-русски и был довольно начитан. Он много рассказывал о своей республике, о своём городе Чирчике, в котором он жил, о красотах Узбекистана. Он также посвятил Морозевича в свои дальнейшие планы после окончания службы в армии. Он хотел поступать в пищевой институт, стать, как он говорил, большим человеком в сфере торговли, в частности по продаже овощей и фруктов. Но это только на первое время. А дальше он собирался "продвинуться в самые верхи". Андрею было интересно и немного странно слушать такие признания – в его среде не так то много было желающих стать торгашом. Но там, где жил Рустам, такой человек был очень уважаемым. Такие люди имели много денег, хорошие дома, машины.