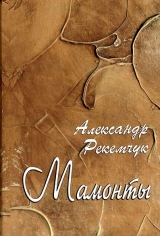
Текст книги "Мамонты"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Мама обиходно называла мужа Стасик, Стась. В приведенном письме это имя приобретает звательную форму – Стасюр. Может быть, по созвучию с тем домашним именем, которым называли меня: Тюрик, Тюр.
Себя же мама именует Ли. И это надо понимать, как интимное напоминание мужу о том, что так он любил обращаться к ней – и что она, любя, приняла это.
Упомянутые в письме «Ляля с детишками», как нетрудно догадаться, это харьковчане с Малиновской улицы – Лидия Павловна, жена Пушки, со старшим сыном Юрием (Куркой) и младшим Колей (Никуськой).
Они приехали отдохнуть у моря, на даче под Одессой, которая, как явствует из письма, была предоставлена от отцовской службы. С нее-то и пытались турнуть до срока разнежившееся многолюдное семейство…
Всё это прочитывается в открытом тексте.
А есть ли еще и закрытый, спрятанный? Да, конечно. И она лишь по наивности могла предполагать, что ее подтексты не будут разгаданы теми людьми, которым, по служебной обязанности, положено читать эти письма еще до того, как они попадут к адресату.
«…писать о чем хочется – не могу, а писать о погоде и не интересно и никому не надо»; «…Меня страшно удручает твое состояние и вообще твое положение, или вернее наше»; «…дальше такое существование бессмысленно… Не знаю, имеем ли мы право быть немного счастливы? А хочется. Но пока только тяжело…»; «Живем еще на даче, и это единственное наше утешение, хоть воздуха вдоволь и им пользоваться разрешается…»
Особое раздражение цензоров должны были вызвать ее догадки о том, что, вероятно, не все письма доходят по адресу: «…почему ты не получаешь моих писем, меня прямо удивляет. Правда, я послала только три, но и те ты мог получить…» На всякий случай, она исхитряется нумеровать свои послания: «4-е письмо…»
Такое строптивое поведение, уже само по себе предполагало меру пресечения.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
НАЧ ИНО ГПУ УССР
ИНО ОГПУ препровождает последнее письмо к известному Вам «Кирееву» от его жены. Письмо нами не послано по назначению, т. к. содержание его не может не отразиться на работоспособности «Киреева». Просьба принять соответствующие меры к тому, чтобы письма к «Кирееву» не носили изложения «столь тяжких условий жизни его семьи» т. к. подобные письма мы вынуждены будем не пропускать.
Одновременно просим урегулировать вопрос в отношении соответствующей поддержки семье «Киреева».
Замнач ИНО ГПУ (Горб)Помнач V отд (Кулинич)
Вот теперь наш человек в Берлине (или где он пребывал в эту пору?) мог работать совершенно спокойно.
Так была ли вообще встреча Штирлица с женой?
Ведь когда-то, раньше или позже, она должна была всё-таки состояться?
Да, была. Да, состоялась.
В 1990-м, в том самом году, когда я (еще не зная – что найду, а что потеряю) зарылся в архивные документы на Владимирской улице в Киеве, автор «Семнадцати мгновений весны» Юлиан Семенов издал в Москве книгу, завершающую цикл его романов, посвященных Максиму Максимовичу Исаеву, Юстасу, Максу фон Штирлицу.
Новый роман назывался «Отчаяние».
Насколько могу судить, он не снискал у читательской аудитории той популярности, что выпала первым книгам этой серии. И опять-таки, насколько я осведомлен, эта книга не нашла своего продюсера, своего режиссера, не пробилась на экран, хотя бы домашний.
А жаль.
Потому что в числе ее персонажей – Сталин и Берия, Маленков и Ворошилов, Жданов и Хрущев, Вознесенский и Кузнецов; и прежний нарком внутренних дел Ежов, который, оказывается, мнил себя преемником Гитлера; и новый министр того же ведомства Абакумов, тоже расстрелянный, но уже после войны; и Рюмин, состряпавший пресловутое «дело врачей», и сами эти «врачи-убийцы» – Виноградов, Шимелиович, Этингер…
Но, разумеется, наибольший интерес представляют знакомые и полюбившиеся нам герои семеновской эпопеи.
Встретятся ли они друг с другом? Каковы они к этой поре? Ведь время не минует и их…
На обложке романа «Отчаяние» мы видим столь узнаваемое лицо актера Тихонова, играющего Штирлица в «Семнадцати мгновеньях весны»: это лицо изборождено страдальческими морщинами, темные волосы тронуты сединой. Зато на лацкане его пиджака сияет золотая звезда Героя Советского Союза – сбылась брежневская мечта!..
Но до этого счастья еще нужно дожить.
Погрузимся в чтение.
«…Назавтра на допрос не вызвали; днем вывели на прогулку, предупредив, что за переговоры с другими арестованными он будет посажен в карцер, – полное молчание, любой шепот фиксируется.
И снова ударило по сердцу, когда он, вышагивая по замкнутому дворику, услышал бой часов кремлевской башни, совсем рядом, сотня метров, полтысячи – всё равно рядом.
А ведь я у себя дома, подумал он. Я на Лубянке, где же еще?! Я там, откуда уехал к Блюхеру в Читу в двадцать первом, я там, где последний раз был у Дзержинского…»
И там же, на Лубянке, произойдет его долгожданная встреча с женой, которую он не видел двадцать три года.
Его сопровождает связник… то бишь, следователь, которого зовут Сергеем Сергеевичем.
«…Исаев почувствовал, как ослабли ноги и остановилось сердце, когда в камере, куда его ввели, он увидел Сашеньку, сидевшую на табурете.
Это была не Сашенька, а седая женщина с морщинистым серым лицом и высохшими руками; только глаза были ее – огромные, серые, мудрые, скорбные, любящие…
– Садитесь на вторую табуретку, – сказал Сергей Сергеевич. – Друг к другу не подходить, если ослушаетесь, прервем свиданье. Я оставляю вас наедине, но глазок камеры открыт постоянно, за нарушение будет отвечать Гаврилина – три дня карцера.
И, по-солдатски развернувшись на каблуках, Сергей Сергеевич вышел из камеры…»
Она расскажет ему на этом свиданьи о судьбе их сына Александра:
«Наш Сашенька пропал без вести… Санечка пропал в Праге, в последний день войны…»
Расскажет о себе самой:
«Так вот, когда мне сказали, что вы погибли, а Санечка пропал без вести, я рухнула… Я запила, Максимушка… Я сделалась алкоголичкой… Да, да, настоящей алкоголичкой… И меня положили в клинику… И меня спас доктор Гелиович… А когда меня выписали, он переехал ко мне на Фрунзенскую… Он был прописан у своей тетушки, а забрали его у меня на квартире…»
Автор фиксирует состояние своего героя, слушающего исповедь жены.
«…Зачем я не умею плакать, горестно подумал Исаев, как счастливы те, кто может дать волю слезам; от инфаркта чаще всего умирают улыбчивые люди».
Но сам Юлиан Семенов умер не от инфаркта, а после инсульта, через два года после выхода в свет романа «Отчаяние».
Вижу перебор цитат в этой главе, но без них – никак нельзя. Может быть, в следующей главе я отмолю этот грех незамутненной беллетристичностью текста.
Прятки
Он был где-то за тридевять земель, а мы жили в Киеве.
Иногда мама вела меня обедать в «Континенталь», в тот зал с серебряным потолком и лилиями в воде фонтана, который был мне уже знаком.
Ведь пребывая по долгу службы за тридевять земель, мой отец оставался директором этой интуристовской гостиницы и, стало быть, нас с мамой, как членов семьи, вполне могли накормить чем-нибудь вкусненьким либо со скидкой, либо вовсе задаром.
Я допускаю также, что маме иногда надоедало сидение дома, в четырех стенах, готовка на кухонном примусе. Нужно учесть и то, что наш семейный кошелек бывал иногда пуст.
В этих стесненных обстоятельствах не было лучшего выхода, чем скромный обед в «Континентале».
Однако ресторан есть ресторан, тем более ближе к вечеру.
И кроме нас с мамой, в этом зале с серебряным потолком было полно разношерстой публики, которая гуляла на всю катушку.
Вероятно, тут были и иностранные туристы, те, которых возили по городу на «Линкольнах» цвета кофе с молоком. Были и гости из более близких краев – например, с благодатного Кавказа, – за их столами вино лилось рекой, а острый запах шашлыков и репчатого лука разносился по всему залу, щекоча ноздри, там звучали громкие голоса, иногда срывающиеся в гортанный запев. Наверняка были тут и просто киевские барыги, обмывавшие свои сделки.
Я, нахлебывая ложкой бульон, с интересом рассматривал эту пеструю публику.
Но нетрудно догадаться, что и мы с мамой иногда привлекали чье-то внимание, чьи-то посторонние взгляды.
Еще бы: сидит за столом в уголочке совсем еще молодая и очень красивая женщина, ну, прямо звезда киноэкрана, с жемчужными глазами, в светлых локонах а la Грета Гарбо, в платье с пелеринкой, как у Марлен Дитрих, – так не пойдешь ведь в «Континенталь» в затрапезе!
А рядом с нею мальчонка лет пяти, рыженький, в веснушках, просто прелесть. Тычет вилкой в тарелку, а сам то и дело задирает голову, разглядывает свое отраженье в серебряном зеркале потолка.
И едва нам принесли на третье вазочки с лимонным желе, как один из горластых мужиков – тех, что с шашлыками и песнями, – направился к нашему столу, извинился, расшаркался, нагнулся, спросил о чем-то маму, заглядывая ей в глаза…
Она сказала ему: «Пошел вон!»
Он вернулся за свой столик, к своим, стал им рассказывать, как невежливо с ним обошлись, куда его послали, – и они стали обсуждать, что делать дальше.
Мама нахмурилась, выдернула ложку из моих пальцев, сказала: «Всё, теперь – ходу!»
Мы надели в гардеробе свои шубейки и выбежали на мороз.
Уже был ранний зимний вечер, всё вокруг было убрано только что выпавшим снегом, и в свете уличных фонарей, вокруг матовых шаров, вились, как бабочки у огня, рыхлые слипшиеся снежинки.
– Извозчик!.. – крикнула мама.
Из вереницы саней, замерших у тротуара, чуть запорошенных снегом поверх конских грив, поверх извозчичьих шапок, – вырвался передний возок, лихо подкатил к подъезду. Кучер, обернувшись, откинул косматую полсть, мы нырнули в сани, укрыли колени шкурой. Возница дернул поводья – и мы понеслись по Крещатику, белому, в глубоких колеях от санных полозьев.
– Куда ехать? – спросил кучер.
– Прямо, – приказала мама.
Он кивнул, поняв всё сразу.
Я же поначалу очень удивился тому, что наш возок несется совсем не в ту сторону, где мы жили, не к Пассажу, а наоборот, к Владимирской горке, с которой я часто съезжал на детских санках – долгий и ровный спуск, на котором санки разгонялись так, что захватывало дух, – а внизу меня ждала смеющаяся мама, сбежавшая туда загодя.
Но теперь мы были с нею рядом в летящих, как на крыльях, санях.
Оглянувшись, я увидел, что следом за нами по Крещатику мчится еще один санный возок. Наверное, тот, что был в очереди за нашим. И кучер тех саней поднялся во весь рост, натягивая вожжи, а за ним, тоже в полный рост, пошатываясь на скорости, размахивали руками большие черные мужики. Они выскочили на улицу даже без шуб и шапок, а так, налегке, как сидели за столом с шашлыками и песнями.
И тут я понял, что они гнались за нами. И только теперь догадался, почему мы мчимся не в ту сторону, где наш дом, а в противоположную: ведь мы жили в Пассаже, очень близко от гостиницы «Континенталь», и нас на этом коротком пути ничего не стоило догнать. А тут – еще поглядим…
– Направо! – крикнула мама вознице.
Сани занесло, но лошадка вытянула их из сугроба, потащила дальше.
На той улице, куда мы свернули, кроме санных полозьев, расчертивших белую заметь, еще тянулись тонкие нити трамвайных рельсов. И там, впереди, сквозь завесу снегопада, уже двигались прямо на нас, всё больше вылупляясь, яркие огни трамвая, над его дугою взметывались искры, надрывался звонок, вереща всё ближе…
– Еще раз направо! – крикнула мама.
Открывшаяся теперь улица была тиха и пустынна.
Мы перевели дыхание, развесив вокруг себя облачка морозного пара, легкие, как мыльные пузыри. Извозчик тоже обмяк, отвалился к спинке облучка. И лошадка затрусила по снегу беззаботной рысцой.
Как вдруг из переулка, нам наперерез, вынеслись другие сани, и в них, встав во весь рост, обнявшись, чтоб не упасть, покачивались те же знакомые черные фигуры в распахнутых пиджаках и развевающихся галстуках…
– Ложись! – только и успела сказать мне мама.
Я приник к сиденью, а она навалилась сверху, задернула над нашими спинами и головами косматую медвежью полсть, осыпанную крупицами снега.
Чужие сани промчались рядом, седоки орали на своего возницу.
Пронесло.
Но через несколько минут, снова выскочив откуда ни возьмись, эти чужие сани опять летели нам навстречу.
И мы опять укрывались медвежьей шкурой. И хохотали под ней, чувствуя, что опасность уже отдаляется, что остается игра.
Нам удалось оторваться. Мы ушли от погони.
А вот и Пассаж. Вокруг тихо. Сыплет снежок.
Это было так интересно!
Игра в прятки продолжилась, когда отец вернулся из-за бугра.
Он позвонил откуда-то, где нужно было отметиться прежде, чем явишься домой – сказал, что будет через час, – мама обрадовалась, захлопотала, заметалась между спальней и кухней.
Приоделась сама, причесала меня.
И тут ей в голову взбрело устроить мужу сюрприз, разыграть его.
Она взяла меня на руки и осторожно опустила в китайскую фарфоровую вазу с павлинами, которая стояла у нас в углу гостиной. Ваза была очень большая, с широким, как колодец, горлом. Я уместился в ней целиком, и даже моя рыжая макушка не высовывалась наружу.
Я слышал, как тренькнул дверной звонок, как отец ввалился в прихожую – грузно, видно, руки его были отягощены большими чемоданами, кофрами. Я слышал, как они с мамой звонко расцеловались после долгой разлуки. Слышал его шаги в глубь квартиры…
– А где же наш Тюрик? – спросила мама, намекая отцу, что теперь нужно искать меня. – Куда он спрятался? Тюрик, где ты?..
Я затих, не дыша, боясь шевельнуться, боясь прыснуть ненароком во время этой веселой игры.
Но отец почему-то не бросился искать меня по разным углам, там и там, – он даже никак не отозвался на это приглашение к игре.
Я слышал, как его шаги удалились в сторону кабинета, а потом двери притворились и сквозь них были слышны лишь приглушенные голоса.
Они ссорились.
А я, скорчась, сидел в китайской вазе, ощущая, как по затекшим икрам начинают бегать мурашки.
Так, наверное, чувствует себя ребенок в материнской утробе, дожидаясь, пока настанет час ему родиться на свет.
Меня никто не искал. Я никому не был нужен.
Но вскоре мама вернулась из кабинета, подошла к вазе и, не без труда, вытащила меня оттуда.
Лицо ее было окаменелым и бледным.
Но она постаралась улыбнуться.
– Вот, посмотри, что папа привез тебе из-за границы! – сказала она, вручая мне игрушечный автомобиль «Линкольн», цвета кофе с молоком, в точности как те настоящие «Линкольны», которые возили по городу постояльцев гостиницы «Континенталь». У этого игрушечного «Линкольна» всё было, как у настоящего, даже маленькая борзая собака на капоте, будто бы несущаяся вскачь на шаг впереди самого автомобиля.
– Это заводная игрушка, – объясняла мне мама, – она сама ездит, нужно только завести ее ключиком… Где тут ключик?
Я взглянул на дверь кабинета: может быть, отец лучше знает, как заводить этот игрушечный «Линкольн»?
Дверь была плотно притворена. Наверное, он устал с дороги.
Но я быстро утешился. Этот маленький автомобильчик, который он мне привез из своей заграницы, был, действительно, чудом из чудес. Он сам ездил по комнате и, ткнувшись вдруг о ножку стула, сам отскакивал, разворачивался и несся в обратную сторону.
Нужно было лишь почаще заводить его ключиком, взводя пружину до отказа, но я уже и сам научился это делать.
В выходной день он собрался на прогулку.
Снял с рогатой вешалки свою серую шляпу со щегольски примятой тульей, снял с крюка шишковатую трость с изогнутой, как бараний рог, рукоятью, потянулся к дверной цепочке.
– Далеко ли? – спросила мама.
– Пройдусь до Владимирской горки. Давно не был в Киеве, соскучился по любимым местам, – объяснил отец.
– Вот и хорошо, – обрадовалась она. – На Владимирскую горку? Тюрик пойдет гулять вместе с тобою. Сегодня такая чудесная погода – уже совсем весна… Сейчас я мигом соберу его.
Мы прошагали Крещатик, вошли в парк.
Я тоже любил это место.
Внизу, под крутизной, степенно катился Днепр. В эту пору он был таким полноводным, что не только захлестывал набережные, но и затопил все видимые земные пространства вплоть до горизонта – они напоминали о себе лишь островами, плавающими в речной воде, как листья кувшинок.
И берег, и острова были затянуты нежнозеленой дымкой, лишь предрекающей, какие дубравы, какие ивовые завеси, какие пущи, какие дебри заполнят тут вскоре всё вокруг и оттеснят воду в отведенные ей пределы.
Надо мною, на постаменте, стоял князь Владимир, прислонив к себе крест, который был выше его головы.
Он, князь Владимир, тоже смотрел в заднепровские дали, на острова, на материки, омытые половодьем, будто бы лишь сейчас принимающие крещенье во вселенской святой воде.
Я обежал постамент и вновь возвратился к отцу, который здесь был для меня – это понятно, – не менее важной фигурой окружающего мира, чем Креститель.
Отец, по обыкновению, сидел на рукояти своей трости, косо воткнутой в грунт.
Это было частью его натуры, его личности: вот так он умел обращаться с предметами, привычными его рукам. Вот так, в бесподобной шляхетской стойке, он орудовал рапирой. Вот так подходил с кистью к мольберту – я еще расскажу об этом.
Вот так он садился на рукоять своей шишковатой трости, будто бы даже удивляясь тому, что некоторые люди предпочитают стулья о четырех ногах.
Да, он очень давно не был дома и наверняка соскучился по Днепру, по этим далям.
И, вероятно, сейчас он размышлял о том, что же происходило здесь, покуда он скитался по дальним странам. Что было в Киеве, что было вообще в этой богоспасаемой стране. Что было, конкретно, в его доме, в его семье – за столь долгое его отсутствие.
Но, может быть, и вовсе наоборот.
Возможно, сейчас, глядя на Днепр, он думал как раз о тех краях, откуда только что приехал. И вспоминал с тоскою о том, какая беззаботная и благостная там жизнь, в отличие от здешних дикостей, какие обходительные там люди, какие ослепительные женщины…
Вороша бумаги в серо-зеленой архивной папке с грифом «Совершенно секретно», я несколько раз натыкался на имя Ирэны Дарлич, актрисы варшавской оперетты, снимавшейся также в кино. Ее имя стояло недвусмысленно рядом с именем моего отца… Но я никак не исключаю того, что это было связано с делами его службы.
Или же к этому времени он был уже привязан сердцем к другой женщине, киевлянке, которую тоже, как и мою маму, звали Лидией?
И я допускаю, что именно в этот выходной день он намеревался встретиться с нею после долгой разлуки, а тут, как на грех – будто бы разгадав его намерения, – мама навязала ему попутчиком в этой прогулке рыжеволосого сына Тюрика…
А я всё ждал, что он заговорит со мною, как бывало.
Что он опять – как в прошлые наши прогулки над Днепром, – расскажет мне о том, как толпы растерянных и смущенных собственной наготою людей шли сюда принимать крещение; как стояли они в речной воде, держа на руках, окуная в купель своих младенцев; и как плыли по волнам языческие свергнутые идолы; и как самого главного из этих идолов, Перуна, привязали к лошадиному хвосту, столкнули в Днепр, и стража провожала берегом путь Перуна до самых Порогов, чтобы никто не вздумал вытащить его из реки…
Однако сегодня он мне ничего не рассказывал.
И даже не смотрел на меня. Будто я ему не родной.
Почему он не захотел искать меня в китайской вазе с павлинами? Почему сам не позвал с собою на Владимирскую горку? Почему он так изменился, вернувшись на сей раз из-за границы?
Что я ему сделал?
Но вскоре он уже сам позвал нас с мамой сопровождать его в интересной поездке.
Мы отправились в Киево-Печерскую лавру, и не на чем-нибудь, а на «Линкольне» цвета кофе с молоком, с борзой собакой на капоте, скачущей на шаг впереди автомобиля, – на таком же точно, как мой игрушечный «Линкольн», который отец привез мне в подарок из-за бугра, – но этот был настоящий.
Мы ехали к лавре даже не в одном, а в двух «Линкольнах».
В другом были какие-то важные гости, старик с золотыми зубами и старуха с золотыми серьгами, сразу видно, что очень богатые, разговаривали не по-русски.
В лавре нас тоже встречал старик, седобородый и седовласый, но не священник, а директор музея, фамилия которого осталась в моей памяти – Депарма.
Когда-то была и фотография, где все мы были сняты на фоне церковных стен, на фоне золотых куполов – иностранные гости, бородатый Депарма, отец, мама и я.
Эта фотография долгие годы хранилась в мамином бюваре, и я часто разглядывал ее. Но потом она исчезла вместе со всеми другими снимками, на которых был изображен мой отец.
А тогда, в лавре, сфотографировавшись на память, мы углубились в Пещеры.
После яркого солнца снаружи, сумрак этих пещер был так плотен, что мы не видели ни зги – сплошная тьма, – и всем раздали восковые свечи, которые зажигались поочередно, одна от другой.
Свет от этих пламешек, колеблемых сквозным ветром, метался пятнами по сводам, выхватывая из тьмы то серые мазки давней побелки, то трещиноватый узор глины, то округлые лбы камня.
В моей руке тоже была свеча, и я ощущал себя причастным к таинству.
Во глубине пещеры, вдоль сводчатой стены, впритык к ней, стояли деревянные ящики, покрытые стеклом, а под стеклом были ветхие от времени холстины, из-под которых торчали иссохшие темнокоричневые длани с крючковатыми пальцами, а там, где голова, кустились, будто пакля, клоки взъерошенных волос, то ли усы, то ли бороды, то ли поросль поверх черепов, а внизу опять торчали из-под холстины иссохшие до самых костей конечности с узкими ступнями, гребешками пальцев…
Меня охватил страх, какого я не испытывал никогда раньше, даже тогда, когда, по приезде в Киев, увидел на Крещатике, у Пассажа, груды лохмотьев, а это лежали на тротуаре умершие от голода люди… Но лишь сейчас, а не тогда, я воочию увидел смерть.
– Это что? Это – кто? – спросил я отца боязливым шепотом.
Он ответил:
– Святые мощи.
А седовласый Депарма, склонясь ко мне, объяснил:
– Это – Илья Муромец. Ты слыхал про Илью Муромца?
– Да, – кивнул я.
Я знал сказку про Илью Муромца. Видел картинку, где он на коне, вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем.
Но там, на картинке, все они были молодцами, могучими богатырями, с плечами в сажень, с румянцем во всю щеку, в кольчугах и доспехах.
А здесь, под стеклом, под истлевшей холстиной, лежали столь жалкие останки былой их мощи, что я даже не поверил, что огромный человечище, былинный богатырь, может иссохнуть, лежа в ящике, до такой вот кочерыжки…
Между тем, богатые иностранцы с золотыми зубами и серьгами, дивясь тому, что им здесь показывают, шаг за шагом продвигались в глубь пещеры, рассматривая другие ящики, другие останки, другие мощи.
Депарма объяснял им, кто да что, а отец переводил эти объяснения на ихний язык.
И тут моя мама, заметив, наверное, мое потрясение, шепнула мне на ухо, так, чтобы никто, кроме меня, не услышал:
– Я думаю, что все эти мощи – подделка…
Замечу, что она, еще девочкой певшая в церковном хоре, сделалась к этой поре заядлой атеисткой, какими были тогда все или почти все, не исключая меня. Мы были упорны и заносчивы в своем безбожии.
И страх, обуявший меня в пещере при виде святых мощей, вдруг сам собой улетучился. Я даже обрадовался, возликовал душою, приняв это простое объяснение: что нету никаких мощей, а есть лишь хитрая подделка.
Что смерти нету вообще, и ею лишь пугают тех, кто от безделья, среди бела дня, ходит со свечей по подземельям…
На дворе сияло солнце.
И тучи воронья носились каруселью вокруг крестов.
Нам еще предстояло ехать на «Линкольнах» в Пущу Водицу, показывать гостям другие достопримечательности Киева.
Развалясь на заднем диване машины, рядом с мамой, я был настолько благодушен, так упоен впечатлениями, что позабыл убрать ладошку из створа распахнутой дверцы.
А отец с силой захлопнул ее.
Наверное, я был какое-то время в обмороке, потому что, очнувшись, увидел, что наш «Линкольн» уже одинок, а другой пропал из виду, что мы мчимся не к Пуще Водице, а совсем в другую сторону.
Кисть руки, обрызганная кровью, синела и пухла прямо на глазах. Она уже не столько болела, сколько немела, будто бы вовсе отделяясь от меня.
Лицо мамы, сидевшей рядом, было каменным.
Отец сидел впереди, рядом с шофером, не оборачиваясь. Но я всё равно увидел, что он смертельно бледен.
Я потянулся к его плечу, выжал сквозь слёзы подобие улыбочки: да что вы, товарищи, так расстроились из-за сущего пустяка? А мне нисколечко даже и не больно, я ничего не чувствую… И никто ни в чем не виноват, кроме меня самого, дурака: надо было убрать ладошку, а я зазевался…
Но я не высказал вслух этих слов.
Потому что моя детская несмышленная душа вдруг почуяла, что пришла беда. Нет-нет, не от прибитых пальцев – они заживут, их вылечат.
А та кромешная беда, от которой уже нет и не будет спасу.






