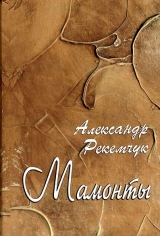
Текст книги "Мамонты"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Утренник
Девочка росла. Пора и в школу.
Уж не знаю, какой блажью было продиктовано решение родителей определить Тамару в монастырскую школу в Версале. Но, надо думать, им показалось, что в эти шальные времена, тем более в чужой стране, ребенку следует дать воспитание построже.
И девочка тотчас почувствовала себя несчастной.
Она плохо владела французским, а русский язык в Версале тогда еще не был в ходу. Кроме того, монастырская школа – что естественно – была католической. Тамару же крестили в православии.
В воспоминаниях «Мои годы в танце», напечатанных (и написанных) на английском, Тамара обозначила это словом orthodox, как принято в западном лексическом обиходе.
И я вспомнил, что в зарубежных визовых анкетах отца, которые мне довелось видеть, он вписывал в графу о вероисповедании точно такой же ответ: Orthodox.
«… Мы молились с утра до вечера, а в перерывах лущили горох, – пишет Тамара. – Радость приносили только воскресенья, когда приезжали родители и вели меня в парк большого замка в Версале. Отец рассказывал мне о Людовиках, о величии власти, о великолепии королевского двора. Мама привозила булочки и пирожки, фрукты и сладости…»
В рукописном, более пространном тексте этих воспоминаний, Добавляется, что кроме живописания пышности версальского Двора, шалостей маркизы Помпадур, мадам дю Барри, королевы Марии-Антуанетты, – отец рассказывал и о бриошах, которые беднякам советовали есть вместо хлеба, о Бастилии, о революции, о якобинцах, о жутком изобретении профессора анатомии Гильотена. Мать девочки сердилась на него за это, нервничала.
Настоятельница монастырской школы просила родителей не баловать ребенка сладостями. Вновь и вновь заводила речь о том, что девочке следует перейти в истинную веру, то есть в католичество, иначе она всю жизнь будет ощущать себя грешницей.
Мать отвечала на это непреклонным «нет».
То есть, она излагала свои доводы более пространно, но, поскольку Анна тоже плохо владела французским, дочери впоследствии пришлось приложить немало усилий, чтобы передать на английском своеобразие этих речей.
Нам же понадобится изобразить то же самое по-русски.
Итак, Анна отвечала матери-настоятельнице: «Я – ортодокс, вся семья – ортодокс, Тамара – тоже ортодокс, никаких изменений, Тамара не католичка, тут вообще слишком много церкви, Тамара останется как есть или уйдет совсем вон…»
Странное событие ускорило развязку.
Однажды учениц привели в монастырскую часовню. И там они увидели монашенку, лежащую ничком на полу, с руками, раскинутыми крестом. Она была накрыта черным покрывалом, на котором тоже был белый крест. Младшим девочкам дали корзинки с цветочными лепестками, и в то время, как старшие пели псалмы, младшенькие ходили вокруг распростертого тела и бросали на него лепестки… На ночь было велено молиться за спасение ее души. Живой, отлетевшей?.:
Потрясенная девочка проплакала всю ночь.
Но это имело результат неожиданный.
В очередную воскресную встречу Тамара объявила отцу и матери, что приняла решение стать монахиней.
Вероятно, мечта о пострижении не совпадала с планами родителей в отношении единственного чада.
Девочку забрали из монастыря, отдали в обычную светскую школу, что располагалась невдали от дома.
Теперь по воскресеньям отец старался приобщить Тамару к тем развлечениям, которые естественны для ее возраста и которых она была лишена в Версале.
Однажды он повел ее в цирк Медрано.
По арене, вздымая вихри опилок, носились лошади. На них скакали джигиты в бараньих папахах и казакинах с гозырями, в мягких сапогах со шпорами. Они выделывали чудеса: мчались в галопе, стоя в седлах в полный рост; зависали в стременах и мели арену башлыками; жонглировали обнаженными клинками, палили в купол из маузеров и карабинов…
Девочка была в восторге.
Вероятно, именно там, в цирке Медрано, в ее детской головке угнездилось представление о том, что ее папа был на войне кавалеристом, что он служил в «эскадроне смерти» и, вообще, что он родился в горах Кавказа и – как же она не догадалась раньше? – потому назвал свою дочь именем грузинской царицы Тамары…
Опять легенда.
В другой раз он повел ее на Елисейские поля смотреть Русский балет.
Она запомнила бесконечный ряд ступенек, по которым они поднимались, из чего можно предположить, что места были на галерке.
В утреннике шел одноактный балет «Сильфиды».
«Я перенеслась в мир мечты, – вспоминала впоследствии Тамара. – Декорации изображали деревья в лунном свете. Романтическая музыка Шопена. Сильфиды скользили по сцене, появляясь и исчезая… Их движения были легки. Это было идеальным сочетанием музыки и движений, красоты линий.
Внутренний восторг переполнял меня. Хотелось плакать от потрясения, которое я испытала.
Даже в перерыве я всё не могла спуститься с небес на землю.
И любимый шоколад „эскимо“, которым угостил меня отец, был съеден мгновенно…»
А после антракта началось представление, которое не только предопределило судьбу маленькой девочки по прозвищу Жук, но и – об этом тоже следует сказать непременно! – во многом повлияло и на судьбу ее отца.
Это был одноактный балет «Петрушка», поставленный Михаилом Фокиным на музыку Игоря Стравинского.
Рассказывая о посещении театра, Тамара – уже во взрослом осмыслении былого, – упоминает о том, что отец имел намерение написать рецензию на этот спектакль для своей газеты, которая старалась постоянно держать в поле зрения всё русское в Париже. И формулирует его вкусы: он не был приверженцем нового для той поры искусства – кубизма в живописи, который его озадачивал, диссонанса и атональности в музыке, которых он не понимал и не хотел понимать. Нет, он предпочитал классические звучания, традиционные формы изображения.
Эти ее наблюдения очень важны, поскольку в дальнейшем изложении событий у меня появится возможность видеть отца среди старинных холстов – в ту пору, когда, уже на излете своих дней, он работал в Киевском музее западного и восточного искусства. И более того: когда мне выпала редкая возможность застать его самого за мольбертом, с палитрой и кистями в руках…
Но покуда отец и дочь сидят рядышком на скамье театра в Елисейских полях.
Возникла музыка, похожая на треньканье балалайки, на посвист деревянного рожка, на перебор ладов гармошки. В этой музыке сразу проявилась та острота звучаний, которая доселе царапала его слух, заставляла досадливо морщиться, недоуменно вскидывать брови… Но сейчас его будто подменили: он завороженно слушал эту пряную и дурашливую какофонию оркестра, улавливал в ней столь близкие сердцу и уже позабытые мотивы: «… Бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах…»; и еще – «Я на горку шла, тяжело несла… тяжело несла, в решете овса…»; и еще один мотив, полюбившийся не только Чайковскому: «Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, люли-люли, стояла…»
А когда открылся занавес, сцена наполнилась сиянием заснеженной бескрайней степи, озаренной одновременно и Солнцем, и Луной, да еще стоцветной радугой впридачу. Причем лучи красного солнца топырились во все стороны, будто кудри сказочного Ярилы. А скибка луны хитровато щурилась. А радуга стояла на обеих ногах так основательно, будто всегда была непременной частью любого пейзажа.
Это был как бы встречный крик другой души – души художника, истомленной разлукой с родной землей настолько, что теперь он спешил населить сцену всем, что знал, всем, что помнил, не отделяя зиму от лета, а ночь ото дня.
На горизонте, словно бы пустынный мираж, вырисовывались ломаные очертания деревянных церквей, кержацкого скита, захолустных монастырских стен, осененных восьмиконечьями крестов…
А на самом переднем плане были полосатые верстовые столбы с фонарями, был ярмарочный балаган с задернутой цветастой занавеской. А вот и она раздернулась в стороны – и пошла, всем на потеху, кукольная комедия. Петрушка в дурацком колпаке, Арап в разбойной чалме, Кукла в пышных юбках.
Выгородки райка, справа и слева, были набиты досужей публикой: тут тебе и купчина, швыряющий деньги толпе; и цыгане с цыганками, проворно тырящие эти деньги из чужих карманов; и остолопы полицейские, разинувшие рты на представление, вместо того, чтобы ловить воришек; и косолапый медведь, обученный танцевать…
Балет шел в декорациях Александра Бенуа, в которых так причудливо сочетались и достоверный ландшафт, и сказочный лубок, и то беспредельное буйство красок, которое составляло природу нового искусства.
А ведь он – я говорю сейчас о своем отце, – ведь он чурался этих новаций!
Но тут он был очарован до той крайней степени, когда перехватывает дыхание. Он был потрясен, как не следовало бы, наверно, потрясаться тридцатилетнему человеку, познавшему житейскую мудрость, хлебнувшему военного лиха, – но он, всё равно, замер в потрясении…
Вот тут-то, в то утро (ведь это, напомню, был утренник), пусть на эмоциональном уровне, но тем более, ведь от этого уже не избавишься, – пришло осознание того, что ему не жить без России!
И это не ускользнуло от ревнивого внимания дочери.
Хотя в то же утро и в тот же час к ней самой явилось озарение.
Она зорко следила за всеми персонажами на сцене: за отважным без меры и без меры несчастным Петрушкой; за косолапым медведем, который плясал для всех и вместе со всеми – ведь в России только и знают, что плясать с радости или с горя; за вездесущим черным Арапом; за цыганами, за полицейскими, за юркими сбитенщиками.
Но более всех, не отрывая глаз, она следила за Куклой.
Она была легка и бела, как хлопья снега, падавшие на землю с чистого неба. Она была непостоянна, влюбчива, опрометчива – предпочла Петрушке Арапа…
У Куклы в спектакле не было имени, она безлично звалась Балериной.
Но из театральной программки, которую купил отец, следовало, что у балерины, которая танцевала партию Куклы, имя всё-таки было.
Ее звали Тамара Карсавина.
Она тоже была Тамарой!
И хотя финал спектакля был печален – бедного Петрушку повязали цепями, забили до полусмерти ни за что, ни про что, – даже это не могло поколебать судьбинного решения девочки. Она больше не хотела стать монахиней.
Теперь она хотела лишь одного: стать балериной.
Задание
Вернусь к прерванной цитате из служебной автобиографии отца, где он повествует о своем посещении консульства СССР в Париже.
«…В Консульстве меня очень тепло встретил секретарь консульства и сказал, что мне следовало бы переговорить с консулом. С консулом, покойным Отто Христиановичем Аусемом, я очень долго беседовал, в результате чего он мне сказал, что он очень заинтересован мною, переговорит обо мне кое-с кем и чтобы я зашел в Консульство через три дня. В назначенный день я опять беседовал с консулом, написал свою авто-биографию, а также „что бы я хотел делать“. Через дней 5–6 я был вызван письмом в Консульство, где в присутствии консула беседовал уже о задании для меня с товарищем, имени которого я не помню, кажется ЕЛАБУРСКИЙ (с ним я год тому назад встретился в Москве). Я взял на себя выполнение приговора верховного суда СССР над неким Бородиным, бежавшим из СССР с похищенными документами и проживающим вблизи Праги Чешской…»
Вот так.
Предвижу оторопь, которая охватит читателя. Мною владеет то же чувство.
А ведь он шел туда, на рю де Гренель, где располагалось консульство, с намерениями совсем иного плана: «…думал поговорить с секретарем консульства о материалах, относящихся к Татарбунарам, и, если можно, переслать их для напечатания в газетах в СССР».
Благородная творческая цель.
И вряд ли в упомянутой записке «что бы я хотел делать» он написал, что готов мочить, кого укажут.
Ему же прямо с порога суют револьвер в руки: поезжай и убей!
Вполне обычное задание для той поры, для той разгоряченной эпохи.
И он, боевой офицер, не отказался от этого поручения.
А ведь он был достаточно умен, чтобы понять, что «приговор верховного суда СССР» весьма сомнителен, что это сущая лажа, как выразились бы мы теперь. Но это, наверное, отчасти оправдывало убийство. Оправдывало хотя бы в его собственных глазах.
Признаем, что всё это должно шокировать даже стороннего человека, следящего за этой историей. А уж что говорить о тех, кто связан с героем узами родства!..
И лишь для того, чтобы снять ситуацию шока, скажу, забегая вперед, что он не выполнил данного ему задания.
То ли по сложившимся на месте обстоятельствам, то ли… но это уже из области предположений.
И это, конечно, был его первый необратимый шаг навстречу той пуле, что предназначалась уже ему самому.
После ареста в июле 1937 года, этот вопрос будет задан ему с прямотой, не сулящей иного исхода.
«Воп. В период, когда Вы работали в „Парижском вестнике“, Вы получали какие-нибудь поручения от работников полпредства?
Отв. Да, получал один только раз.
Воп. Какое это было поручение?
Отв. В марте м-це 1925 г. я был вызван в консульство в Париже, где мне было предложено выехать в Прагу и ликвидировать там проживающего бежавшего из СССР некоего Бородина, который, как мне объяснили, был приговорен Советским Судом к расстрелу. Предложение это я принял, выехав в Прагу, где прожил около м-ца, нашел Бородина, но выполнить задание мне не удалось, т. к. он почти никуда из дому не выходил. Других поручений я не имел».
Кем же был «некий Бородин», ликвидация которого сделалась одной из неотложных задач Советской власти?
Его подлинное имя раскрыто в другом документе архивного дела: Виктор Михайлович Чернов.
Лидер российской партии социалистов-революционеров, сам побывавший в царских тюрьмах и ссылках. Он сам проповедовал террор, якшался с Гершуни и Азефом, Гапоном и Савинковым.
Но в январе 1918 года он был избран председателем Учредительного собрания – и вот с этим председательским колокольчиком вошел в историю.
Именно к нему были обращены слова матроса Железнякова: «Караул устал!»
Эта фраза, кочуя из книги в книгу, из одного фильма в другой, обошла страницы и экраны. Ей восторженно рукоплескали залы. И я не стану отделять себя от шумных зрителей детского киносеанса, отбивавших ладони, заходившихся восторгом, когда хмурый матрос в тельняшке, перепоясанный пулеметными лентами, говорил интеллигентному задохлику с бородкой: «Караул устал!»
В книге самого Виктора Михайловича Чернова «Перед бурей», изданной в Нью-Йорке в 1954 году, этот эпизод изложен подробно.
«…Я заявляю о переходе к следующему пункту порядка дня: о земле. В это время кто-то сбоку трогает меня за рукав: „Так что надо кончать – есть такое распоряжение народного комиссара…“ Я оглядываюсь: „Какого народного комиссара?“ – „Распоряжение. Словом, тут оставаться больше нельзя. Караул устал. И сейчас будет потушено электричество…“
Чернов не без увлечения описывает эпизоды смертельной охоты за ним.
Еще на подходе к залу Таврического дворца он слышит: „Вот того хорошо бы в бок штыком“, „А этому пули не избежать“, „По том вон пуля плачет“…
А вот и другая, так сказать, точка съемки, другая точка зрения.
Управляющий делами ленинского Совнаркома Бонч-Бруевич находится в зале, среди солдат и матросов.
„…Я заметил, что двое из них, окруженные своими товарищами, брали Чернова на мушку, прицеливаясь из винтовки“, – писал он позже. Бонч-Бруевич посоветовал им не убивать председателя Учредительного собрания, добавив, что Ленин этого не разрешает. „Ну что же? Раз папаша говорит, что нельзя, так нельзя“, – заявил мне за всех один из матросов».
И опять – сам Чернов.
Выразителен эпизод утра следующего дня (заседание шло всю ночь), туманного и сумрачного.
«…Перед выходом ко мне протискивается какой-то бледный, уже немолодой человек. Прерывистым голосом он умоляет меня не вздумать пользоваться моим автомобилем. Там меня поджидает целая куча убийц. Он, сообщающий это, сам большевик, член партии. Но его совесть не мирится с этим…
Город уже полон вестью, что с Учредительным собранием кончено, а Чернов и Церетели убиты».
Здесь я спешу уточнить, что речь идет не о скульпторе Зурабе Церетели, а о его однофамильце, лидере меньшевиков.
Особым уважением к автору книги «Перед бурей» я проникся, найдя в ней еще одно свидетельство – высказывание адмирала Колчака на допросе в Иркутске в феврале 1920 года, перед тем, как его расстреляли, а затем утопили в проруби.
«…Много зла причинили России большевики, но есть и за ними одна заслуга: это – разгон Учредительного собрания, которое под председательством Виктора Чернова открыло свое заседание пением Интернационала».
Оставаясь интернационалистом до мозга костей, я беру сторону председателя Учредилки, а не белого адмирала.
В эмиграции, в Праге, Виктор Михайлович Чернов не помышлял о затворничестве.
Будучи человеком изощренным в тактике террора, он, конечно же, пользовался всеми известными ему способами предосторожности. Но, как политик, был предельно активен.
Именно в тот период, о котором я веду речь, он несколько раз отправлял письма в Москву, самому Сталину, в которых настаивал на «исправлении ошибок революции». В ноябре 1926 года он встречался в Праге с личным посланником большевистского генсека и обсуждал с ним возможности своего возвращения в СССР. Но, вместе с тем, опыт конспирации подсказывал ему, что все эти переговоры могут вестись лишь с целью заманить его в Советский Союз, а там, без проволочек, привести в исполнение вынесенный заранее приговор Верховного Суда…
Чутье его не обманывало.
Другой русский человек, пытающийся заслужить право на возвращение в СССР, прибыл в Прагу с заданием ликвидировать неугомонного эсэровского вождя.
«…Выехав на место, я нашел означенного человека, – отчитывался он, – но, как мне казалось тогда, сделать ничего нельзя было, т. к. он (на что мне указывал и Аусем) почти не выходил из дому и всегда находился в окружении жены, тещи и дочери. Просидев там почти месяц, я вернулся в Париж и сообщил т. Аусему и другому тов. о своей неудаче…»
Эти строки в деле отчеркнуты синими чернилами и снабжены двумя вопросительными знаками.
Точку поставят позже.
Между тем, охота продолжалась с маниакальным упорством. Историк Дмитрий Волкогонов, изучавший архивные материалы Иностранного отдела ГПУ, писал: «…за Черновым следили сразу несколько агентов: „Лорд“, „Лоуренс“, „Лука“, „Сухой“. В сводке „Лорда“ от 30 ноября 1936 года подробно рассказывается, например, как с помощью дворника Г. Фурманюка установлено постоянное наблюдение за квартирой В. М. Чернова по улице короля Александра, 17, в Праге. Подробно описываются соседи, окружение, подходы к дому, пути быстрого ухода из квартиры. Видимо, готовилась „акция“, но Чернов, почувствовав неладное, выехал из города».
Нетрудно угадать судьбу незадачливых агентов, так и не сумевших выполнить данное им боевое задание.
В том же памятном девяностом году, когда я возвратился в Москву из Киева, где изучал бумаги в серозеленой папке, ко мне в издательство «Пик» пришел человек, назвавшийся племянником Виктора Михайловича Чернова.
Он принес рукопись его книги, никогда не издававшейся в России. Сейчас уже не помню, как она называлась: были ли это «Записки социалиста-революционера» или более поздняя – «Перед бурей»? Издать ее тогда не удалось: мы были на мели, без средств, работали под цепким приглядом спецслужб. Впоследствии эта книга увидела свет в другом издательстве.
А в моей памяти были еще свежи только что прочитанные в Киеве строки признания: «…И сейчас я не могу сказать, были ли очень огорчены или нет моей неудачей мои товарищи».
Я поразился тому, какие неожиданные встречи – будто бы нарочно, в назидание – устраивает судьба.
Но так и не решился рассказать об этом племяннику.
Елабурский, Елабурский…
Всё нейдет из ума тот самый товарищ Елабурский, который в Париже совращал моего отца – поезжай и убей! – а потом, уже в двадцать девятом, повстречался ему в Москве – здрасьте, давно не видались…
Что за фамилия – Елабурский? Настоящая, или партийная кличка, или чекистский псевдоним? Не знаю. Но корень ее не вызывает сомнений: Елабуга, захолустный городок на Каме, где в августе 1941 года повесилась Марина Цветаева.
Я узнал подробности ее смерти в ту пору, когда о ней самой, о ее судьбе, о ее поэзии вообще мало кто знал. Знавшие были наперечет. Но мы, питомцы Владимира Александровича Луговского в литературном объединении «Комсомольской правды», часами – хотя и вполголоса, хотя и оглядываясь, – читали ее стихи: «..Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь…» Луговской же принес из дому затрепанный томик с ее пьесой «Конец Казановы», изданный, кажется, в Праге, и мы читали его по кругу и тоже запоминали наизусть.
Всё это было в конце войны – в сорок четвертом, либо сразу же по ее окончании, в сорок пятом.
Тогда миллионные жертвы притупили в нас само ощущение смерти.
Но о том, что Марина Цветаева погибла в сорок первом – об этом не знал никто.
Тем более не ведали о ее самоубийстве.
«Да что вы! Марина Цветаева умерла у меня на руках…» – уверял нас Александр Соколовский, невысокого росточка, щуплый паренек, коротавший эвакуацию в Елабуге.
Позже мы вместе учились в Литературном институте, он – курсом старше. Застряла в памяти его стихотворная строка: «…над Елабугой огни дрожат». И там был тот же разговор: «У меня на руках…». Но Саше мало кто верил, он слыл фантазером и болтуном.
Гораздо позже, уже после его смерти, я нашел в книге Ирмы Кудровой «Гибель Марины Цветаевой» подтверждение его близости к семье (он был другом ее сына Георгия, Мура, погибшего вскоре на фронте, в первом же бою). Саша Соколовский застал Цветаеву бедствующей в Елабуге, нанявшейся посудомойкой в литфондовскую столовку, а там и полезшей в петлю…
Конечно, не в этих житейских тяготах была ее трагедия.
И не здесь бы, мельком, писать о ней.
Но слишком много зловещих параллелей нарисовалось в судьбах окружавших ее людей.
Мужем Марины Цветаевой был Сергей Эфрон, сын народоволки Елизаветы Дурново и народовольца Якова Эфрона. Почти все – и родители, и их дети – побывали за решеткой царских тюрем.
Кроме младшего, Сергея.
С началом мировой войны он покидает университет, где учился на факультете филологии, отправляется на фронт. Заканчивает Петергофскую школу прапорщиков, подобную той, где учились Валентин Петрович Катаев и мой отец. Но после революции он подался не к красным, а к белым. Участвовал в Ледовом походе. Вместе с Врангелем покинул Крым, хлебнул лиха в лагерях Галлиполи. Потом обосновался в Праге.
Именно туда, в Прагу, отправилась к мужу Марина Цветаева.
В ее воспоминаниях есть такие, на зависть крепкие и выразительные строки:
«28 апреля 1922 г. накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.
– Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?
– Что правда – здесь.
7 ноября 1928 г. поздним вечером, выйдя из Café Voltaire, я на вопрос:
– Что же скажете о России после чтения Маяковского?
Не задумываясь, ответила:
– Что сила – там».
За то, что приветствовала Маяковского, Цветаеву изгнали со страниц «Евразии», «Последних новостей». Ее, автора «Лебединого стана», воспевавшего белое движение, вообще перестали печатать в эмигрантской прессе Парижа.
Еще разительней выглядит эволюция бывшего белого офицера Сергея Эфрона. Перебравшись в 1925 в Париж, он примыкает к «евразийцам», становится одним из ведущих редакторов газеты «Вёрсты», вступает в Союз возвращения на родину.
В письме Анне Тесковой в Прагу Марина Цветаева пишет:
«С. Я. совсем ушел в Сов. Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет…»
Как точно это сформулировано!
Но и она не знает (или знает?), что отныне деятельность мужа вышла далеко за пределы общественных страстей и журналистской работы.
Теперь он активно сотрудничает с закордонной советской разведкой, с Чека.
И не он один. В ряду добровольных рыцарей щита и меча оказываются такие известные люди русской эмиграции, как князь Святополк-Мирский, музыковед Петр Сувчинский, бывший деникинский офицер, сын священника Николай Клепинин, окончивший Сорбонну журналист Кирилл Хенкин, его жена, актриса Елизавета Хенкина, дочь знаменитого русского промышленника Вера Гучкова, еще многие…
У меня нет подтверждений того, что мой отец имел отношение к группе Сергея Эфрона. Знаю лишь, что он тоже входил в круг Союза возвращенцев, работал в той же эмигрантской прессе.
И, буквально с порога, выполнял боевые поручения Москвы.
Подобно тому, как это делали Сергей Эфрон и его команда.
В рукописных воспоминаниях моей обретенной сестры Тамары Чинаровой, которые она прислала мне из Лондона (сверх того, что было опубликовано в «Дане Кроникл»), есть впечатляющие строки:
«…Отец стал очень таинственным. Он уходил по ночам на тайные собрания. Он мог отсутствовать неделями, а возвращался с полными карманами денег. Он не говорил матери, чем он занимался и на кого работал. Поэтому она отказывалась принимать от него деньги. Мама ужасно боялась анархистов. Два генерала были похищены в Париже. Конечно, отец не имел ничего общего с этим делом, но она отвергала его идеи и его деньги…»
И еще:
«Мать называла его большевиком».
Я тоже не думаю, что Рекемчук имел отношение к ставшему легендой и притчей во языцех похищению в Париже белогвардейских генералов Кутепова и Миллера, один из которых был умерщвлен по дороге, а другой доставлен на Лубянку в целости и сохранности.
К охоте на генералов не имел отношения и Сергей Эфрон. Но он активно участвовал в другой жестокой акции Лубянки в Париже: к ликвидации чекиста-перебежчика Игнатия Рейсса, человека, который незадолго до смерти отослал в Москву, в ЦК ВКП(б), пакет, куда были вложены орден Красного Знамени, удостоверение члена Польской компартии и письмо. В нем говорилось: «…Наши дороги расходятся! Тот, кто сегодня молчит, становится сообщником Сталина и предает дело рабочего класса и социализма!..»
Рейсса убили 4 сентября 1937 года.
А через несколько дней Сергей Эфрон исчез из Парижа. Предполагали, что он отправился в Испанию, воевать на стороне республиканцев. Но уже 10 октября Эфрон отбыл в Советский Союз.
А 29-го октября в дом, где жила Марина Цветаева, явились четверо французских полицейских. Они произвели обыск, изъяли ее личные бумаги, переписку с мужем. Самой Цветаевой предложили явиться в Префектуру полиции и там дать кое-какие письменные объяснения…
Положение Марины Ивановны усугублялось тем, что ранее в Советский Союз отбыла ее взрослая дочь Ариадна, работавшая в журнале с красноречивым названием «Наш Союз» и тоже связанная с деятельностью советской разведки за рубежом.
Таким образом, бСльшая часть семьи уже оказалась на родине, там, куда звали всех благоразумных русских людей «возвращенцы».
Марина Цветаева, вместе с сыном Муром, отбыла вслед за ними на борту теплохода «Мария Ульянова», который вышел из Гавра 12 июня 1939 года.
Любопытно, что похищенного генерала Миллера тайно вывезли к родным берегам на том же самом теплоходе «Мария Ульянова», но двумя годами раньше.
Далее следуют лишь факты, подкрепленные скупой датировкой.
Сергей Эфрон был арестован в Москве 10 октября 1939 года вместе с группой других бывших эмигрантов, которых объявили «французскими шпионами». Эфрон был приговорен к смертной казни, когда уже началась война с Германией, и расстрелян 16 ноября 1941 года, когда дивизии Гитлера подошли к Москве.
Ариадну Эфрон арестовали на даче в Болшеве через несколько дней после возвращения на родину ее матери. В июле 1940 года ее приговорили, тоже как «французскую шпионку», к восьми годам лагерей. Когда она отбыла этот срок, ей добавили еще и выслали в Сибирь.
Анастасия Цветаева, младшая сестра Марины Ивановны, провела в заключении 22 года.
Сама Марина Цветаева, как мы знаем, повесилась в Елабуге 31 августа 1941 года.
Говорят, что незадолго до этого ей была предложена непыльная работенка: переводчицы с немецкого в местном НКВД. Всё же лучше, чем мыть тарелки в литфондовской столовке. Но ей, наверное, уже и так хватало.
Елабурский, Елабурский…
В детстве, помню, мне очень хотелось заиметь игрушечный револьвер, пугач.
У моих дворовых приятелей каких только не было! И наганы, и браунинги. И черной жести, и белой. Одни стреляли оглушительными и вонючими пробками, в других же под курок была заправлена гремучая лента: сколько раз нажмешь – столько она и пукнет.
Но мама, как я ее ни умолял, не покупала мне пугача. Объясняла, что денег нет. Или, молча, хмурилась, когда я слишком донимал ее этой просьбой.
Между тем, она не жалела рубля на какую-нибудь никчемную детскую книжку, покупала мне глупые игрушки, иногда раскошеливалась на дюжину оловянных солдатиков.
Но так и не поддалась на мои уговоры купить револьвер. Нет и нет. И что ее зациклило на этом?..
Когда подрос, уже и сам не настаивал. Да и время подошло такое – не до игрушек, война.
В артиллерийской спецшколе, когда заступал в караул, разводящим, мне выдавали настоящую саблю, в ножнах. Такую же, как на давней фотографии держал поперек колен мой отец, только что произведенный в офицеры.
А револьвер я так никогда в руках и не держал. И к старости лет уже не сильно сожалел об этом…
Лишь однажды ход моих мыслей приобрел иное направление.
В выходной день я сидел у телевизора и смотрел передачу, которая, при всем дурновкусии ее ведущего, бывала весьма остра.
Еще в этой передаче была такая необычная жанровая находка. Ведущий, сознавая, что данная ему природой внешность – вытаращенные глаза, раскормленные щеки, – не внушает особого доверия, применил очень интересный прием: он сам не появляется в кадре (разве что в отдалении, на фоне домашнего камина или аквариума с рыбками), а лишь направляет разговор, задает вопросы, сам же на них отвечает, – а в это время на экране светится чье-нибудь хорошо знакомое зрителю лицо, как правило – интеллигентное и даже симпатичное.
То есть, происходит как бы отождествление голоса ведущего с лицом его собеседника. И это восстанавливает доверие.
Иногда, в паузах, из ящика вырываются хоровые стенанья «Реквиема» Верди, пассажи надрывного хачатуряновского вальса, грудной голос Людмилы Зыкиной, – и это, надо признать, весьма заводит всякого непредвзятого человека. Под такую музыку любые слова тронут сердце.
Так вот, однажды в эту передачу был приглашен Владимир Абрамович Этуш, обожаемый миллионами зрителей киноактер: чего стоит хотя бы его Саахов в гайдаевской «Кавказской пленнице»!..
Судьба одарила меня давним знакомством с Этушем. Одной из первых его ролей в кино был Мамедов в мосфильмовской экранизации моей повести «Время летних отпусков». Блестящими были и его пробы комической роли иерея Жохова в фильме «Молодо-зелено», но по ряду причин утвердили на роль другого артиста. Встречались мы и позже.
Я всегда безмерно уважал Владимира Абрамовича, ценя не только его искрометный талант, но и безупречность биографии: участник Великой Отечественной войны, воспитатель творческой молодежи – ректор Щукинского театрального училища.






