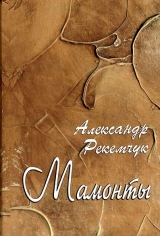
Текст книги "Мамонты"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
– Ты себя плохо чувствуешь?
– Нет.
– Тогда – работай!
Я вспомнил, что в моем литинститутском семинаре – а сейчас я опять набрал первый курс, – было немало студенток, занимавшихся в детстве классическим танцем.
Одна из них описала в своей повести разговор преподавательницы с вызванной для объяснений мамашей.
«– …У вашей дочери плохая растяжка. И если вы хотите, чтобы она стала балериной…» – «Да что вы! – всплеснула руками сердобольная мама. – С чего вы взяли, что я хочу, чтобы моя дочь стала профессиональной балериной?! Нет, я слишком люблю ее…»
Когда урок подошел к концу, и Марина Константиновна, попрощавшись со мною, вернулась к своим многотрудным ректорским делам, Наталья Игоревна спросила:
– Хотите зайти в старший класс?
– Да, конечно!
Из-за соседней двери тоже доносились аккорды и арпеджио рояля, разделенные подчеркнутыми паузами.
Мы вошли. Я поздоровался, не пряча робости.
Рослые, уже вполне сформировавшиеся девушки в черных трениках, поверх которых, по погоде, были натянуты сатиновые шаровары, ответили радушным «здрасьте», скользнули взглядами по явившемуся в класс гостю, каких, должно быть, перевидали немало.
Одна спросила:
– Штаны снимать?
Наталья Игоревна, подавив смешок, выразительно глянув на меня (ну, народец!), сказала:
– Да.
Объяснила:
– Второй курс, пятнадцать-шестнадцать лет. Вон те, справа, японки. Очень работящие!
Мне показалось, что я уже встречал в округе этих тоненьких узкоглазых девушек, гуляющих стайками вдоль набережной, тянущихся взглядами то к белому цветенью, то к буйной зелени, то к золотому, как сейчас, увяданью Нескучного сада по ту сторону реки.
И еще я подумал, что случившийся только что переход из класса в класс, из одной двери – в соседнюю дверь, из возраста в возраст, – что это перемещение в пространстве и во времени на удивление точно соответствует прихотливому течению моей книги, где нет единого поступательного хронологического русла, а всё идет то впрямь, то вкось, то вспять; где герои, достигнув старости, отнюдь не умирают, а вновь впадают в детство; где нету четкого разграничения персонажей – вот ты, а вот я, и не трожь меня! – потому что все мы, плоть от плоти, душа от души, наследуем и повторяем друг друга, лишь для порядка, для ясности, обозначая степени родства.
– Зинаида Анатольевна, – обратилась Наталья Игоревна к концертмейстеру, – продолжим…
И та, кивнув, тронула клавиши.
Нам принесли по чашке кофе, вазочку с печеньем, и это было приятным дополнением к беседе.
Но это было уже в другой раз, когда Акимов наконец-то вернулся в Москву.
– Знаете, – рассказывал он, – в моей жизни тоже не обошлось без приключений. Начать хотя бы с того, что я родился в Вене… да-да, именно там, в первом же послевоенном году, в сорок шестом. Мой отец, он тоже танцовщик, два года гастролировал там с Краснознаменным ансамблем песни и пляски, вместе с мамой. Там я и появился на свет… А много лет спустя, когда Большой театр приехал туда на гастроли, и я уже был солистом его балета, мэрия преподнесла мне букет цветов, очень торжественно, как уроженцу Вены…
Борис Борисович рассмеялся от души и не без удовольствия.
Я же поспешил записать этот любопытный факт в свой блокнот.
Странно – или, наоборот, в том не было ничего странного, – но, сидя за столом напротив художественного руководителя балетной академии, я вдруг ощутил себя помолодевшим лет эдак на полета.
Будто бы опять переместился в сорок шестой – в тот год, когда в Вене родился Акимов, – а я, первокурсник Литературного института, делал свои первые шаги в журналистике, имея на руках удостоверение внештатного корреспондента газеты «Московский комсомолец».
Еще не забылся навык: раскрытый блокнот, легкий карандаш, не слишком мучительные для собеседника вопросы, далекие от исповедальности ответы.
Это было совсем иным делом, нежели писательский надрывный труд.
Прежде всего потому, что там – в окаянной прозе, к которой ты будто бы приговорен. – всё лично выстрадано, выношено в сердце годами и десятилетиями, окроплено слезами, а уж после.
Здесь же не было нужды самого себя приносить в жертву.
Я был здесь всего лишь гостем. Гостем в балетной академии. Гостем в собственной молодости.
Вдруг вспомнилась фраза из этюда еще одной моей студентки-первокурсницы, объяснявшей, почему предпочла занятия литературой своим недавним опытам в газетном ремесле: «Журналисты пишут о чужих людях, а писатели – о родных». Сколько в этом восхитительной наивности, но, вместе с тем, как точно сказано!
Мои же нынешние ощущения как бы сопрягали одно с другим.
Да, я чувствовал себя журналистом, даже репортером, пытающимся с чужих слов нарисовать портрет человека, которого никогда в жизни не видел, и лишь совсем недавно – вот только что! – узнал о его существовании.
Но этот неведомый человек был мне родным, был частью меня самого, или же я был его частью, или мы вместе были частями, осколками, дребезгами одного целого, теперь уже исчезнувшего. И обрести друг друга – значило воскресить, вернуть того, кто исчез. Хотя бы так, хотя бы отчасти.
Я уже выполнил данное мне поручение: передал Акимову из рук в руки пакет, присланный мне из Лондона, большую фотографию, где он, долгогривый, как дьячок, или же, чтоб современней, как хипарь, стоял рядом с Тамарой Финч, Тамарой Чинаровой, моей сестрой.
И ему, повидимому, передались те же ощущения, что владели мной.
Он покачал головой, улыбнулся:
– Еще молодые: и она, и я… Ведь мы знакомы уже более тридцати лет! В шестьдесят восьмом я впервые был на гастролях в Лондоне, а она была нашей переводчицей. С тех пор и дружим. Я бывал у нее дома, в Литтл Болтонсе. Но она никогда не говорила мне о том, что у нее есть брат…
– Да она и не знала об этом. И я не знал. Понимаете…
Я опять завел речь про то, как с детских лет считал своей сестрой Тамару Туманову, и как передал в Беверли Хиллс с композитором Дмитрием Тёмкиным ее детские фотографии, а она, ответно, передала свой взрослый портрет в лебединых перьях Одетты-Одиллии, уже в расцвете своей сценической и экранной славы, с дарственной надписью, но почему-то ни словом не обмолвилась о том, что эта девочка на снимках – вовсе не она…
Рассказывая, я пристально наблюдал за выражением лица своего собеседника.
Ведь теперь-то я уже знал, что Тамара Туманова – это очень громкое имя в искусстве, в балете, а Тамара Чинарова, Тамара Финч – это не самое громкое имя.
Именно так объясняла диспозицию моя сестра в одной из первых наших бесед. Может быть, она не исключала и того, что я намеренно клеился в братья к более знаменитой балерине.
Однако лицо Бориса Акимова, покуда я вел свой рассказ, оставалось до странности безучастным.
– Знаете, – сказал он потом, наклонясь ко мне и почему-то понизив голос, – я никогда ничего не знал, не имел понятия ни о какой Тамаре Тумановой. Ведь в Советском Союзе не больно-то распространялись о звездах русской эмиграции, их попросту замалчивали, будто их и не было…
Я торопливо записывал эту речь в свой репортерский блокнот, переплетенный в синюю кожу.
– Знаете, от кого я впервые услышал имя Тумановой? – он поднял палец, взывая к моему вниманию, чтобы я тоже услышал то, что когда-то услышал он. – От Тамары Финч! Это она рассказала мне о своих подругах по балетной студии в Париже: о Тамаре Тумановой, об Ирине Бароновой, о Татьяне Рябушинской. Все эти имена я впервые слышал от нее. И она ведь об этом не только рассказывала своим друзьям – она публиковала статьи в журналах, выступала с докладами…
(Когда я перескажу Тамаре по телефону этот разговор с Акимовым, она откликнется не без горечи: «Ну, и кому теперь всё это нужно?»).
А он продолжал:
– Потом, правда, все лишь об этом и судачили: ах, Анна Павлова, ах, Тамара Карсавина, ах, Нижинский, ах-ах! Как обычно у нас: будто бы до этого ничего своего и не было… Разные ловкачи стали лепить один за другим спектакли с лейблами: хореография Дягилева, Баланчина, реконструкция постановки Фокина. И везли их показывать всему свету!.. А кто открыл, что это сплошная липа? Тамара Финч. Ведь она, может быть, последний человек, который своими глазами видел балеты Фокина, Дягилева. Она не только видела, но и сама танцевала в них – еще девочкой…
(«Ну, и кому теперь всё это нужно?»).
Не скрою, что мне было очень лестно слышать всё это в стенах Академии хореографии.
Хотя я и был здесь всего лишь репортером.
Кофе было выпито, печенье я срубал до крошки, очень вкусно.
– Теперь в класс? – предложил Борис Борисович.
– Да, конечно.
И опять, теперь уже с Акимовым, я шел по этим коридорам.
У дверей, на ковровых дорожках, отдыхали девочки из младших классов. Они отдыхали так, как их учили: растянувшись в шпагате, оперев голову на кулачки, а локти об пол.
Мы на ходу переступали через эти распростертые детские ноги.
Навстречу топала кроха, держа подле уха мобильник. Вся в слезах и соплях, она излагала кому-то, маме или бабушке, самую вечную и самую печальную тему жизни в искусстве: про то, как ее не поняли, про то, как ее обидели ни за что, ни про что, а просто из зависти к таланту…
Акимов замедлил шаг у стенда, на котором, под стеклом, красовались фотографии самых прославленных выпускников балетного училища: их роли разных лет, сцены из знаменитых спектаклей.
– Вот я… здесь – в «Поручике Киже», а здесь – в «Спартаке», вместе с Сашей Годуновым. Вы, кажется, были знакомы с ним? Да, вы говорили… А мы с ним танцевали в «Спартаке»: он – Спартак, я – Красс… В семьдесят девятом мы вместе были в Нью-Йорке. Там он и исчез. Честно говоря, он собирался сделать это еще раньше, в Лос-Анжелесе, но его отговорила Майя Михайловна Плисецкая: он был ее партнером в балете Щедрина «Кармен». Представляете, она могла остаться без партнера!..
Я старался запомнить его рассказ, не упустить ни детали, ведь было бы нелепо и трудно на ходу записывать каждое слово в блокнот.
– Да, пил он страшно. Валялся на тротуарах даже там, в Нью-Йорке, а фоторепортеры слетались, как вороньё, снимали это на пленку. Ребята из балета торопились засунуть его в автобус… Но как же он был талантлив! Жаль парня.
Мы опять были в классе Натальи Игоревны Ревич, в ее младшем классе.
Шла обычная репетиция. И-и раз, и-и два…
Я уже узнавал этих девочек, сопрягал знакомые лица с запомнившимися именами: вон та, круглоголовая, с упрямым лбом, двужильная, работящая – ее зовут Дашей; а ту, что рядом с нею, сразу отличишь: волосы в мелкий завиток, кожа лица и рук шафранового оттенка, мулатка, фамилия экзотическая, но имя русское, теперь почти забытое – Липа…
Я вдруг вспомнил уморительный эпизод из воспоминаний моей сестры о подруге, о Тамаре Тумановой, – и наклонился к уху Акимова, чтобы вкратце его пересказать.
Дело было еще в тридцатых, когда парижский «беби-балет» гастролировал в Америке.
Во втором акте «Фантастической симфонии» Берлиоза, переложенной для танца Леонидом Мясиным, юный партнер Тамары Чинаровой, новичок в спектакле, перепутал двух Тамар – ведь они были похожи, как близняшки, – подхватил на руки и понес за кулисы, вместо нее, Тамару Туманову. А тут зазвучала музыка па де-де, и Мясин вдруг обнаружил, что партнерши нет на сцене, на лице его отобразился ужас… Юная Тамара Чинарова, спасая положение, протянула к нему руки в любовном жесте и поплыла назад, к кулисам, чтобы там поменяться ролью с подругой. А там мамаша Туманова колотила по мордасе оплошавшего парня, крича: «Отпусти мою дочь!»
Борис Акимов беззвучно трясся от смеха.
И тут меня осенило.
Вот сейчас возьму и спрошу преподавательницу: «А в вашем классе есть хотя бы одна Тамара?» Она подумает, ответит: «Нет. Ни одной. Всё больше Насти, Даши, Оли…»
Ну да, это я знаю, ведь и у меня в литинститутском семинаре – сплошные Насти, Оли… Как жаль, что вышло из моды столь популярное некогда имя – Тамара, берущее начало от библейской Фамари, от грузинской царицы Тамары, означающее пальму.
Но уместны ли здесь эти репортерские штучки, эти маленькие провокации?
– Наталья Игоревна, а в вашем классе есть хотя бы одна Тамара?
Она обвела взглядом своих учениц, стоявших вдоль стен, ответила:
– Есть.
Подошла к девочке, стоявшей у самой двери – к девочке лет одиннадцати, с густыми черными бровями, отчеркнувшими белый лоб, с карими глазами, глядящими сейчас на меня исподлобья, настороженно: чего тебе от меня надо, дед?..
Наталья Игоревна коснулась ее плеча.
– Вот – Тамара.
Была ли она похожа на ту Тамару, которую я со своих детских лет знал по фотографиям в семейном альбоме – примерно того же возраста, в тренировочном балетном трико, на ту, что была моей сестрой? Не она ли это?
А может быть, это – другая Тамара, та, которая, пожалев меня, пощадив мои надежды, не раскрыла ошибки?..
Я спросил на всякий случай:
– Как твоя фамилия?
Она назвалась глухо. Это была известная горская фамилия. Настолько известная, что указывала даже место рождения.
– Ты из Северной Осетии?
– Да.
Я запнулся, не решаясь выговорить название города, только что потрясшее весь мир.
– Ты оттуда?
– Да…
Кивнув, я пошел к своему месту на скамье, сел рядом с Акимовым. Он молчал, не спеша возвращаться к прерванной беседе.
Наталья Игоревна продолжила урок.
Я смотрел на маленьких балерин, опять повернувшихся к поручням станка, легко вознесших ноги на брус, поднявших руки в округлом жесте.
Внезапно я ощутил виток головокружения, того, что означает скачок артериального давления либо предвестье магнитной бури.
Или же это был возврат чудовищного видения, которое возникло на экранах телевизоров несколько дней назад.
Это было ясным утром, когда повсюду заливались звонки: и здесь, в окнах Хореографической академии, и в зеленом дворике Литинститута на Тверском бульваре, и в сотне школ окрест, и в тысячах школ по всей России, и в горном Беслане, откуда была родом эта густобровая осетинская девочка.
Косматые злодеи в пятнистых комбинезонах, с автоматами, сгоняли всех в школьный спортивный зал с такими же окнами во всю стену, как здесь: и первоклашек в бантах, с букетами цветов в ручонках; и старшеклассников, неловко обминающих взрослые костюмы; и заневестившихся девушек; и их родителей в растроганных слезах; и их учителей, раз в год гордящихся своей профессией…
Их всех расшвыривали по углам, их били прямо на глазах остальных, их уводили в подвал, их заставляли мочиться под себя и пить мочу в безумной жажде.
Потом разорвалась бомба, заложенная в сетку баскетбольного щита.
И будто бы заждавшись этого взрыва, со всех сторон полетели в окна пули, гранаты, снаряды, пронзающие насквозь всё живое, сжигающие дотла даже смрадный воздух людской кишени.
На них, рыча, зверея, двигались танки, бронетранспортеры и камеры зажатых между броней телерепортеров.
И весь мир увидел – миг в миг – детей, чудом вырвавшихся их горящего, иссеченного пулями, раздолбанного тротилом школьного здания.
Они бежали по асфальту улиц, по траве городских скверов – нагие, будто ангелы, прикрывая локотками детские груди, изумленно оглядываясь по сторонам, словно бы стараясь понять, на каком они свете – на том, или на этом; они искали глазами своих матерей, а матери, не найдя тех, кого искали, падали замертво, ниц, не согнув колен, на палую листву; а над городом, в сентябрьском небе, плыли, колыхаясь в струях тепла и прохлады, возносясь всё выше, будто воздушные шары, детские чистые души…
Я пытался нашарить в кармане таблетку папазола.
Пассажир «Ионии»
Пароход «Иония» прибыл в Новороссийск из Марселя 1 мая 1926 года – угодил, как на заказ, в самый пролетарский праздник. Хоть встречай с оркестром.
Но пограничный контроль не знает праздников, работает без выходных. При досмотре багажа и личных вещей реэмигранта по фамилии Рекемчук были взяты на заметку: Георгиевский крест 4-й степени; стопка писем; журналистское удостоверение на французском языке; газета – тоже на французском, значит не «Парижский вестник», тот выходил на русском; адрес зубного врача…
Вот и всё богатство.
Изъятий не было. Георгиевский крест вернули владельцу под его расписку.
Позднее этот серебряный крест с лавровым венком, на оранжево-черной ленте, достался мне – единственной памятной реликвией об отце.
У него на руках было рекомендательное письмо советского консула в Париже Отто Христиановича Аусема на имя народного комиссара просвещения Украины товарища Приходько, с которым он свел знакомство еще там, на рю де Гренель.
На всякий случай замечу, что этот нарком – считай, министр – не был родней ни моему деду, ни моей матери, а был просто однофамильцем, может быть даже из другого прихода, ведь эта весьма распространенная украинская фамилия обозначала лишь принадлежность к церковному приходу.
Напутствуя бывшего русского офицера, советуя ему «проехаться в СССР», Отто Христианович Аусем подчеркивал, что «там для вас работы – непочатый край».
Но, повидимому, в этот момент в самом Наркомате просвещения и в его системе не оказалось подходящей либо вакантной должности. И нарком Приходько направил вновь прибывшего реэмигранта из Франции в другой наркомат, а именно – к народному комиссару внутренних дел Украины товарищу Балицкому.
Ведь тогда Харьков был столицей Украины, и все высокие службы республики базировались здесь.
«Тов. Балицкий направил меня к т. Добродицкому, а последний познакомил с тт. Карелиным и Бармисским...» – объяснял впоследствии, в ходе допроса, мой отец.
Все эти приятные знакомства состоялись уже в стенах одной конторы, вобравшей в себя и легендарное революционное Чека, и более позднее ГПУ, и сыск, и разведку, и контрразведку.
Покуда высокое начальство решало, как лучше употребить таланты вновь прибывшего коллеги, посоветовали заняться уже знакомой ему журналистской деятельностью, тем более, что она и была ему всего более по душе.
Так Евсей Тимофеевич Рекемчук очутился в самой кипени местной прессы: он сотрудничал в газетах «Харьковский пролетарий», «Вечернее Радио», «BicTi» («Вести»).
Вероятно, наведываясь в машинописное бюро «Вечернего Радио» с листками только что сочиненного – с пылу, с жару, – забойного текста, он не задавал тут неуместных и грубых вопросов, вроде того, что был задан одним пролетарским поэтом: «А где здесь нужник?» Он был вежлив, внимателен, как и подобает недавнему парижанину. И эта изысканность манер наверняка произвела хорошее впечатление на девушек, работавших в машбюро. Особенно на одну из них – белокурую, тонколицую, с жемчужно-серыми глазами, которая теперь всякий раз встречала его появление улыбкой.
Ее звали Лидией. Ей было чуть-чуть за двадцать. Она еще не была моей мамой, а была прелестной барышней.
Теперь всякий раз, когда Тамара звонила мне из Лондона или я сам звонил ей в Лондон, наш разговор, вслед за «здрасьте», начинался одной и той же актуальной темой.
– Ну, как он мог на вас жениться? – спрашивала она. – Ведь он так любил мою маму, так любил меня!..
– Не знаю, – виноватился я. – Но документы сохранились, они у меня под рукой, там всё в порядке: они расписались 23 ноября 1926 года в городском ЗАГС’е…
– Ну да, ведь у вас это просто: расписались – и все дела. А ведь он в это время приезжал в Париж, к нам! Он ничего не говорил о своей новой семье, о вас… Ведь он был женат. Ну, как он мог на вас жениться?
– Не знаю, – всё более удручался я. – Меня тогда еще и не было на свете…
И вдруг осенило: я нашел неожиданный, но совершенно убийственный довод.
– А он после нас еще раз женился!
– Ну, это проще… – проворчала Тамара.
Однако через несколько недель она позвонила опять. И глухим, но отчасти торжественным тоном сообщила:
– Александр, я целыми днями роюсь в бумагах. Они лежат на полу, я хожу среди них, как по снегу, и они достают мне до колен…
– Кошмар, – искренне посочувствовал я.
– Я нашла мамино заявление о разводе. Оно адресовано румынским властям, ведь мы тогда были подданными Румынии. Там нет даты, но я думаю, что это двадцать шестой год… Александр, я совершенно обалдела! Ведь мама никогда не говорила мне, что она хочет развестись с ним. Никогда, ни слова! Для меня это – такая неожиданность…
– Ну, конечно, – согласился я. – Моя мама тоже никогда ничего мне не говорила. Просто однажды она собрала вещи – и мы уехали из Киева в Харьков…
– Кошмар, – сказала Тамара.
Через несколько дней в Москву, экспресс-почтой, пришел пакет, в котором лежали ветхие, пожелтевшие от времени, но абсолютно внятные бумаги.
Особенно хорошо сохранились почтовые марки, изображавшие румынского короля Кароля в парадном мундире, при орденах, с лентой через плечо, с надменным моноклем в глазнице. Помню, что меня еще в отрочестве, до войны, очень забавляло то, что короля зовут Кароль, как в детской считалке: царь-царевич, король-королевич… Ведь я тогда, как и многие мои сверстники, упоенно собирал почтовые марки, и эти, румынские, с королем Каролем, весьма ценились в нашем кругу. А теперь, когда бесценное сокровище на старых конвертах, присланных из Лондона, оказалось в моих руках, я лишь взгрустнул об убежавшем времени, о том, что уже не играю в эти игры, о том, что уже не мальчик, а старик…
Все присланные Тамарой документы были на румынском языке. Она им не владела, я тем более. И пришлось просить о переводе коллегу по Литературному институту, поэта и прозаика Кирилла Ковальджи, который знал румынский, как родной. Он вырос в Аккермане и посвятил ему свой роман «Лиманские истории». Между прочим, он жил и рос на той самой улице Траяна, где стоял дом Христофора Чинарова, деда Тамары. Да-да, он, Кирилл Ковальджи, хорошо помнил этот дом. И все жители города Аккермана, который назывался тогда по-румынски Четатя Албэ, а теперь называется по-русски Белгород Днестровский, – все они знали этот богатый дом.
Через пару дней Кирилл Ковальджи перегнал мне по факсу готовый перевод.
И я стал вчитываться в эти полустертые – не от старости, а от севшего принтера, – но как будто ожившие заново строки.
Господин Премьер,
Нижеподписавшаяся Анна Христофоровна Рекемчук, урожденная Чинарова, проживающая в Четатя Албэ, улица Траян № 33, учиняю бракоразводный процесс против моего супруга Евсевия Тимофеевича Рекемчука, проживавшего в Четатя Албэ, местонахождение которого в настоящее время не известно, для расторжения брака в пользу истицы.
Мотивы настоящего бракоразводного дела таковы. Мой супруг, Евсевий Рекемчук, проживавший в Четатя Албэ в нашем семейном доме с 1924 года, покинул город, бросил меня и нашего общего ребенка; решаюсь на этот шаг и в результате тяжелых оскорблений.
Наш брак был заключен в Одессе (Россия) 16 июля 1918 года, в результате которого у нас родилась дочь Тамара 18 июля 1919 года в Четатя Албэ.
Нижеподписавшаяся, как и ответчик, не обладаем никаким недвижимым или движимым имуществом. Ответчик никак не заботится о своей семье.
Прошу Вас объявить развод в мою пользу и оставить за мной право одной воспитывать дочь Тамару.
С уважениемПодпись.
Действительно, как это ни странно, на бумаге подобного рода дата не была обозначена. Судя по тексту, Анна могла возбудить дело о разводе еще тогда, в двадцать четвертом, когда он «покинул город, бросил меня и нашего общего ребенка…», – то есть, когда он был вынужден податься в бега, когда уже был выдан ордер на его арест, когда его собирались судить за статью в газете «Вяца нова» о Татарбурнарском восстании. Он бежал, спасаясь от Сигуранцы, от тюрьмы, сначала в Италию, затем во Францию… И она, конечно, обо всем этом знала.
Но годом позже Анна сама отправилась следом за ним в Париж, разругавшись с родителями, прихватив с собою дочь.
Однако и там семейного лада больше не было: «…решаюсь на этот шаг и в результате тяжелых оскорблений».
А вскоре беспутный муж покинул и Францию, уплыл на пароходе «Иония» искать счастья в России.
Они оставались румынскими подданными, эмигрантами. Значит, расторгнуть брак могли только румынские власти. И там с этим делом надо было обращаться вон как высоко – к самому Господину Премьеру, – не то, что в государстве рабочих и крестьян: в ближайший ЗАГС, за углом…
Вероятно, Тамара права: двадцать шестой год.
В анкетах той поры Рекемчук называл свой адрес в Харькове: Конная площадь.
Но это могла быть и Малиновская улица, бочком выходившая к площади.
Вспоминаю теперь, что мама рассказывала, как новый сотрудник газеты «Вечернее Радио» справлялся у нее – не знает ли, где можно снять недорого комнату, а то в гостинице цены кусаются? А в доме на Малиновской, где жила она сама с матерью и братьями, попрежнему было туго с деньгами, жили скудно, на одной лишь зарплате редакционной машинистки, а что это за зарплата?..
Новый жилец произвел хорошее впечатление на Александру Ивановну, маму моей мамы.
Он был прилично одет, в отличие от пишущей шантрапы, увивавшейся вокруг красавицы Лиды, – так ведь это и понятно: только что из Парижа. У него были безукоризненные манеры, в которых, правда, слишком явно угадывались повадки бывшего офицера, а это, прямо скажем, было по нынешним временам небезопасно.
И, как я уже отмечал ранее, Александру Ивановну совершенно умиляло то, что квартирант на дух не выносил водки, пил лишь красное вино – и то, разбавляя его водой, как это принято в Париже.
В доме еще витали тревоги тех лет, когда загулявший глава семейства торжественно возвращался домой во главе вереницы извозчичьих экипажей…
Зоркий глаз Александры Ивановны подметил и другое, не менее важное обстоятельство.
То, что элегантный и серьезный постоялец не остался равнодушным к цветущей прелести дочери, с которой вместе работал, а вечерами чаевничал под семейным абажуром.
Как нежно он взглядывал на нее! Как проникновенны были его речи, обращенные к ней! И за всем этим, помимо обычной влюбленности зрелого тридцатилетнего мужчины в пленяющую юной свежестью двадцатилетнюю девушку, – за всем этим угадывалась еще и отеческая доброта. А еще, быть может, учтенный, закаливший душу опыт прежних увлечений, любовных неудач, ведь он не скрывал, что был женат, что в Париже осталась дочь, фотографии которой всегда был рад показать и любовался сам…
Правда – и это тоже замечала Александра Ивановна, и тем несколько удручалась, – дочь Лида, хотя и была польщена вниманием сослуживца и постояльца, но отнюдь не разделяла его пылкости, оставалась холодна в своих чувствах, а порою даже вздорна.
Так ведь это дело наживное. Стерпится-слюбится, в этом была уверена Александра Ивановна, может быть полагаясь и на свой замужний опыт.
Во всяком случае, она выделяла Евсевия Тимофеевича Рекемчука из несметного круга ухажеров и поклонников, претендентов на руку и на сердце дочери.
Как и у Тамары, у меня были свои находки.
Разбирая после кончины матери старые письма – ее самой и к ней, – я обнаружил несколько страничек, графленных в клеточку, исписанных карандашом.
Господи, как живучи и нетленны эти бесхитростные тетрадные листки, исчерканные ломким грифелем, – в отличие, скажем, от почтенных книжных страниц с россыпью четких шрифтов, виньеток и буквиц, столь явно рассчитанных на вечную жизнь, на неубывающее внимание читающей публики и вовсе не готовых к тому, что по прошествии очень недолгого времени в них никто и не захочет вникнуть!..
Но это, может быть, и справедливо.
Я и раньше видел это письмо, даже пробегал его глазами, но, не найдя в нем ничего существенного, совал обратно в пачку, перевязанную тесьмой.
Причина проста: тогда я еще не писал этой книги и даже не задумывался о ней.
Теперь же старое письмо приковало к себе мой взгляд и мою душу.
Оно тоже не было снабжено датой – ну, какой может быть год, какой месяц, какой день, когда речь идет о любви! – зато обозначено, что после пяти утра…
Вероятно, его следует датировать промежутком времени между 1 мая 1926 года, когда мой отец прибыл в Россию на пароходе «Иония», и 23 ноября того же года, когда мои отец и мать стали мужем и женой.
Он с нею еще на «вы»: «…Но Вы ушли», «…не думал Вас обидеть». В любовном письме он называет ее по имени-отчеству: «Лидия Андреевна…», но иногда прибегает и к уменьшительному: «Лидишок».
Он не чурается исповеди: есть строки о былом. Впрочем, пусть заговорит само письмо, я привожу его без изъятий.
Мне трудно было говорить, но, думаю, еще труднее будет написать… Думал я по этому поводу очень много – да и было ведь времени достаточно: как всегда – не спал с 5 часов. Думал-ждал, что Вы заглянете и одним взглядом рассеете всё. Но Вы ушли – умышленно избегая меня.
Не люблю писать замысловатыми фразами – но должен сказать, что особенно сегодня – сердце обливается кровью, ибо вижу, что если не сумею убедить Вас в том, что и не думал Вас обидеть, – то не смогу в дальнейшем быть на Ваших глазах и чувствовать, что причиняю Вам неприятность.
Сейчас, как и тогда, при том злополучном разговоре – думаю прежде всего о Вашем спокойствии и благополучии. Вы это знаете, но думаю, что повторить можно – особенно осознав, как Вас люблю и, поверьте, что лишиться Вас для меня было бы сейчас большим ударом, чем лишиться даже Маки, которую я, знаете, очень люблю; чем сесть в тюрьму, – одним словом с болью и кровью вырвать собственное сердце.
Я Вам уже рассказывал, что после очень уж большого промежутка времени – это было еще в дни моей юности, я тогда любил и был обманут – это первое большое чувство, которое… и которое так глупо и безрассудно комкается.
Лидия Андреевна – природа отличила человека от низших животных, дав ему великую возможность любить, уважать и быть благодарным. Вы знаете, что во мне эти чувства по отношению к Вам так скрепились, так укоренились, я видел очень часто по отношению к себе столько хорошего, незабываемого, что в заключение быть перед Вами виновным, всегда чувствовать, что причинил Вам неприятность – было бы для меня таким горем, которое не только коверкает, но навсегда ломает человеческую жизнь.
Клянусь Вам, Лидишок, что по отношению к Вам чувствую только хорошее, и если даже сказанное мною может быть истолковано как дурное – поверьте, что от души-то моей идет к Вам только светлое, хорошее.
Умоляю Вас, продумайте хорошо всё мною здесь сказанное ~ умея любить, умейте прощать.
Я же был бы несказанно счастлив, если бы наша более чем дружба, ничем не омрачилась и моя мечта – увидеть Вас своей супругой, стала реальной. Говорю – то, что чувствую.
Пусть же записка останется для Вас векселем того неоплатного долга и благодарности, который я чувствую за собой по отношению к Вам.
Ваш Е. Рекемчук.
Стилевые небрежности письма вполне объяснимы любовной лихорадкой и тем ранним часом, когда набрасывался текст, – еще раз повторю: пять утра.
Но я не мог не проникнуться изумлением, читая эти эмоциональные периоды, раздерганные на запятых, на черточках тире, – я уловил в них что-то очень знакомое, а что – не возьму в толк…






