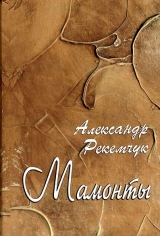
Текст книги "Мамонты"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц)
День рождения
Но за всем этим не оставалось и часа на то, ради чего, собственно, я и поехал в Одессу.
Я никогда, если не считать младенческих лет, не бывал в родном городе.
Это, конечно, выглядит странно, если учесть, что я гостил бессчетно во многих других городах, скажем, в столь близком отсюда курортном Коктебеле, где отдыхал с семьей почти каждое лето; или в северном городе Сыктывкаре, куда наведывался охотно при любой возникшей оказии; или даже на краю света в Улан-Баторе, о котором уже была и еще будет речь.
Но путь в Одессу мне был как бы заказан.
Объяснить ли это недосугом? Или безденежьем? Или потаенное, глубоко запрятанное в подсознании «табу» мешало мне осуществить такое путешествие раньше, да и, замечу, впоследствии – не знаю.
Книга, за которую я взялся нынче, и должна всё это объяснить. В том числе и мне самому.
То и дело сверяясь с путеводителем, едва взглядывая на классические колоннады и нарядные барочные портики прекрасных зданий, на поредевшие кроны платанов, – мы с Луизой шли Приморским бульваром.
Адрес я знал со слов матери: Гимназическая, 25.
Не беда, что к этой поре улица сменила название и стала именоваться улицей Иностранной коллегии (в честь революционных подпольных групп, ведших агитацию среди солдат и матросов сил интервенции в годы Гражданской войны). Не беда, что прошло уже сорок лет.
Я узнал эту улицу той особенной памятью души, что живет помимо ума и даже заменяет его.
Налево возвышалось здание старинной каменной кладки, которое прежде и было, вероятно, гимназией, давшей улице название. Теперь же, судя по вывеске у входа, здесь размещался сельскохозяйственный институт.
А напротив, через улицу – то, что принято называть южным двориком: невысокие строения, впритык друг к другу, с открытыми верандами, чердачными надстройками, навесами, столами, скамейками – всё это обступает покоем клочок утоптанной земли. Такие дома, такие дворики можно увидеть в Киеве, Харькове, Полтаве, в южных странах – Болгарии, Румынии, Югославии.
В них, кроме хозяев и хозяйской родни, всегда полно приживал, постояльцев, сменяющихся по мере движения самой жизни.
Тут я и родился 25 декабря 1927 года.
То есть, родился я, как и положено, в родильном доме, где-то на окраине Одессы, но этот неказистый домишко на Гимназической улице и был моим первым домом, родительским кровом, – и я отвешиваю ему запоздалый земной поклон.
Мой старший внук Антон с раннего детства проявлял интерес к высоким материям – философии, эзотерике, оккультизму.
Лет десяти, однажды на прогулке обратился ко мне с вопросом, наверное, мучившим его:
– Дед, я не буду спрашивать тебя, как я родился, я про это всё уже знаю… Ты лучше скажи мне: зачем я родился?
Застигнутый врасплох, я хотел было отделаться шуткой, вроде «чтоб хорошо учиться», но потом, всё же, пустился в рассуждения о человеческом назначении, наблюдая искоса вежливую скуку на лице мальчика.
Тогда, рассердившись на него и на себя, я сказал с несвойственной мне жестокостью:
– Зачем? Но природа не знает целесообразности!
– Ну, это хоть толково. Это хоть понятно, – вздохнул с облегчением внук.
Вряд ли моих родителей заворожила эта дата – двадцать пятое декабря, праздник Рождества Христова по новому стилю.
Они не усмотрели в этом повода перечить нравам безбожного времени. В лучшем случае это их умилило, а то и просто позабавило.
Двухнедельная разница между Юлианским и Григорианским календарем позволяет русским людям в охотку справить Новый год и по-новому, и по-старому.
Однако праздник Рождества православная церковь велит справлять неукоснительно по старому стилю. Так и справляют – седьмого января.
Я же всегда испытывал угрызения совести от того, что угодил со своим днем рождения под самый Новый год: и так у домочадцев хлопот полон рот – нужно закупать снедь и питье для новогоднего стола, бегать по магазинам, стоять в очередях, жарить-парить. А тут на тебе: в канун праздника еще и день рождения, вот уж некстати…
Лишь однажды на своем веку я ощутил причастность к величию этого дня.
В декабре 1972 года я оказался в Бейруте.
Вместе с таджикским поэтом Мумином Каноатом и переводчиком Владленом Чесноковым мы уже побывали в Алжире и Тунисе, где наводили контакты с арабскими писателями, а в ливанской столице нам предстояло участвовать в открытии Магазина советской книги.
Это было частью программы празднования 50-летия СССР (уточню: не очередной годовщины Октябрьской революции, а именно пятидесятилетия провозглашения Советского Союза – этой дате придавалось исключительное значение, и не только в родном отечестве, но и во всех странах мира раскручивались торжественные мероприятия).
Однако, как водится, техника подвела. К назначенному сроку оборудование магазина не было завершено, хотя занимались этим делом не русские и даже не ливанские умельцы, а итальянцы.
Пришлось дожидаться, покуда вобьют последний гвоздь и расставят на полках товар.
Но мы, конечно, не томились от безделья, от скуки.
К тому же чрезвычайным и полномочным послом СССР в Ливане был Сарвар Алимжанович Азимов, узбекский прозаик, отнюдь не гнушавшийся своей принадлежностью к писательской братии, а наоборот, с подчеркнутым уважением относившийся к коллегам по перу.
Нас возили к развалинам Баальбека, где в античных пропилеях гулкое эхо взывало к сообразности речей. А тысячетонные плиты Баальбекской платформы заставляли размышлять не столько о том, откуда они, эти плиты, взялись, сколько о том, откуда взялись мы, люди-человеки, на безгрешной до нас земле.
Мы бродили в толчее восточных базаров Бейрута, дивясь пестроте товара, разноликости торговцев, разноязычию торга, где наперебой звучала арабская, армянская, курдская, греческая, французская речь – и вдруг возникала догадка о том, что и до нашей северной разноплеменной державы, празднующей ныне свой полувековой юбилей, существовали ее древние подобия, причем они жили веками, меняя свои названия, уклады, символы веры, обычаи и законы.
Именно здесь, на выжженных солнцем нагорьях: Финикия, Вавилон, империя Александра Македонского, Эллада, Золотой Рим, Византия, Халифат, княжества Креста Господня, империя Османов…
Однажды ночью, гуляя по Хамре, мы встретили знаменитого иракского поэта Мухаммеда Махди Аль Джавахири, коротающего в Бейруте свою политическую эмиграцию.
И на следующий вечер в ресторане «Альказар», где нам приготовили трапезу ливанские писатели, произошло незабываемое: молодой и красивый, как восточный витязь, Мумин Каноат, уступив настойчивым просьбам, поднялся за столом и начал читать на фарси свои стихи, а седовласый старец Аль Джавахири, встав против него, повел синхронный стихотворный перевод на арабском – и мы с Чесноковым, не понимая ни слова (он владел лишь французским), внимали потрясенно музыке персидского стиха, вдохновенному ритму импровизации переводчика.
Пошла последняя декада года, а в книжном магазине еще вовсю стучали молотки.
И Бейрут жил своей обычной жизнью – меж двух огней.
В ночь на 21 декабря из багажника «Опеля», припаркованного в ста шагах от посольства США, шарахнули четыре противотанковые ракеты американского же производства, снеся несколько этажей модерного здания. По сообщениям газет, в машине нашли записку: «За Вьетнам мы будем бить вас везде!»
Украдкой мы ездили смотреть полуразрушенное здание, обращенное к морю.
В лагере палестинских беженцев под Сайдой, который мы посетили, на стене ежевечерне вывешивали фотографии тех, кто накануне ушел на выполнение боевой операции и уже никогда не вернется.
Вокруг нас вились босоногие, с голодными глазами, дети.
Мумин Каноат раздавал им свои последние доллары.
Нам прикололи значки с палестинской символикой и арабской вязью.
«Этот значок я не сниму никогда!» – пылко заявил таджикский поэт.
Но сразу же за воротами лагеря, на пути к кафе, где нам предстояло обедать, машина остановилась: ливанские провожатые весьма настойчиво попросили нас снять эти значки, намекнув, что мы рискуем, не дождавшись десерта, взлететь на воздух вместе с другими ни в чем не повинными посетителями кафе.
На перекрестках ливанской столицы нам то и дело преграждали путь баррикады, сложенные из мешков с песком. За ними, выставив в бойницы дула автоматов, сидели смуглые парни в стальных шлемах: они были готовы встретить огнем и палестинских боевиков, и израильских коммандос.
Из своего окна в отеле «Атлантик» я наблюдал, как истребители «Мираж», подобные стальным наконечникам стрел, оперенных выхлопами, неслись к горизонту, туда, где Южный Ливан, где граница Израиля, где погромыхивали бои, где пахло большой войной.
21 декабря нашу писательскую делегацию принял президент Ливанской республики Сулейман Франжье.
Прием был официальным: у дворца Баабда выстроен караул гвардейцев в синих мундирах с аксельбантами и лихо сдвинутых на бок беретах.
Нас сопровождал посол СССР Сарвар Азимов в парадном, расшитом золотом дипломатическом мундире.
Однако сам президент старался придать встрече не слишком протокольный характер: он был в светлосером фланелевом костюме, мокасинах, шерстяных по сезону носках. Седоголовый, щуплый, очень подвижный. Мы уже знали, что он по рождению горец, христианин-маронит (по конституции Ливана президентский пост всегда занимает представитель христианской общины, а вице-президентом избирается мусульманин).
Сулейман Франжье был подчеркнуто внимателен. Угощая нас кофе, расспрашивал о делах литературных: с кем из ливанских писателей мы успели познакомиться? Есть ли в Советском Союзе авангардистские течения? Мы отвечали, что есть. А Влад Чесноков, переводя, указал на меня пальцем: мол, вот он-то у нас и есть l’Иcrivian d’avant-gard! Президент сделал вид, что очень испуган…
Было ясно, что этот прием на высшем уровне, не запланированный ранее (нам пришлось впопыхах покупать белые рубашки), был знаком уважения того праздника, который предстоял через два дня.
24 декабря, в огромном зале бейрутского центра ЮНЕСКО, вмещавшем четыре тысячи человек, состоялось торжество в честь пятидесятилетия Советского Союза.
Сидя в первых рядах, отведенных для почетных гостей – кроме нас, сюда пожаловала из Москвы целая правительственная делегация, – мы оглядывались на бушующий рукоплесканиями зал, слушали пылкие, страстные речи, видели глаза людей, полные веры и упования. И вот опять – зал поднимается в едином порыве…
Как разительно это отличалось от торжественных церемоний на родине с их откровенной скукой, безразличием, исчерпанностью, со стоглавой гидрой президиумов, тяжеловесными докладами, казенными речами по бумажке, пустыми резолюциями, позвольте на этом, товарищи…
Шли домой пешком.
Был сочельник. К ночи ощущение праздника не тускнело, а нарастало.
Улицы сверкали огнями рождественской иллюминации. Деревья были обвиты гирляндами красных цветов. Зеленые синтетические елки, выставленные на тротуары, были близки очертаниями ливанскому кедру. А белые бороды Санта Клаусов подчеркивали природную смуглость их лиц.
В отдалении от злачной Хамры, запруженной толпами людей, невпроворот забитой автомобилями – маленькая тихая площадь, единственным украшением которой была стоящая торчком мраморная колонна в листьях коринфского ордера. Но это была настоящая античная колонна, и лучшего украшения нельзя было сыскать.
А на высокой скале Нахр-эль-Кальб, поднявшейся над заливом, в свете прожекторов сияла статуя Спасителя, простершего над многоязыким городом руки, благословляя мир, в котором нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, ни вольного, ни раба...
Я нес в себе тихое счастье, какое знал только в раннем детстве.
И засыпая в гостиничном номере, ощущал то же, что и в детстве, радостное предвкушение: а что окажется утром, в час пробуждения, под моей подушкой? Какой подарок? Ах, скорей бы утро…
Ожидания оправдались вполне.
Ни свет, ни заря постучались в дверь.
Открыл, не успев даже спросонья ополоснуть лицо, в семейных трусах до колен.
В дверях стояли Юрий Петрович Зайцев, второй секретарь посольства, и Вячеслав Николаевич Матузов, представитель Совета обществ дружбы. Оба чинные, в шляпах. Они держали в руках плетенную из прутьев корзину, похожую на колыбель, полную благоухающих свежих розовых цветов – честно говоря, я и тогда не знал, и до сих пор не знаю, как они называются.
В цветах была визитная карточка Сарвара Азимова.
– Спасибо, спасибо… – растроганно лепетал я.
– Сарвар Алимжанович ждет вас вечером в посольстве, – сообщил Зайцев. – Он хочет лично поздравить вас с днем рождения и праздником Рождества. Такое удачное совпадение.
– Спасибо, спасибо…
– И еще вот это.
– Спасибо, – я благодарно прижал подарок к груди, а затем убрал бутылку подальше с глаз.
Но дипломаты не уходили, переминаясь с ноги на ногу у двери.
– Сарвар Алимжанович поручил нам распить это вместе с вами, – пояснил Зайцев.
Я взглянул на часы: восемь утра.
– Прямо сейчас?
– Да, – кивнул второй секретарь посольства.
Дипломатическая служба сродни солдатской: приказы не обсуждаются.
– Хорошо, – сказал я. – Вот только штаны надену.
Под самый Новый год мы открыли в Бейруте магазин советской книги.
Из Москвы прислали с оказией несколько пачек только что вышедшей в «Прогрессе» книги «Boys who did a-singing go» (так в переводе на английский называлась моя повесть «Мальчики»). Глянцевый покет-бук был отлично оформлен. Я с удовольствием раздавал автографы.
Однако пора была и восвояси: мы тут основательно загостевались. Не опоздать бы на встречу Нового года! Ничего, успеем…
Шли к самолету по бетонке бейрутского аэропорта.
– Дадим телеграмму с борта: «Покидая ваш гостеприимный Пакистан…», – шутил Мумин Каноат, чуя близость родного дома.
Таджикский поэт и витязь шагал, небрежно набросив на плечо ремень «калаша».
Автомат был игрушечный, гонконгского производства, подарок сыну, – но настолько неотличимый от настоящего, что я до сих пор удивляюсь, что нас тогда – в самый разгар воздушного терроризма, – не пристрелили прямо у трапа.
– «Покидая ваш гостеприимный Пакистан…» – всё хохотал Мумин.
Через час полета, выглянув в иллюминатор, я увидел землю, горы и долы, сплошь – от горизонта до горизонта – устланные белой пеленою снега.
То ли это была Грузия, то ли уже Северный Кавказ.
Почему-то вспомнилось, что когда древним римлянам удалось одолеть Карфаген (а ведь мы всего лишь пару недель назад были там, в тунисском Карфагене), они, сравняв его с землей, усыпали всё пространство солью, чтоб тут уж ничего не взросло…
Так о чем бишь я?
Ах, да: про свой день рождения. Как однажды это совпало не только с Рождеством, но и с другим великим праздником.
Совпало и еще раз, девятнадцать лет спустя.
В тот раз я уже не шастал по заграницам, а тихо сидел дома, перед телевизором, смотрел и слушал прощальную речь человека с родимым пятном на темени: мол, так и так, дорогие сограждане…
После его прощальной речи показали, как в зимнем небе, в роях снежинок, опускается на купол кремлевского дворца, будто продырявленный аэростат, государственный флаг Советского Союза.
Было ли это случайностью, или же совпадение дат таило в себе смысл мистический, но это произошло тоже 25 декабря, в мой день рождения. Невеселый выдался праздник.
После распада Советского Союза и гражданской войны в Таджикистане я потерял из виду Мумина Каноата и больше не встречал в печати его стихов.
Влад Чесноков умер.
Что же касается посла СССР в Ливане Сарвара Азимова, то до меня доходили слухи, что он живет в Ташкенте, работает таксистом.
На разных языках
Между тем, симпозиум в Одессе шел своим чередом. Его тема «Литература для масс и литература для избранных» в газетных статьях и отчетах варьировалась: «…для немногих», «…для элиты».
Я был бы рад сказать, что это не меняло сути.
По-видимому, сама формулировка исходила от наших финских коллег, а их волновали отнюдь не нюансы.
Финны приехали в Одессу со своими тревогами по поводу засилья на книжном рынке западного мира, к которому относилась и Финляндия, суррогатного массового чтива самого дурного пошиба – криминального, эротического, фантастического – буквально сметающего с прилавков не только серьезную современную литературу, но и классику.
По их мнению, это грозило человеческой культуре одичанием.
Жестко обозначила эту проблему в своем выступлении Марья-Леена Миккола.
Двадцатипятилетняя яркая блондинка, будто бы сошедшая живьем с этикетки финского плавленого сырка «Виола», ценимого у нас как закуска, еще в Москве привлекла к себе внимание писателей – и Трифонова, и Гинзбурга, и Оклянского, а тут еще добавились ценители женской красоты из Киева и Одессы. Всех интриговало ее имя, как бы составленное из русской деревенской Марьи и русской же городской Лены. Иным слышался в этом сочетании отзвук имени такой же белокурой богини Мэрилин Монро, оставившей недавно в безутешности сонмы поклонников. Третьих умиляло, как близка ее фамилия хохлацкому Мыколе. А может быть, возбуждали интерес и совсем другие качества.
Все расспрашивали, не участвовала ли она в конкурсе на титул «Мисс Финляндия», вообще выясняли – мисс она или миссис (по-фински «нейти» или «роува»), будто имели намерение жениться, на что получали суровый ответ, что миссис, что роува, что уже, слава богу, замужем.
В меньшей мере дознавались, чту она пишет. Но от консультантов Иностранной комиссии было известно, что Миккола – прозаик, у нее есть книги, сочиняет тексты для политических варьете. Наиболее осведомленные уверяли, что эта финская Мэрилин – коммунистка, другие же остерегающе добавляли: маоистка.
Надобно заметить, что среди финских писателей, приехавших в Одессу, было немало коммунистов либо сочувствующих им людей левой ориентации. Молодого поэта финских кровей, выросшего в Америке, они сами, смеясь, представляли нам как «дитя Карла Маркса и Кока-Колы».
Вообще, в конце шестидесятых и начале семидесятых годов мир заметно припадал на левую ножку.
Повсюду еще ощущалось жженье молодежных бунтов в Соединенных Штатах Америки, студенческих буйств в Латинском квартале Парижа, террора «красных бригад» в Италии и Германии. Кубинские бородачи Фидель Кастро и Че Гевара пленяли воображение юношества.
Во всем этом был отзвук катастрофического толчка китайской «культурной революции», которая, в свою очередь, была отчаянной попыткой воскресить идеи русской большевистской революции…
Возможно, были и мистические причины этого мирового пассионарного беспокойства.
Одни жаждали революций, социализма.
Другим лишь претила буржуазность.
Путешествуя по Финляндии, я наблюдал – в самолетах, поездах, автобусах – длинноволосых юношей и коротко стриженных девушек, уткнувшихся носами в кроваво-красные томики. Это были цитатники Мао-Цзедуна.
В маленьком приполярном городке финский писатель, зазвав меня в гости, показывал достопримечательности своего уютного дома: детскую комнату с койками в два яруса, где к стене был пришлепнут большой плакат с красным знаменем и головою Ленина; затем повел в спальню, где у обширной кровати белого лака стояла такая же белая этажерка, на которой теснились книги в белых глянцевых обложках – дамские романы, love stories; я-то сперва, по простоте души, вообразил, что он хвастает изысканным вкусом хозяйки, выдержавшей спальню сплошь в стиле какого-то Людовика, но по его ехидной улыбке понял, что он показывает мне, какое говно читает супруга писателя…
Именно этим – прорвой бульварщины, хлынувшей взахлеб с книжных страниц и экранов – были озабочены наши коллеги.
Они основательно подготовились к дискуссии. Даже вывесили на доске диаграммы, изображающие борение сил и тенденций.
Мы же несколько иначе понимали и трактовали тему симпозиума.
Юрий Оклянский в своих более поздних книгах «Биография и творчество», «Счастливые неудачники» немало страниц попятил одесской встрече 1970 года.
При этом он опирался на стенограмму дискуссии, которую ему удалось разыскать в архиве.
Я цитирую тексты по Оклянскому, сохраняя пунктуацию.
«Мне кажется, – говорил в Одессе Юрий Трифонов, – суть всей проблемы – элита, массы – заключена в самом факте просвещения. Уровень читателя, интеллектуальный уровень растет… То, что накопила история искусства, то сейчас накапливает – не полностью, разумеется, по уменьшенной модели – средний образованный человек. Так вот, чтобы оценить, к примеру, фильм „Земляничная поляна“… надо иметь накопления. Надо, может быть, знать Библию, Данте, Шекспира, Хемингуэя, Льва Толстого, Кафку, Чехова…»
Характерно, что элитарным, в представлении Трифонова, было лишь искусство творческого эксперимента.
«В России был Велемир Хлебников, – продолжает он. – Поэт для поэтов. Его странная поэзия была и в то время совершенно чужда читателям. Прогресса не произошло за 50 лет. Хлебников массовому читателю не нужен. Заумный язык – все эти „убещуры“ и „гзи-гзи-гзео“ – отвергнуты и погребены на кладбище литературного былья. И, однако, хлебниковская поэзия всё же пришла к массовому читателю – через Маяковского, Асеева и затем Евтушенко, Вознесенского и т. д. То есть то, что делалось сугубо для избранных – а Хлебников и не рассчитывал завоевать читателя, – не пропало даром и не исчезло. Оно присоединилось, влилось».
Столь же решительно Трифонов выводил вообще за рамки разговора тему коммерческой субкультуры.
«Действительно массовая „ширпотребовская“ продукция и пустая, развлекательная, детективная, шпионская и т. д., которая наполняет корзины магазинов, вся эта продукция не имеет отношения к нашему семинару».
Тем не менее, сам Юрий Трифонов чувствовал половинчатость, отвлеченность состоявшейся разговора. Уже возвратившись в Москву, он продолжал обдумывать ход дискуссии, тезисы своего собственного выступления, которым, судя по всему, не был удовлетворен.
Это очевидно из его письма критику Л. И. Левину от 26 октября 1970 года – оно опубликовано много позже в книге А. Шитова «Юрий Трифонов. Хроника жизни и творчества. 1925–1981».
«Дорогой Лев Ильич!
Получил Ваше письмо вчера, вернувшись из Одессы, где происходил симпозиум с участием финских писателей на тему: „Искусство для масс, искусство для элиты“. Мне тоже пришлось произнести монолог на эту тему. Мысль у меня нашлась единственная: о том, что время вносит катастрофическую путаницу. То, что когда-то делалось для элиты, становится со временем достоянием масс, и наоборот. (Примеры: Рабле, Свифт, которые сделались достоянием детского чтения, с другой стороны, художник Пиросмани или протопоп Аввакум). Другие участники симпозиума тоже изощрялись, как могли. Словом, было порядочно болтовни, как обычно на таких мероприятиях…»
Наших финских коллег, повидимому, тоже не устраивала эта отвлеченность, это парение в горних высях. Выражаясь фигурально, разговор шел на разных языках. То есть, общение на симпозиуме и так велось через переводчиков: финнам очень трудно дается русский язык, хотя, по уверениям старика Покровского, именно финская кровь течет в жилах русского народа.
Но здесь речь об ином – о сути.
На одесском симпозиуме одни, по выражению Трифонова, «изощрялись, как могли», другие же пытались вести речь о хлебе насущном в прямом и переносном смысле этих слов.
На правах ближайших соседей, финны были отлично осведомлены о том, что книги русских писателей – да того же Юрия Трифонова, – имеют многомиллионного читателя, достигают самых удаленных уголков страны; что толстые литературные журналы, такие, как «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», издаются неслыханными тиражами; что самый острый дефицит в стране – книги, притом хорошие книги.
Знали они и о том, что эти книги очень сильно влияют на сознание масс, будоражат общество, что иногда это приводит к острым ситуациям, к противоборству писателя с идеологической машиной государства, но в итоге – не государство, а именно писатель остается властителем дум…
А вот они, финны, честные и безусловно прогрессивные писатели своей маленькой страны, лишены этой роли властителей дум, оттеснены от жизни общества и, вообще, их творчество захлестнуто мутным потоком переводной коммерческой дряни, тем самым «ширпотребом», о котором с небрежением говорил Трифонов.
Они – вежливо и ненавязчиво – пытались втолковать нам, что у них с этим делом плохо.
Мы же считали, что если плохо – то это у нас.
У нас нет свободы. Нет хороших джинсов на прилавке. Нет кока-колы. Нету стриптиза. Нету книжек Микки Спилейна. Нету фильмов про Джеймса Бонда…
Фантом коммерческой литературы, как неизменный атрибут «сладкой жизни» за бугром, порой вводил в искушение серьезных и талантливых людей.
В том же семидесятом писательская братия сочувственно следила за аферой, предпринятой Василием Аксеновым, Овидием Горчаковым и Григорием Поженяном.
Они решили составить конкуренцию англичанину Яну Флемингу, автору романов о супершпионе Джеймсе Бонде, знаменитом агенте 007, растиражированных еще и в кинематографической «бондиане».
Причем для этой цели они выбрали не какого-нибудь советского разведчика типа Абеля, а пошли по пути прямого соперничества, дав своему герою имя Джин Грин, прозвище Неприкасаемый, и снабдив его личным номером 014 Центрального разведывательного управления США.
Конечно же, в этой затее был отчетлив момент игры, озорной мистификации, был достаточно обнажен прием литературной пародии и даже, в некоторой степени, присутствовал вызов застойной скукотище.
Они придумали себе коллективный псевдоним – Гривадий Горпожакс, составленный из слогов их уважаемых имен и фамилий. Был он настолько неуклюж и коряв, что однажды, в кругу собутыльников, я, в порыве бескорыстного участия, предложил более звучный вариант – Аксгоржоп. Но его не оценили.
Три стилиста, три веселых друга, подались в «литературные негры».
Роман века приятели сочиняли в Доме творчества на берегу Черного моря, разделив объем задуманной книги на три части – поровну, каждому своя доля.
Василий Аксенов к той поре написал «Коллег», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко» и уже опубликовал в журнале «Юность» сенсационную «Затоваренную бочкотару», на которой зацвела желтым цветом и поплыла к синю морю вся хренотень доморощенного авангардизма.
Наш добрый знакомый Гриша Поженян, волонтер холерного симпозиума в Одессе, как уже сказано выше, являлся автором дюжины поэтических книг, песенных текстов, киносценариев.
Овидий Горчаков был единственным из трех писателей, объединившихся под псевдонимом Горпожакс, кто на самом деле имел отношение к шпионской теме. О нем в писательской среде ходили почтительные легенды, будто бы он родился и вырос за границей (хотя справочник «Кто есть кто» утверждает, что он родился в Одессе), в совершенстве владел иностранными языками и потому в годы второй мировой войны не раз засылался в глубокий тыл противника с целью разведки. Юлиан Семенов называл его реальным прототипом героя своего романа «Майор Вихрь». Собственные книги Горчакова «Далеко по ту сторону фронта», «Он же – капрал Вудсток», да еще высокий польский орден Виртути Милитари, с которым он иногда появлялся на людях, не противоречили легенде.
Все трое не нуждались в заемной славе – их имена и так были на слуху.
Чего они хотели? Заработать бешенные деньги на расхожем чтиве? Но ведь они знали, что в Советском Союзе мошна писателя зависит не от жанра, а от его поста в чиновной иерархии. Я уже рассказывал, что самым богатым писателем у нас был бездарный, как пень, Георгий Марков. Кстати, на него тоже работали литературные «негры».
Нет, тут была именно игра.
Однажды, в веселую минуту, Аксенов поведал мне о том, как создавался «Джин Грин».
«Мы сидели в Ялте, в доме творчества, – рассказывал Василий Аксенов, – жили там вольготно, но и вкалывали на совесть. Как-то прикинули – кто сколько написал. Вышло, что У меня листов пять, я имею в виду авторские листы. У Овидия Горчакова почти десять, молодец. А у Гриши Поженяна – на нуле, ничего. Он целыми днями где-то пропадал, суетился, Но за пишущей машинкой его так и не видели… И когда терпение иссякло, мы с Овидием составили заговор: решили исключить Поженяна из нашего творческого коллектива, убрать его из соавторства за саботаж. Сидим злые, мрачные, пьем пиво и договариваемся, в каких формулировках изложить ему наше решение… Вдруг видим – бежит Гриша домой и тащит полную авоську вяленой воблы. Уму непостижимо, где достал, ведь жуткий дефицит! И тогда мы с Овидием посмотрели друг на друга и, устыдившись самих себя, отвели глаза. Мы поняли, что Гриша Поженян – человек незаменимый в нашем соавторстве…»
Аксенов хохотал, я тоже.
Боевик «Джин Грин – неприкасаемый» Гривадия Горпожакса вышел в свет в издательстве «Молодая гвардия» в 1972 году. Эта книга не приумножила славы своих подлинных авторов. И денег они на ней не заработали.
Но кое-какую нервотрепку она им причинила.
Если Центральному разведывательному управлению США было в высшей мере начхать на злоключения своего агента 014, то, говорят, КГБ проявил нешуточный интерес к деятельности Джина Грина.
Рукопись затребовали из издательства «Молодая гвардия» на Лубянку…
Опыт первопроходцев в стихии коммерческой литературы для широких народных масс позже пригодился другим олухам.
Едва на волне перестройки запахло свободой предпринимательства – первыми на этот запах ринулись книгоиздатели.
Весною 1990 года меня пригласили на книжную ярмарку в Мюнхен. Уточняю: не в Лейпциг, не во Франкфурт-на-Майне, где международные книжные ярмарки проводились искони и где мне случалось бывать раньше, а в Мюнхен.
В том угадывалась некоторая экстренность: западные издатели спешили уяснить обстановку за рухнувшим «железным занавесом», оценить возможности нового потенциального рынка.
Вместе с группой писателей «Апреля» я участвовал в создании Независимого издательства «Пик».
Мы мечтали издавать новинки поэзии и прозы, которые раньше, из-за цензурных препон, не могли пробиться к читателям; хотели выпустить в свет книги русской эмиграции и «самиздата», состоящие под запретом; намеревались дать дорогу публицистике, размышлениям о прошлом, настоящем и будущем страны.
Елена Георгиевна Боннэр передала «Пику» рукопись составленной ею посмертной книги академика Андрея Сахарова «Pro et contra». Была в работе «Исповедь на заданную тему» Бориса Ельцина. Готовились к переизданию в России книги Сергея Довлатова, Александра Зиновьева, Гайто Газданова.
Но всё это еще было покуда на столах редакторов, художников, корректоров, в компьютерах, в пленках…
Ехать в Мюнхен с пустыми руками?
На всякий случай я обежал самые бойкие книжные магазины Москвы и купил несколько книжек, как образцы того, что мы хотели бы издавать.
И еще – образчики того, что мы издавать не будем ни за какие деньги…






