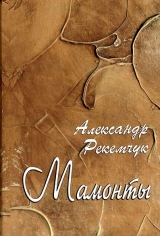
Текст книги "Мамонты"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
Щелкнул рычажок пульта, зажегся свет.
Михаил Ильич жадно затянулся папиросой, курил он нещадно.
Потом спросил:
– Вы читали «Майн Кампф»?
– Нет, – покачал я в ответ головой.
– А я читал! – торжествующе, даже с некоторой гордостью сообщил режиссер.
– Где взяли?.. – кротко осведомился я.
– Я сказал в ЦК, что мне это необходимо для работы, по теме фильма. И мне дали. У них есть. В Спецхране есть и на немецком, и в русском переводе. Я читал на русском.
– Ну и как?
Ромм, уставив очки в пустой экран, где только что были скорбные глаза узников Освенцима, а теперь там уже ничего не было, пустое полотно, прогудел:
– У-у…
Но тотчас встрепенулся, будто сбрасывая тяжесть с плеч, мрачно хохотнул, сказал жестко:
– Обыкновенный фашизм.
Тот эпизод в моем киносценарии, где парень с буржуйской бабочкой на шее, которого зовут Ганс Мюллер, приходит в гости на Журавлевку отведать украинского борща, заканчивался так.
Санька Рымарев, хмуро утерев рот салфеткой, буркнул «спасибо», выбрался из-за стола, направился к двери.
Мама Галя вышла следом.
– Куда ты?
– Гулять.
Наверное, Санька, ждал, что она не разрешит. Что она скажет: «Хватит. Уже нагулялся сегодня», – и отберет кепку.
Но вместо этого, она лишь отвела взгляд в сторону, спросила:
– Может быть, ты хочешь пойти в кино?
Потянулась рукой к карману своего пальто, достала оттуда смятую рублевку.
– Не надо…
Отворив дверь, мальчик с прыжка повис на перилах лестницы и покатился стремительно, минуя этажи.
Уже снизу увидел: она стоит на площадке, согнувшись над пролетом, смотрит ему вослед.
– Ты недолго!
Но Санька ничего не ответил.
Он знал, что за него ответит гулкое лестничное эхо. Оно само переиначит брошенную ею фразу и вернет обратно: «…долго».
Tак было в моем киносценарии.
Еще там следовал долгий проход по городу – в дожде, в непрогляди ранних сумерек – насупленного мальчика, вдруг ощутившего себя лишним. Третьим лишним.
А в жизни всё было иначе.
Через месяц или через два после появления гостя с бабочкой в нашей комнатенке у Рыбной площади, мама сказала:
– Я выхожу замуж. Да, за него, за Ганса… Там есть сложности, ведь у него пока еще нет советского гражданства. Но это решено.
Решено – так решено.
– Вчера я позвонила твоему отцу. Мы договорились, что ты поедешь к нему в Киев.
– Насовсем?
– Нет. Я думаю – на месяц, два. А там посмотрим.
Собраться дело нехитрое.
Мы отправились на вокзал.
Мама посадила меня в жесткое купе, где уже сидело трое посторонних мужиков. Она попросила их присмотреть за мною в пути, дала им рубль, чтобы они не забыли о ее просьбе.
Поцеловала меня, погладила по головке, еще помахала рукою с перрона, – и поезд двинулся.
Мужики раскупорили бутылку водки, облупили себе по яйцу, нарезали хлеба.
Один из них, чтобы развлечь меня, спросил:
– На Кавказе бывал?
– Бывал.
– Шашлык едал? – подмигнул он.
Я смутился и ничего не ответил.
Дело в том, что я на самом деле, несмотря на свой юный возраст, успел побывать и в Крыму, и на Кавказе. В одну из затяжных командировок отца, чтоб нам не киснуть, мама купила билеты на пароход, и мы из Одессы поплыли по Черному морю.
Я повидал Севастополь, Ялту, Медведь-гору, дворец в Ливадии, Ласточкино гнездо на высокой скале. Дохлого ската, похожего на блин с хвостом, который болтался в волнах у причала. Бамбуковую удочку, которая росла прямо из земли, еще в листьях. Потом мы приплыли в Батум – а это был уже настоящий Кавказ, – мама повела меня в Ботанический сад, и там меня сфотографировали сидящим, как турок, поджав под себя ноги, на каменном грибке, – у меня до сих пор хранится эта фотография.
И конечно же, там, на Кавказе, мне довелось попробовать настоящий грузинский шашлык: на железном шампуре, с луком, с перцем, прямо с огня, дымящийся, очень вкусный.
Так что я мог ответить утвердительно и на второй заданный вопрос.
Но мне показалось, что он был задан в какой-то неприличной форме, с подковыркой, – и я не стал на него отвечать.
Я даже пожалел о том, что мама дала деньги этим дуракам за то, чтобы они за мною присматривали – целый рубль! – а они тут водку пьют и говорят глупости.
Я уселся поудобней на краю своей, уже застеленной нижней полки, и стал смотреть в окошко на то, как взмывают и опадают, от столба к столбу, телеграфные провода. Небо уже меркло.
А мои соседи по купе распечатали еще одну бутылку, облупили еще по одному яйцу, и опять взялись меня развлекать.
– На Кавказе бывал?
– Бывал.
– Шашлык едал?
– Спокойной ночи, – сказал я, забираясь под одеяло.
Легенды
Крещатик
Проснулся, услышав, как колеса поезда гулко грохочут над бездной.
Мост, догадался я. Мост над Днепром. Мы подъезжаем.
Почему-то первой заботой было – успею ли побриться? Провел ладонью по щеке, она уколола отросшей за ночь щетиной, седоватой даже наощупь. Ну, ладно, побреюсь в гостинице…
Выглянул в окошко.
Открывшийся глазам пейзаж был знакомым до боли: плавный раскат реки, россыпь куполов Киево-Печерской лавры, круча Владимирской горки с угадываемой статуей и крестом.
Но были и другие приметы, отпугивающие новизной: металлическая радуга, похожая на школьный транспортир; победный монумент среди парковой зелени; а им ведь, поди, тоже немало лет.
Я не был в Киеве полвека.
И мост, которым мы неспешно пересекали Днепр, был мостом из прошлого в настоящее.
Или наоборот: из настоящего в прошлое, это как посмотреть.
Сойдя на перрон, скользнул взглядом по обшивке вагона с четкой надписью – МОЛДОВА, – наш фирменный поезд следовал дальше. И я подумал, что вот, надо бы ехать до самого конца, точней – до самого начала, в те места, откуда родом мой отец, и лишь оттуда двинуться по восходящей.
Но слава богу, что хоть сюда, в Киев, я выбрался в кои веки. А уж туда, в Бессарабию, может статься, я так никогда и не выберусь.
Встречавший меня на вокзале молодой человек из литературно-музыкального театра «Academia», Илья Винник, с хода атаковал вопросами: Юнна Мориц тоже приехала? А Николай Шмелев? А Приставкин?
Я вынужден был огорчить его: увы, никто из них не смог приехать, хотя собирались многие. Ведь это Киев! Ведь это такая счастливая возможность! А Юнна Мориц вообще отсюда родом… Но в последний момент у всех возникли обстоятельства, помешавшие приехать… Скажите, в свою очередь спросил я его, а Городницкий приехал? Да, отвечал он, Городницкий уже здесь… Отлично, подумал я, всё-таки выступать вдвоем лучше, чем одному. Не так страшно. К тому же Александр Городницкий – бард, он поет под гитару свои славные песни, и это куда интересней публике, нежели слушать мои россказни о том, что они уже и так знают, видели по телевизору…
Нас ждет такси, сказал Илья, когда мы выбрались из толчеи на привокзальную площадь.
Добравшись до гостиницы «Москва» (тогда она еще так называлась, а вскоре, в пику москалям, ее переименовали в «Украину»), я закинул чемодан в номер на одиннадцатом этаже и, не мешкая, отправился на Крещатик.
На площади, что в самом центре, увидел палатки пикетчиков, над которыми развевались желто-голубые флаги.
Вспомнилось, что такие же полотнища витали над колонной, которая двигалась через Крымский мост вслед за писательским «Апрелем», несшим транспарант «Фашизм не пройдет!» А сзади топали монархисты с хоругвями. Это была знаменитая миллионная демонстрация в Москве, уже не оставлявшая сомнений в том, что страсти разыгрались не на шутку…
Я с трудом оторвал взгляд от палаток и мятежных флагов на площади, сделав при этом выговор самому себе.
Я сказал самому себе, что если мне не удастся хотя бы на несколько дней, которыми я располагал в Киеве, выключить из сознания всю эту круговерть идущих и назревающих событий – всю эту перестройку, всю эту гласность – то я не смогу сосредоточиться на том главном, ради чего сюда приехал: на прошлом, на образах и деталях давно минувших лет, которые не менее важны для истории и для людей, угодивших в эту историю.
Всё, сказал я самому себе, полная отключка!
Сейчас на дворе не девяностый, а тридцать второй.
Мы только что приехали из Одессы в Киев – еще все вместе, до развода, папа, мама и я, такое счастливое семейство.
Служебная машина отца привезла нас с вокзала на Крещатик – вот сюда, к Пассажу, где нам предстоит жить.
Но прежде, чем мы войдем в затененное каменное ущелье, я увижу – прямо на улице, прямо на свету, под ярким солнцем, средь бела дня – людей, валяющихся на тротуаре в скрюченных позах, в лохмотьях, которые пошевеливал ветер.
«Они пьяные?» – пораженно спрошу я маму. «Нет, они мертвые», – глухо ответит она. «А от чего они умерли?» – спрошу я боязливым шепотом. «От голода», – скажет она.
Отец промолчит.
На Крещатике лежали мертвецы, как десять лет спустя будут лежать на Невском, в блокадном Питере.
А мимо них, стараясь не смотреть, сновали прохожие. Некоторые забегали в Пассаж, делать покупки. Другие спешили на Бессарабку, на рынок, который шумел поблизости. Интуристовские «Линкольны» цвета кофе с молоком выгружали седоков у гостиницы «Континенталь», туристы бежали к подъезду, помахивая фотоаппаратами и сумочками, брезгливо огибая кучи лохмотьев на тротуаре.
Отцу дали квартиру на пятом этаже.
Подъезд выходил во двор, в близлежащий переулок. Туда же был обращен балкон одной из комнат. Соседи рассказали, что недавно с этого балкона жилец, живший тут до нас, бросился вниз, перед тем крикнув дворнику: «Подмети меня!..»
Впечатленный этим не меньше, чем мертвецами на Крещатике, я боялся выходить на балкон.
Предпочитал смотреть на мир из окон другой комнаты, выходивших прямо в торговые ряды Пассажа.
Напротив наших окон тоже были окна – визави, как говорила мама, – там тоже жили люди, и они тоже очень любили смотреть в окна, наблюдая быт соседей напротив. Наверное, это было для всех таким же привычным развлечением, как в наши дни телевизионные сериалы: одни и те же персонажи, типовая интрига, предсказуемые события, неожиданные развязки – вдруг кто-то кинется с балкона…
Квартира понемногу приобретала обжитой вид. Появилась осанистая мебель, книжные полки заполнялись фолиантами, стены украшались живописными полотнами в старинных рамах, в углу столовой нашла себе место большая китайская ваза с павлинами.
Я впервые очутился среди подобной роскоши, если иметь в виду недавний скудный быт на Гимназической улице в Одессе или в лачуге на Малиновской в Харькове, а ведь больше я нигде пока не жил.
Но, вместе с тем, я не думаю, что мой отец к той поре столь уж сильно разбогател.
Об этом можно судить хотя бы по тому, что часть нашей квартиры снимал пожилой американец мистер Браун, который приехал в Советский Союз делать свой бизнес, он жил здесь с дочерью Стеллой, хорошенькой барышней, научившей меня говорить «гуд бай».
Здесь нужно обязательно учитывать, что все профессии и все должности моего отца были крышей для той главной работы, которой он занимался. И можно предположить, что та показная роскошь, в которой мы теперь жили – все эти живописные полотна, фолианты, вазы с павлинами, да и сама квартира в Пассаже, – что они тоже были крышей, своего рода декорацией для его таинственной деятельности во имя пролетарской революции.
В ту пору, как уже было сказано, отец работал директором гостиницы «Континенталь».
И было совершенно естественно – и для тех времен, о которых идет речь, и для нынешних, и, как я полагаю, для будущих, – что семья в своем полном составе ежедневно обедала в гостиничном ресторане.
Уж не знаю, как улаживался вопрос с оплатой счета: то ли отец выкладывал наличные, то ли ему записывали в тетрадку, до получки, то ли кормили бесплатно – просто из уважения к директорской должности.
Не помню и того, чем кормили.
Может быть, память намеренно стерла эти обеденные меню, уловив их кощунственность рядом с телами умерших на Крещатике.
Помню другое.
В вестибюле гостиницы бил фонтан: пенные струи взлетали над горловиной, рассыпаясь хрустальными брызгами.
А на пузырящейся воде, в круглой чаше фонтана, лежали плашмя зеленые листья кувшинок и плавали в воде сами цветки, нежнобелые лилии с сочными стеблями, упоенные обилием влаги.
В большом, как вокзал, ресторанном зале головокружительно высокий потолок сверкал серебром. Он был как бы зеркалом, в котором отражались рожки люстр, белые скатерти столов, разноцветье блюд и бокалов, головы людей – в том числе моя рыжеволосая голова.
Я потянулся к отцу, сидевшему рядом со мной, и спросил: где взяли такую красивую серебряную краску? И почему ее нету в моем ящичке с акварелью, которой я вдохновенно пятнал страницы альбома?
Отец, воздев глаза к потолку, отвечал, что это, наверное, не краска, а обертки с шоколадных конфет, фифцерки, наклеенные на потолок. Вот если с конфеты снять фифцерку и раскатать ее ноготком на гладком столе, так, чтобы исчезли все морщинки, так, чтобы листок засиял, зазвенел, – а потом этот листочек приклеить к потолку, а рядом еще и еще, – но для этого нужно съесть очень много конфет, не сразу, конечно, и не выбросить ни одной обертки, – то вот тогда и будет такая потрясающая красота, такая невиданная роскошь, как в «Континентале», – объяснял мне отец.
При этом он улыбался – может быть, столь зло шутил.
Но я еще очень долго – при нем и уже без него – копил в коробочке разглаженные ногтем серебряные обертки от конфет – увы, не столь уж часто они мне доставались! – и всё мечтал, что когда-нибудь у меня будет собственный дом, а в нем огромный зал с высоченным потолком и, может быть, даже с фонтаном, а в нем, на глади воды, будут плавать зеленые плоские листья кувшинок и белые цветы с сочными стеблями, – а потолок зала я оклею сияющим серебром…
Но потом, в бессчетных переездах, эти серебряные бумажки затерялись и мечта не сбылась.
Что до отцовских шуток, то я полагаю, что он таким образом тешил свой острый парадоксальный ум, свое взрослое тщеславие.
И еще, я думаю, он приучал меня с самого раннего возраста улавливать двойственность мира, в котором нам выпало жить.
Однажды дома он читал газету, а я вертелся рядом, пытаясь привлечь его внимание и, сопоставив буквы на листе разворота, спросил его:
– В «Правде» пишут правду, а в «Известиях» врут?
На что он отвечал:
– Бывает, что и в «Известиях» пишут правду. А бывает, что и в «Правде» врут…
Будучи человеком, причастным к журналистике, он не решался открыть мне, что врут всегда и везде.
В другой раз я пристал к нему с похожим вопросом:
– В цирке – клоуны, а в церкви – покойники?
– Бывают и в церкви клоуны. А бывают и в цирке покойники… – отвечал он.
И я обмирал душой, улавливая сложность окружающего мира.
Однажды мы все втроем – отец, мама и я, ведь тогда мы еще были вместе, – погожим летним днем купались в Днепре.
Наверное, обратно следовало идти тем же пологим, наискосок крутизны, песчаным спуском, которым спускались к воде.
Но отец, измерив взглядом обрыв, как бы просчитав все риски и все выгоды, тоном, не допускающим возражений, приказал: поднимаемся здесь, напрямик, за мной!.. И полез первым.
Ему-то, конечно, хорошо было: высокому, длинноногому, поджарому. Но и то он двигался вверх короткими стежками, зигзагами, иногда цепляясь за ползучие ветви кустарника, – еще метр, еще полметра…
Мама покорно, молча, может быть кляня его сквозь зубы, карабкалась следом.
А мне было всех трудней. Потому что я был тогда совсем еще мал росточком – всего лишь четырех лет отроду, – и, соответственно, эта днепровская круча была для меня куда протяженней, чем для взрослых. И мне, к тому же, была совершенно непонятна цель этого мучительного и жертвенного восхождения.
Сандалии подворачивались, коленки уже были в ссадинах, я цеплялся за гривки кустящейся травы, а трава эта резала пальцы, я пыхтел, изнемогал, надрывался, – молящим взглядом измерял оставшееся до верха расстояние: еще не конец? нет, еще очень далеко до конца… – и, не сдержав отчаяния, разревелся в голос.
Отец мгновенно оказался рядом.
Взял меня за ручонку и потащил вверх, короткими шажками из стороны в сторону – сюда, теперь сюда…
При этом он приговаривал вполголоса:
– Чем хуже, тем лучше.
И опять, уже под кромкой обрыва:
– Чем хуже, тем лучше!
Потом эту фразу припишут Троцкому, будто именно он ее выдумал.
А моего отца, помимо прочего, обвинят в троцкизме.
Гораздо позже это восхождение, запавшее мне в память, дополнится рассказом Веры Павловны Строевой в мосфильмовском кабинете: про то, как в Одессе он ставил меня, годовалого, едва умевшего ходить, на парапет морского пирса, незаметно убирал руки – и я делал шажок по каменному лезвию, еще шажок, – все обмирали от страха, а он приговаривал: пускай учится… мало ли что ему выпадет в жизни!..
Таковы были его уроки.
Вряд ли он хотел, чтобы и я стал шпионом. Ведь он уже знал, сколь горек тот хлеб.
И вот теперь, когда уже и для меня близок конец этого, так сказать, парапета, – и когда уже близок край той днепровской кручи, одолеваемой с самого низу, – когда по прожитым годам я оказался вдвое старше своего отца, – когда уже не я ему гожусь в сыновья, а он мне, – поневоле в голове роятся вопросы того же риторического плана, которыми я донимал его в детстве.
«Послушай, отец… Ведь ты, в отличие от меня, человек умный. Что же тебя толкнуло тогда на этот безумный шаг – вернуться в Россию? Уехать из беспечного Парижа в ополоумевшую большевистскую страну! Зачем ты приехал сюда? На что надеялся? Что искал? Что искали здесь подобные тебе люди,
Ведь ты был не один такой… Тюремную решетку? Пулю в затылок?»
И, отирая стариковские слёзы, слышу ответ.
«Видишь ли, мальчик… Можно и в Париже схлопотать пулю затылок. А можно и в России прожить жизнь беспечно, припеваючи… Правда, нам с тобою это не слишком удалось».
Совершенно секретно
Я поднимался от Крещатика к Владимирской по узким улочкам, спотыкаясь о булыжины старой мостовой, то и дело озираясь, узнавая и не узнавая лики зданий.
Вдруг вспомнил, что именно здесь, где-то здесь, должна быть Костёльная и дом, в котором жил отец в свои последние годы.
Я тоже там жил некоторое время, когда мама, вновь выходя замуж, отослала меня к отцу.
Где же она, Костёльная? Как она теперь называется? То ли Челюскинцев, то ли Папанинцев, то ли Чкалова… Где тот дом?
Шел в раздумьях.
Не скрою, что я долго колебался, прежде чем написать письмо в Комитет госбезопасности.
Я слишком хорошо знал (не понаслышке, а по собственному опыту), чем заканчиваются эти наивные запросы.
Еще совсем молодым пареньком, написал подобное же письмо в обком партии: «Прошу выяснить, где мой отец…» Выясняли месяца два. Всё выяснили. Враг народа. Шпион иностранных разведок. Расстрелян.
Сказали – уже мне: партийный билет на стол, журналистское удостоверение на стол, свободны… пока свободны…
Есть что вспомнить.
Но тогда я был молод.
А теперь возраст диктовал: поторопись, старче!.. Уже поздно откладывать на завтра. Есть ли у тебя в запасе это завтра? Да и есть ли оно вообще?..
События последних месяцев взбудоражили страну. Горластые миллионные демонстрации у самого порога Красной площади в Москве. Палатки пикетчиков, хоругви бандеровцев на главной площади Киева. Танковые гусеницы в Вильнюсе, саперные лопатки в Тбилиси, автоматные очереди в Алма-Ате…
Крутые времена. Чуть что – всё вспыхнет синим пламенем.
И в том мятежном пламени могут сгореть невзначай секретные архивы государственных служб. Останется куча пепла. Вот тогда, уж точно, ничего и никогда не узнаешь.
Я написал.
Председателю
Комитета государственной безопасности СССР
ВЛ. КРЮЧКОВУ
Многоуважаемый Владимир Александрович!
Прошу Вашего указания о предоставлении мне возможности ознакомиться со следственным и судебным делами, делом по реабилитации, а также личным делом и послужным списком моего отца РЕКЕМЧУКА Евсея Тимофеевича, арестованного 4 июля 1937 г., осужденного Постановлением НКВД СССР от 8 октября 1937 г. и реабилитированного (посмертно) Военной Коллегией Верховного Суда СССР 11 июня 1957 г. (копия документа о реабилитации прилагается).
Мой отец работал в системе НКВД и, по рассказам людей, знавших его, был разведчиком. Я допускаю, что некоторые данные его личности и биографии являются «легендой».
В связи с этим прошу сообщить мне уточненные анкетные данные отца: дату и место его рождения; сведения о его родителях; данные об образовании; о его службе в русской армии и пребывании на фронте в период первой мировой войны; о его жизни и работе в эмиграции во Франции; о его первом браке с Чинаровой и рождении дочери – известной на Западе балерины Тамары Тумановой; об обстоятельствах его возвращения в Советский Союз и роде занятий в последний период жизни.
Здесь для меня слишком много загадок, противоречий, несовпадений в хронологии.
Ведь мне было сообщено лишь о том, что отец был «штабс-капитаном царской армии» и «агентом иностранных разведок».
Хотел бы знать – в пределах возможного – о том, что связано с его подлинной деятельностью советского разведчика.
Со слов моей матери Лидии Андреевны ПРИХОДЬКО (умерла в 1984 г.), которая к моменту ареста Е. Т. РЕКЕМЧУКА была с ним в разводе, я знаю, что она дала показания по его делу – хотел бы ознакомиться с ними.
У меня нет ни одной фотографии отца (по словам матери, они были изъяты у нее уже в послевоенное время). Прошу Вас дать мне возможность получить хотя бы копии фотографий, которые имеются в личном деле, в делах, связанных с его арестом.
Я внутренне готов к тем психологическим травмам, с которыми связано ознакомление с этими документами. Но сыновний долг повелевает знать правду, сделать всё возможное, чтобы снять покров безвестности и «легенды» с личности отца.
Насколько мне известно, материалы о моем отце РЕКЕМЧУКЕ Евсее Тимофеевиче находятся в Киевском архиве КГБ.
Я готов выехать туда для ознакомления с документами.
С глубоким уважением – А. РЕКЕМЧУК, член Союза писателей СССР, профессор Литературного института им. Горького.г. Москва29 ноября 1989 г.
Вскоре пришел ответ на бланке Комитета государственной безопасности Украины.
Уважаемый Александр Евсеевич!
Ваше письмо внимательно рассмотрено. Мы готовы ознакомить с интересующими Вас архивными материалами в удобное для Вас время. О приезде в г. Киев просим заблаговременно уведомить нас письмом на имя начальника подразделения КГБ УССР Пшенникова Александра Михайловича (252003, г. Киев, ул. Владимирская, 33). По прибытии в г. Киев обратитесь в Приемную Комитета госбезопасности УССР.
Начальник подразделенияA. M. Пшенников
А тут, до чего кстати, звонок из Киева: литературно-музыкальный театр «Academia» хочет организовать встречу московских писателей с общественностью украинской столицы. Очень интересуется народ: что за такой «Апрель»? Показывали недавно по телеку, как крушила его банда чернорубашечников в зале Центрального дома литераторов… Вот и у нас, в Киеве, есть похожие хлопцы, только рубашки у них другого цвета… Я сказал: приеду.
Хотя и не очень внятно представлял, какая роль отведена мне на сцене театра «Academia». Впрочем, своей сцены у театра не было, арендовали зал Института инженеров гражданской авиации.
Хорошо Саше Городницкому: выйдет к рампе, кивнет гитаристу, тот ударит по струнам, и Саша запоет: «…Православный глянь-ка с берега народ, погляди, как Ванька по морю плывет!» – и уже весь зал подпевает барду.
А я что буду делать?
Серозеленая картонная папка лежала передо мною на столе.
Я развязал тесемки, откинул крышку.
Дело № 693
по обвинению РЕКЕМЧУКА Евсея Тимофеевича
Начато 1 июля 1937 г.
Внезапно, помимо воли, всё мое тело напряглось, как перед прыжком, как перед рывком в побег – не разбирая дороги, не видя цели, петляя, сторожко оглядываясь, хоронясь. Главное – успеть убежать подальше, а еще, главнее главного, не выронить спрятанное второпях за пазухой – вот эту картонную папку…
Полно, одернул я самого себя. Успокойся. Никто за тобою не гонится. Никто и ничего у тебя не отнимет.
Ведь сами же пригласили, прислали письмо, вежливо побеседовали. Сами отвели в чей-то пустой кабинет на первом этаже, сказали, куда обратиться, если возникнут вопросы.
Но то ли от самих стен казенного здания на Владимирской улице исходила особая энергетика (чего только ни повидали, чего ни слыхали эти стены!..), то ли во мне самом пробудился дремавший в генах азарт отчаянного риска, данный далеко не каждому человеку, но уж кому дано – тот и выбирает в жизни эту авантюрную стезю.
Я вдруг почувствовал себя в роли.
В одной из тех ролей, которых вдоволь насмотрелся на киноэкранах еще в раннем детстве – разинутый от восхищения рот, округленные от страха глаза, – да и позже, после войны, все эти забойные боевики про советских шпионов. Павел Кадочников в «Подвиге разведчика», где он играет майора Алексея Федотова, а Федотов выдает себя за немецкого офицера Генриха Эккерта, а прообразом Федотова был настоящий советский разведчик Николай Кузнецов, а сценарий этого фильма написал Михаил Маклярский, сам не только писатель, но и матерый ас разведки – и я был знаком с ним лично, он всегда подчеркнуто благоволил ко мне – вероятно, знал моего отца, либо знал о нем то, что мне вот сейчас предстоит узнать…
А в середине 60-х на советских экранах появился фильм «Кто вы, доктор Зорге?» – о немецком журналисте, работавшем в Японии на нашу разведку. Имя было новым, фильм воспринимался как сенсация. И однажды, когда мы с Верой Павловной Строевой чаевничали в моем мосфильмовском кабинете, она вдруг сказала заговорщицким шепотом: «Зорге был щенок по сравнению с вашим отцом!..» Я не верил собственным ушам – ведь я еще не знал ничего, – и смотрел на нее, озадаченно моргая. А она подняла на меня свои фиалковые глаза, столь неожиданно молодые на обрюзгшем лице – глаза навек влюбленной женщины, – и подтвердила кивком: да-да…
Впрочем, я повторяюсь. Я уже рассказывал об этом. Но это от волнения.
Ведь тогда еще передо мною не было серозеленой картонной папки, тесемки которой я только что развязал…
Ну, а потом были «Семнадцать мгновений весны», был Штирлиц.
Вообще-то я сдержанно отнесся к этой ленте.
Уж слишком ладно, как родные, сидели в этом фильме гестаповские мундиры, эсэсовские фуражки на актерах с хорошими русскими лицами – на Тихонове, Броневом, Табакове, Куравлеве, – не сразу и разберешь, кто свой, а кто чужой, кто на самом деле фашист, а кто лишь переоделся.
Я старался подавить в себе эту отчужденность, стыдную для человека, который сам ведь причастен к высокому искусству. А что-то всё равно настораживало…
Но и я, в конце концов, был покорен этим сериалом.
И сейчас всё это вдруг взыграло во мне.
Я тоже почувствовал себя в схожей ситуации.
Что вот мне случайно – то есть с превеликим трудом, смертельным риском, – досталась совершенно секретная архивная папка, серозеленая, как сукно вермахтовской шинели. И у меня в запасе есть всего лишь несколько минут, каких-то семнадцать мгновений на то, чтобы всё переворошить, прочесть торопливым взглядом, запечатлеть в памяти, как на пленке шпионской микроскопической фотокамеры – щелк, щелк, – или, выражаясь уже языком компьютерного века, моментально отсканировать эти архивные листы, один за другим – чик, чик, – всё сложить обратно, как было, запереть в бронированном сейфе – на ключ, на код, – тенью выскользнуть за дверь, унося ноги, унося тайну…
Конечно, в реальности эта процедура была бы не столь картинной.
И, всё же, я сознавал, что сперва нужно всё перелопатить в темпе – страницу за страницей, от начала до конца, – прикинуть полный объем информации, вычленить главное, не упустить деталей, а уж потом – блокнот и ручка…
Всему этому отнюдь не помогало волнение, сжимавшее горло.
Нач. ИНО ГПУ
тов. ТРИЛИССЕРУ
По рекомендации тов. Аусема, к нам явился приехавший из Франции РЕКЕМЧУК Евсевий Тимофеевич, использовавшийся тов. Аусемом в Париже. Кроме того Рекемчук сотрудничал в «Парижском вестнике» под псевдонимом «Иванов». Так как Рекемчук является румынским подданным и имеет обширные связи в политических кругах Румынии, мы намереваемся использовать его по закордонной работе в Румынии.
При этом просим срочно проверить и сообщить нам данные, как о личности РЕКЕМЧУКА, так и о его деятельности в Париже…
Будучи в Румынии, РЕКЕМЧУК сумеет периодически выезжать в Константинополь, Прагу и Вену…
Как интересно! Нужно будет вернуться к этому документу. А пока…
По коридору приближались шаги. Нет, они не проследовали мимо, а задержались как раз у двери кабинета – в щели под дверью отчетливо обозначились две тени. Они были нерешительны, топтались на месте, будто бы раздумывая… ноги раздумывали? но так это выглядело…
Сейчас ключ полезет в ячейку. Я, замерев, следил за тенями.
Рука, как бы сама собой, потянулась к карману. Но, потоптавшись еще несколько секунд, ноги вдруг двинулись в ту сторону, откуда пришли. Световая полоска под дверью очистилась.
Я облегченно вздохнул. Щелк, щелк… Перевернул страницу.
С анкетного листа, из квадратика, похожего на окошко тюремной двери, куда суют миску с баландой, на меня смотрел отец.
Я узнал это лицо, хотя не видел его с детских лет – с той самой поры, когда приезжал к нему на побывку в Киев. И даже на фотографиях не видел позже, ведь они пропали, сгинули, все до одной, как сгинул он сам.
Однажды подросший сын Андрей спросил меня:
– Папа, а как он выглядел – твой отец, мой дед? Вот я ношу его фамилию, но даже не знаю, каким он был… прадеда на фотке видел, а деда нет.
Я напрягся, пытаясь вспомнить, но лишь беспомощно развел руками.
– Ну, хоть примерно… на кого, скажем, из киноактеров он был похож?
– На Алена Делона, – сказал я.
Мальчик расхохотался.
Я взглянул на него удивленно, даже обиженно. Что тут смешного?
Он поспешил объяснить:
– Есть такой анекдот: «Папа, тебе никто не говорил, что ты похож на Алена Делона?» – «Нет». – «Меня это не удивляет…»
Я подхихикнул вежливо.
Теперь я всматривался в лицо, появившееся в квадратике анкетного листа, как в окошке тюремной камеры.
Он был острижен наголо. Исчезли темные пряди волос, смягчавшие абрис головы, исчезли интеллигентные залысины, уши стояли торчком, острые, как у меня – хоть в чем-то я на него похож, – и карие глаза, обычно хранившие в глубине усмешку, тут были остры, колючи. Они отнюдь не просили пощады, но и не сулили ее никому… Решительно сжатые губы.
Он был в белой рубашке, в каких выводят на эшафот. Почти на всех фотографиях, какие остались – я увижу их позже, – и на той, где он фехтует со мною на рапирах в одесском дворике, – он всегда в белоснежной рубашке. Может быть, как боевой офицер, он не терпел пиджаков…
Так что же – он и взаправду на этой фотографии сидит за решеткой, в камере смертников?
Нет, это – еще тридцатый год. Он готовится к очередной ходке за кордон. Очередной псевдоним: на сей раз – Сергей Владимирович Раковицкий… а были еще Киреев, Миртов, Анри Дюран, Гайяр, Васильев, Стась…






