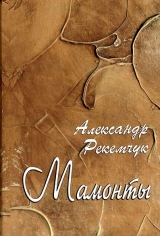
Текст книги "Мамонты"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
Волны
В иные дни, когда отец был занят на службе (вероятно, на той другой службе, которая была не в музее, а где-то еще), я оставался на попечении Лидии Михайловны, его новой жены.
Как уже было сказано, она работала в Киевской филармонии.
И если б она хоть раз взяла меня с собою в филармонию, мой рассказ мог бы чрезвычайно обогатиться. Ведь помимо музейных залов, живописных полотен, бронзовых статуй, я мог бы описать поющий хор, рулады арф и флейт в репетиционном зале, настройку органных труб, возвещающих конец света…
Но ничего подобного я не слышал.
Лидия Михайловна ни разу не водила меня в свою филармонию. Может быть, у нее как раз в это время был отпуск.
Зато в один прекрасный день она повела меня в гости к знакомому театральному художнику, в его студию у Владимирского спуска.
Студия располагалась в подвале, гулком, как пещера, с нависающим низким потолком. Там стояла тахта, к приходу гостей небрежно застланная клетчатым пледом. Рядом был шкафчик, дверцы которого распахнуты настежь, а на полках теснились бутылки, кувшины. На стенах висели глиняные тарелки, расписанные так и сяк.
Сам художник был кудряв и молод. Молод настолько, что попросил меня пренебречь отчеством и называть его запросто Володей.
Он повел меня в угол своей студии, где на рабочем столе расположилось нечто, сразу заворожившее мой взгляд.
Это был макет театральной сцены. Сама сценическая площадка, тёмнокрасный бархатный занавес, раздвигающийся в стороны по натянутой проволочке, оркестровая яма, кулисы, задник, – всё как настоящее.
Мало того. На сцене уже были смонтированы декорации спектакля, какой-то волшебной сказки, действие которой происходило у самого синего моря. Вполне возможно, что это была «Сказка о царе Салтане» или что-нибудь в этом роде.
За кромкою берега, застроенного по бокам теремами и хоромами, простиралось море.
Округлые барашки волн, темносиние снаружи, зеленые внутри, облитые сверху пеной. Буруны, ряд за рядом, уходили в даль, к горизонту, смыкаясь с небом, по которому неспешно плыли кучевые белые облака, похожие на сливочное мороженое.
Это была сказочная красота!
Я смотрел, не дыша, не в силах отвести глаза.
Но оказалось, что у этой сказки есть продолжение.
Володя показал мне крошечный рычажок сбоку, прикрытый складками занавеса, очень похожий на ручку, которой заводят игрушечные автомобили.
– Крутани-ка! – сказал он.
Я не смел прикоснуться.
Тогда он сам взял эту ручку двумя пальцами и начал вращать – медленно, торжественно.
Море ожило. Волны двинулись к берегу, гряда за грядой, вал за валом. Белая пена выметывалась из глубин, перекатывалась по гребню воды и как бы передавалась другой волне, той, что впереди, а сзади уже шли другие пенные барашки. Волны прибоя накатывали на берег, выплескивались и уходили обратно, в глубины, в бездны…
Я не верил своим глазам. Не верил, что такое действо можно разыграть вручную, двумя пальцами.
– Крути!.. – снова поощрил меня Володя и возложил мою ручонку на хитрый рычажок.
Едва справляясь с волнением, я начал крутить.
Море взыграло того пуще. Вал за валом, убыстряя бег, покатился к берегу. Хлябь неслась навстречу тверди, сокрушая скалистый берег, откатываясь вспять, вновь набирая силу. Мне казалось, что я даже слышу плеск соленой купели, шорох прибрежной гальки, встревоженной прибоем, гулкие удары волн…
– Ну, давай.
Володя потрепал меня по плечику и оставил одного перед лицом стихий.
Сам же отошел к тахте, прикрытой клетчатым пледом, на которой уже восседала Лидия Михайловна, присоединился к ней, заговорил о чем-то, мне не слышно.
Да и не было у меня к ним никакого интереса.
Я был весь без остатка поглощен доверенным мне занятием.
Мальчик, родившийся у моря, оторванный от него обстоятельствами жизни, – я ликовал всей душою, был возбужден, счастлив от того, что представилась возможность вновь соприкоснуться с родной стихией и даже на какой-то срок повелевать ею.
Дело в том, что я уже разглядел в щелочку, в деталях, устройство механизма, приводившего в движение морской простор.
Эта крохотная ручка, которую я держал двумя пальцами, вращала лишь одно колесико, надетое на барабан. Но у колесика были зубцы, которые передавали вращение другому колесику, тоже снабженному зубцами, а то третьему, – и вся эта система шестеренок работала, как единый слаженный механизм, приводя в движение все ряды барабанчиков, на которые были надеты чехлы, расписанные в цвет моря, в оттенки морской волны, в пенные гребни.
Я уже догадывался, что такая же слаженная система барабанов и шестеренок, только покрупнее размером, будет сооружена и на настоящей театральной сцене, – и в назначенный миг, когда отзвучит увертюра, когда степенно раздвинется бархатный занавес, – зрители увидят бескрайнее море вплоть до горизонта, по которому, друг за дружкой, катятся пенные волны, ударяясь прибоем в берега… И в этот миг зал взорвется восторженной овацией.
– Тюрик, тебе еще не надоело? – окликнула меня из глубины пещеры Лидия Михайловна. – Может быть, ты отдохнешь?
Я оглянулся мельком.
Она сидела на чужой тахте рядом с художником Володей, держа в руке глиняную чашку, такую же, как расписные глиняные блюда, развешанные по стенам подвала.
– Нет-нет, я не устал, ну, нисколечко! – отозвался я, более всего опасаясь, что меня опять оторвут от моря, от родной стихии, и заставят слушать какие-нибудь скучные взрослые разговоры.
Мне тем более не хотелось отрываться от своего занятия, что я, рассмотрев механизм, приводящий в движение волны моря, вдруг своим несмышленным умом приблизился к пониманию загадки всего окружающего мира.
Как когда-то, в раннем детстве, в Харькове, на Малиновской, я проснулся от скрипа старинных дедовских часов, от их мерного боя – и вдруг понял, что время нельзя остановить, что жизнь конечна, что все умрут, и я тоже умру, и заплакал, сделав это открытие, – так и сейчас я воочию увидел и постиг, что весь окружающий мир – нет, не этот забавный макет, и даже не настоящая сцена театра, – а именно весь мир, вся вселенная, всё, что есть, и всё, чего нет, – что всё это действует примерно таким же способом, когда кто-то вращает гигантскую ручку, огромное колесо, снабженное зубцами, – и что зубцы передают усилие другим подобным же зубцам, а те третьим, – и океан приходит в движение, и хляби несутся навстречу тверди, и планеты вращаются вокруг солнца, а само солнце кружится среди еще более далеких светил, – что именно так устроен мир…
– Тюрик, – снова окликнула меня Лидия Михайловна, – почему бы тебе не пойти погулять?.. Может быть, ты хочешь купить мороженого? Я дам тебе денег…
Вот это уже был другой разговор.
Дело в том, что помимо сыновней любви к морю, я вынес из южного города, в котором родился, из Одессы, особую привязанность к прохладному лакомству. На всю жизнь я запомнил восхитительный вкус земляничного мороженого, которое мы сами, по очереди, крутили столовой ложкой в жестяном жбане, сидя на крыльце дома на Гимназической улице – моя мама, ее младший брат Витя, мой дядя, курсант мореходки, его молодая жена Лиза и, разумеется, я – мне первому давали облизывать эту холодную до рези в зубах ложку…
И белые барашки волн, которые я только что гонял на игрушечном макете, тоже навевали мечты о сливочном мороженом.
Я не мог устоять перед таким соблазном.
– Вот тебе пятьдесят копеек, – говорила Лидия Михайловна, роясь в своей сумочке и доставая оттуда завалящие монетки. – Вот еще десять, еще двадцать… Далеко не ходи. Мороженщица стоит на углу, слева от арки, от подворотни. Ты не заблудишься?..
Я заскакал вверх по ступенькам, которые вели из пещеры на улицу.
Мороженщица и впрямь оказалась совсем близко, рядом с домом, где мы гостевали. У ее ног стоял тяжелый сундук, набитый льдом, из-под которого высовывались крышки жбанов.
В руках она держала две жестяные формочки, на донце которых следовало закладывать круглую вафлю, потом вмазывать туда, ложка за ложкой, тягучее холодное месиво, сверху же прихлопывать другой вафлей: чик, чик – и вот вам угощенье, кушайте на здоровье…
Одна формочка, с ручкой, та, что поменьше, была похожа на ручную гранату. Другая, та, что побольше, походила на противотанковую.
Я справился у мороженщицы – что почем? – пересчитал монетки на ладони и выбрал противотанковую.
Чик, чик – приятного аппетита.
Всяк поймет, что теперь я не спешил возвращаться со своим лакомством в пещеру, в студию, где меня дожидались Лидия Михайловна с художником Володей. Ведь было бы просто неприлично самому, прямо у них на глазах, обжираться взрослой порцией мороженого, не предлагая поделиться, лизнуть хоть разок – ведь я был воспитанный мальчик! Но, вместе с тем, признаюсь честно, у меня не было желания делиться своим сокровищем с кем бы то ни было, я сознавал, что справлюсь с этим делом сам, без посторонних.
Я слизывал кончиком языка прохладную и волшебную сладость, наблюдая за тем, как она подтаивает то с одного бока, то с другого, превращаясь из зернистой плоти в тягучие потеки, как влажнеют хрустящие корочки вафель, которые следовало откусывать по крохам, чтобы они не размякли, чтоб мороженое, боже упаси, не выскользнуло из этих корочек и не плюхнулось наземь, обрызгав башмаки, – ну нет, такого исхода я не мог допустить, и потому, скосив глаза, бдительно следил за своей добычей, вертя ее в пальцах так и сяк, орудуя языком, причмокивая от удовольствия, ощущая, как холодеют ноздри от студеной близости мороженого.
При всех этих заботах, я успевал следить за тем, как живет среди бела дня раздольная улица.
Я стоял на краю тротуара, на гранитном брусе, будто бы на берегу, над зыбью булыжной мостовой, стекающей пузырчатыми волнами к Подолу.
Мимо меня, цокая копытами, рысили мохноногие лошади, битюги, волоча за собою громыхающие телеги, мешки с мукою, бочки с мазутом, стога свежего сена. Проносились велосипеды с отчаянными седоками – туда, в пропасть.
Реже, зато оглушая гудками всё окрест и развешивая в воздухе космы бензиновой гари, проезжали автомобили.
Заслышав приближающийся рев очередного мотора, я напряг внимание и был вознагражден за это.
По спуску мчался грузовик с открытым кузовом, и в те несколько мгновений, что он был у меня на виду, я успел увидеть столь многое, что это запечатлелось в моей памяти на всю жизнь.
В дощатом кузове грузовика, на полном ходу, отплясывали гопак два мужика в военной форме: у одного был задорный кирпатый нос, а у другого над верхней губой торчали в стороны метелки усов… то есть, эти приметы были мне настолько знакомы по праздничным портретам и по газетным страницам, что я никак не мог ошибиться: это были Ворошилов и Буденный, два командарма, сами собой, сами из себя… помню, что я, в те несколько мгновений, покуда грузовик мчался мимо меня, всё же попытался подтвердить свою счастливую догадку по знакам различия в петлицах их форменных гимнастерок: сколько там ромбов? или шпал? или простецких кубарей? – но это оказалось невозможным, потому что грузовик ехал слишком быстро, а они, эти мужики, плясали гопака в его кузове, вертясь как волчки, размахивая руками и вскидывая ноги до горы, ну, как тут разберешь?.. я успел лишь заметить, что один из них, выкидывая коленца, между тем, откинув голову, пил водку прямо из горла бутылки и, отпив глоток, передал эту бутылку своему напарнику… нет, конечно, может быть в этой бутылке была вовсе и не водка, а лишь сельтерская вода, – тут я не могу настаивать, не спорю… но что касается наружности, примет – тут я никак не мог ошибиться, я слишком хорошо знал этот кирпатый нос и эти пышные усы, тут не могло быть ошибки!
Я был в совершенном восторге от того, что увидел, ликовал всей душою, сознавая, как мне повезло, как мне посчастило воочию увидеть то, что другие видели лишь на портретах.
Я уже представлял себе, как нынче вечером, за обедом – мы обедали вечером, – расскажу отцу про то, как видел Ворошилова с Буденным.
Я даже представил себе, как он усмехнется, слушая мои россказни, предполагая, что я всё это выдумал. Почему-то он считал меня выдумщиком, хотя, вместе с тем, мне казалось, что ему это нравится – что я выдумщик.
Но я же видел своими глазами!..
Впрочем, до вечера еще далеко.
А поведать ли мне об этом, о том, что я видел своими глазами – про Ворошилова, про Буденного, – рассказать ли об этом Лидии Михайловне и Володе, вот прямо сейчас, когда я вернусь с улицы в пещеру, в мастерскую?..
И тут меня будто обухом стукнуло по голове.
Я сразу же позабыл и о Ворошилове, и о Буденном, и о съеденном мороженом.
Я вдруг догадался, что меня подло обманули. Что меня только что – лишь полчаса назад – купили за копейки, за мороженое.
Что меня нарочно отвлекли от декораций театральной сказки, от синих волн, от куполов, от теремов на берегу моря. Спровадили из пещеры, с глаз долой.
А сами остались там, вдвоем, и, наконец-то избавясь от меня, сидят у макета и, хохоча, крутят заветный рычажок.
Время обнажило всю бездоказательность моих подозрений.
В архивной папке, в личном деле отца, я обнаружил документ, подписанный начальником Иностранного отдела ГПУ УССР Карелиным и его помощником Самойловым, где говорилось:
«…Следует отметить, что раньше на „Кирееве“ сказывалось отрицательное влияние его бывшей жены, которая любила жить на широкую ногу, склоняя к этому и „Киреева“.
Теперь (после развода) „Киреев“ вновь женился и попал в здоровую семейную обстановку, что окончательно выправляет указанные нами его отрицательные стороны».
Чтоб никто не усомнился в этом, строка «…попал в здоровую семейную обстановку…» подчеркнута синим карандашом, а сбоку, тем же синим, сделана приписка: «Брак зарегистрирован 17.Х. 1933 с Бурштейн Л. М.».
Отказ
С утра пораньше отправился в Кремль.
Именно там в этот зимний день – 3 декабря 1982 года – должен был состояться Объединенный пленум творческих союзов: писатели, композиторы, художники, кинематографисты, все тут.
Официальным поводом для такого почтенного собрания было 60-летие провозглашения СССР (десятью годами раньше столь же светлый праздник я, помнится, справлял в святых местах, в Ливане).
Однако все догадывались, что есть тут и другая важная подоплека.
Только что умер Брежнев, истекло застойное царствование «бровеносца». А перед тем в кремлевской стене замуровали останки сурового партийного идеолога Суслова. К власти пришел Андропов, человек с Лубянки… Что сулят эти новые времена?
Вот и решили устроить проверку: с кем вы, мастера культуры?
Мастера культуры топали к кремлевским воротам от ближайших станций метро: кто с «Охотного ряда», кто с «Библиотеки имени Ленина», а кто прямо из дому – посчастило жить неподалеку.
На ходу обменивались рукопожатиями, кивками.
Вот шествует знаменитый песенник Никита Богословский, автор хватающей за душу «Темной ночи», озорных одесских «Шаланд», он написал песни и к моему фильму «Берега»; а вот живописец Таир Салахов, с которым мы кочевали вместе по монгольским степям; а вот долговязый и надменный, как верблюд, Евгений Евтушенко, с которым мы то ли давние друзья, то ли давние недруги – утешаю себя тем, что это, по сути, одинаково.
Я поднимался к Троицким воротам от нарядной, как кремовый торт, Кутафьей башни – по мосту с зубчатой каменной оградой, перекинутому над голыми верхушками Александровского сада.
Еще издали увидел старушку, божий одуванчик, крохотную ростом, но грузную, поперек себя шире, которая, едва переставляя ноги, карабкалась по брусчатке к державным воротам.
Я не только увидел, но и узнал ее издали, со спины. Еще раз подивился тому единодушию, с каким люди, знававшие ее в младые годы, восхищались не только ее талантом, но и красотою, стройностью, грацией… ах, Верочка! ах, Вера Павловна! ах, Строева!
Я знал ее со своих младенческих лет, с незадавшихся детских проб на Одесской киностудии – она уже и тогда была режиссером. И позже, в пору моих невзгод, связанных с судьбой отца, когда я приехал с Севера и поведал ей, что в Воркуте встретил расконвоированного зэка Каплера, автора «Ленина в Октябре». И еще позже, когда работал на «Мосфильме», и она позвала меня смотреть отснятый материал фильма «Мы – русский народ»…
Я догнал ее. Не окликая, взял под локоток, притиснул к себе, чтобы помочь одолеть этот крутой подъем к арке ворот, к зубчатым стенам, к часовым, отбивающим чечетку на морозце.
Странно – или наоборот, ничего странного в том не было, – но она даже не стала приглядываться, кто это к ней вдруг прилип, явился на подмогу. Даже пренебрегла обычным «здрасьте». Как будто обо мне лишь и думала всю дорогу.
И сразу же, подняв свои фиалковые глаза, продолжила, как ни в чем не бывало, беседу, словно бы начатую только что.
– У вас случайно не сохранился киносценарий «Сигуранция», который мы писали вместе с вашим папой?
Я не стал объяснять ей, что не сохранилось ничего. Что остался лишь Георгиевский крест на оранжево-черной ленте, добытый отцом в бою. Что не осталось даже ни одной его фотографии, вот где бы взять, где найти?..
Еще я, походя, отметил, что она сказала не «Сигуранца», а «Сигуранция», как и он произносил это зловещее слово.
И еще я подумал, что у мамы, наверное, были основания для холодка в тоне, когда она рассказывала мне о том, как вечерами мой отец уединялся где-то с Верой Павловной Строевой, они, видите ли, вместе писали сценарий…
И еще я предположил, что уж если этот затерявшийся киносценарий был посвящен секретам служб, подобных Сигуранце, то уж наверняка у нее, у Веры Павловны, было достаточно оснований сказать мне однажды полушепотом: «Зорге был щенок в сравнении с вашим отцом!..»
Но тут она вдруг остановилась, не дойдя до часовых, опять подняла на меня фиалковые свои глаза, в которых я впервые увидел отчаянную боль. Нет, не боль душевных терзаний, которую все мы, лучше или хуже, научились прятать. А самую что ни на есть натуральную боль сердца, железной хваткой сжимающую сосуды, клапаны, мышцы. Ее рука, помимо воли, тянулась к груди, к области сердца. Она пыталась смягчить этот конфуз улыбкой, но и улыбка была отражением боли…
Я не мог ей ничем помочь. Разве что взвалить на плечо и внести в Кремль? Но это было уж и мне не по годам, не в силу.
Следовало перестоять на месте сердечный приступ, отдышаться, отдохнуть. Ведь у нас в запасе еще было минут двадцать до начала торжественного заседания.
И еще нужно было отвлечь ее от этой боли каким-нибудь сторонним разговором.
У меня как раз была в запасе подходящая тема.
– Вера Павловна, недавно я получил письмо от бывшей жены моего отца…
– От той, которая в Париже? – живо отозвалась она.
– Нет. Не от первой, а от третьей, последней. От той, которая в Красноярске. От Лидии Михайловны Бурштейн… После его ареста она уехала из Киева в Красноярск, и там пересидела войну и всё остальное, она живет там уже много лет, работает на местном телевидении…
– И что же она вам написала?
– В ее письме есть такие строчки: «…Непосредственным поводом к аресту Е.Т. была его поездка в начале 1937 года в Москву, где ему предлагалось задание, от которого он отказался. Будучи в Москве, он был в гостях у Григория Львовича и Веры Павловны, они пили чай, и он им кое-что рассказал…»
Этот текст врезался в мою память столь четко, что я пересказывал его почти дословно.
Более того: я помнил даже почерк этого письма – крупный, торопливый, сдерживаемый лишь слепотою глаз, дрожаньем руки и еще, вполне очевидно, изломанный болью, может быть такой же острой болью стиснутого сердца, как та, что сейчас остановила мою собеседницу на самом подходе к Большому Кремлевскому дворцу.
Мое предположение о нестерпимости боли, отраженной в строках письма из Красноярска, увы, оказалось обоснованным: вскоре мне сообщили, что Лидия Михайловна Бурштейн умерла, там же, в Сибири.
Но я не стал говорить об этом Вере Павловне, ведь сейчас это было б кощунственно – у нее самой сердце разрывалось на части.
И еще я не сказал ей о том, что несколько месяцев назад, когда из Красноярска пришло то самое письмо, и я был впечатлен им крайне – ведь это было намеком именно на то, что я хотел знать! – я, сразу же по получении этого письма, схватил справочник Союза кинематографистов, нашел в нем телефон Рошалей в доме на Большой Полянке, где мне тоже случалось бывать, – набрал номер…
Мне было позарез необходимо задать вопросы, пробужденные письмом из Красноярска.
Я ждал, что трубку возьмет Вера Павловна, поскольку мне было известно – кстати, от нее же самой, – что Григорий Львович Рошаль недавно перенес воспаление легких, и это, как бывает в старости, дало осложнение на голову, он впал в маразм, и потому общение с ним людей посторонних было крайне нежелательно, что его по этой причине даже не подпускают к телефону.
Но, повидимому, Веры Павловны не было дома – может быть, она отлучилась в магазин, – и трубку снял сам Григорий Львович.
– Алло!..
Я сразу узнал этот басовитый, рокочущий ладами, интеллигентский, жуирский голос.
Оторопев от неожиданности, я, не скрою, слегка растерялся. Но ведь я не был совсем уж посторонним. Во всяком случае, я сообразил, что затевать разговор о письме из Красноярска вряд ли следует – ведь голова это голова. Мало ли что он мог намолоть!.. Но тогда о чем же?
– Григорий Львович, – сказал я, – это Рекемчук. Рекемчук младший.
– Очень рад вас слышать, – в самом деле обрадовался он.
– Вы знаете, – сказал я, – несколько дней назад, совсем случайно, я включил телевизор, а там идет ваш фильм «Зори Парижа», который я впервые видел еще в детстве, в Харькове, во Дворце пионеров, кажется, в тридцать шестом…
– В тридцать седьмом, – поправил он.
– И вот теперь, по прошествии стольких лет, – продолжал я, – этот фильм опять взволновал меня до глубины души! Такая экспрессия, такой огонь… Признаться, я даже не думал, что и теперь это может меня завести – Парижская Коммуна, экспроприация фабрик, вселение рабочих в дома буржуазии. Казалось бы…
– А стиль? – польщенно заурчал режиссер. – Вы обратили внимание на стиль? Движение камеры, монтаж? Игра актеров?..
– О, да, – подхватил я.
Мы наговорились всласть.
Всем бы такой маразм.
Но разговор о письме из Красноярска, конечно, был отложен до встречи с Верой Павловной.
И вот теперь я мог задать ей свои вопросы напрямую, без телефона, без риска, что нас слушает кто-то третий, затаившийся на проводе.
К тому же, по лицу Веры Павловны я определил, что передышка помогла, что боль отпустила.
– Вера Павловна, – вернулся я к теме, – вы не помните, о чем тогда шла речь? Когда Рекемчук был у вас в гостях, вы пили чай…
Она покачала головой, и в ее фиалковых глазах, обращенных ко мне, была мольба о прощении.
– Не помню… ведь это было так давно.
– Он не говорил вам о каком-то важном задании, от которого он наотрез отказался? Не исключено, что именно это сыграло в его судьбе роковую роль…
Мы двигались очень медленно, малыми шажками, будто бы учась ходить.
А мимо нас – густея, торопясь к назначенному часу, вожделея занять места поближе к трибуне, к вождям, – всё валил народ.
Нас обгоняли, тоже рука об руку, Сергей Аполлинарьевич Герасимов и Тамара Федоровна Макарова. Он тронул пальцами бобровый с проседью картуз, а она улыбнулась ослепительно и кротко.
Я решил взбодрить память Веры Павловны экранным образом, тем паче, что только что сказанные слова о роли – в актерском, кинематографическом значении, – могли подтолкнуть ее мысль в нужном направлении.
– Вы видели фильм «Убийство Троцкого»? Кажется, итало-мексиканский, а фамилию режиссера я забыл… Там заглавную роль сыграл Ричард Бартон, право же, он очень похож на Льва Давыдовича. А Меркадера – того, который убил его, хватил ледорубом по голове, – его сыграл Ален Делон…
– Нет, к сожалению, я не видела этого фильма, – ответила Вера Павловна, и опять в ее глазах прочлось раскаянье.
Мы остановились у Царь-пушки с ее узорчатым лафетом, зияющим жерлом и горкой чугунных ядер.
– Но я вас поняла.
Я затаил дыхание, отдавая себе отчет в том, что сейчас услышу нечто безмерно важное.
– Нет, – произнесла она твердо. – Нет. Кроме того, если б что-то и было… он никогда не сказал бы об этом. Ни-ког-да!
Что ж, она лучше знала моего отца, нежели я, ведь я был тогда совсем еще маленьким.
Нет так нет.
В парадном подъезде мы предъявили часовым свои мандаты. Они были в полном порядке. Нам отдали честь.
Завидев в сторонке молодого человека в черном костюме, стоявшего будто бы вовсе без дела – его лицо показалось узнаваемым именно своей неприметностью, – я подошел к нему, заговорил вполголоса:
– Здесь одна дама… очень известный кинорежиссер, «Поколение победителей», «Мы – русский народ», всё такое. Она неважно себя чувствует. Ей будет трудно взбираться по лестнице… Нельзя ли для нее вызвать лифт?
– Сделаем, – буднично ответил молодой человек.
– Вообще, – сказал я, – у нее, по-моему, сердечный приступ. Может быть, показать ее врачу? А то вдруг ей станет плохо прямо в зале…
– Сделаем, – сказал молодой человек и направился к Вере Павловне.
Я же, послав ей издали воздушный поцелуй, ринулся к мраморной лестнице, уступами застланной красной ковровой дорожкой. Заскакал через ступеньки.
Едва поспел. Тотчас за моей спиной закрыли дверь, будто только меня и ждали.
Зал уже был на ногах. Все стояли, рукоплеща появившимся откуда-то сбоку сцены – будто бы ниоткуда – седовласым степенным вождям. Занимая свои места в президиуме, они тоже хлопали в ладоши.
Я же, втянув голову в плечи, согнув колени, сгорбясь, как все опоздавшие люди, но тоже рукоплеща на ходу, двигался по красной ковровой дорожке, зыркая налево и направо, выискивая для себя свободное местечко.
А тогда – десятью годами раньше, когда я был в святых местах, в Ливане, – когда мы ждали там, что вот-вот достроят магазин советской книги, который нам предстояло торжественно открыть, – представитель «Международной книги» в Бейруте Василий Васильевич Глуховский (месье Международная Книга, как величали его ливанцы), пригласил нас развлечься.
Убедившись, что мы не рвемся смотреть секс-шоу, и рассказав с усмешкой о недавних советских визитерах, которые тоже не захотели смотреть голых баб, но потребовали выдать им стоимость этого зрелища сухим пайком, то есть деньгами, Глуховский повел нас в фешенебельный кинотеатр «Пикадилли» на премьеру итало-мексиканского фильма «Убийство Троцкого».
Вначале на экране появился Никита Сергеевич Хрущев, колотящий ботинком по столу в зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, – мы удивились, потому что Хрущева давно уже не было, а был Брежнев, – но оказалось, что эти хроникальные кадры использованы для рекламы обувной фирмы «Red shoe».
Затем началось захватывающее действо, в котором за Троцким охотились все, кому ни лень, даже знаменитый художник Давид Сикейрос: чем-то он им, художникам, не угодил. Они штурмовали в ночи его дом в мексиканском городке Койоакане, изрешетили пулями стены спальни, но он успел спрятаться под кроватью, остался цел…
Потом к нему в секретари нанялась миловидная девушка Сильвия Агелофф, а у нее в дружках был симпатичный и грамотный парень, испанец, которого звали Рамон Меркадер, она представила его шефу, и Троцкий проникся к нему доверием, – еще бы, ведь Рамона Меркадера играл Ален Делон с его нестерпимо честными голубыми глазами… Даже подозрительный Троцкий не мог предположить, что этот парень – тайный агент Кремля.
Признаться, мы смотрели этот фильм, слегка поеживаясь. Ведь мы еще не были привычны к подобным крамолам. Фигура Троцкого вообще не появлялась ни на советских экранах, ни на страницах книг. Будто бы его и не было вовсе, а были лишь троцкисты, да и тех вовремя извели вчистую… А тут – вот он, Троцкий, собственной персоной, во весь экран, во весь рост.
Глуховский косился на нас, сочувственно ухмыляясь, поглаживая по головке десятилетнего сынишку, которого взял с собою в кино.
И вот – настал момент.
Троцкий зарылся в бумаги на письменном столе, а темноволосый красавец Ален Делон (говорят, что он родом из цыган), элегантный и сосредоточенный, подошел сзади к креслу, в котором восседал Ричард Бартон со своей троцкистской козлиной бородкой, вынул из-под плаща, переброшенного через руку, альпинистский острый ледоруб – и всадил его прямо в темечко старца.
Тот извернулся отчаянно, вцепился зубами в кисть наемного убийцы, мешая нанести второй удар…
Однако, надо думать, авторам фильма подобный финал показался недосказанным. И они продлили его.
Ричард Бартон поднялся с кресла и вдруг заговорил – ведь его герой был златоустом мировой революции: он произнес одну из самых ярких своих речей, в которой изложил идеи Четвертого Интернационала, а заодно разоблачил заскорузлого державника и бывшего агента царской охранки Сталина…
Но кровь заливала его рот снаружи и изнутри, он покачнулся и рухнул на пол.
И тогда в оцепеневшем зрительном зале кинотеатра «Пикадилли» вдруг заплакал навзрыд русский мальчик.
Это был десятилетний сынишка Глуховского.
– Ну что? Чего ты? – забеспокоился папа.
– Дя-ядю жа-алко… – не унимался малыш, размазывая по щекам слезы.
Наш опекун, месье Международная Книга, заметно скис.
Наверное, он клял себя за то, что так и не сговорил нас пойти смотреть на голых баб.
Странно, черт возьми, но приблизительно в то же самое время, когда Рамон Меркадер убил ледорубом Троцкого, а я был, примерно, в том же возрасте, что и сынишка Глуховского, – как раз тогда, летом сорокового, я гостил на даче у нашей доброй знакомой, у тети Лили, которая доживала век в деревенском доме под Харьковом, в Мерефе.
Тетя Лиля, а более полно – Елизавета Михайловна Скрыль, – в молодости, еще барышней, была приятельницей моего деда Андрея Кирилловича Приходько. Они вместе учились в старинном германском университете, в Гейдельберге, и задружились там, как земляки, как русские, а может быть и как-то еще.
И вот однажды тетя Лиля стала рассказывать мне о том, как вместе с моим будущим дедом совершила восхождение на Альпы – эти горы были вблизи тех мест, где они обитали.
Я слушал ее с таким же увлечением, с каким она вела свой рассказ.
– А знаешь, Саня, – говорила она, оживляясь всё более, – у меня сохранилась реликвия того похода: альпеншток, с которым тогда мы взбирались на Альпы… где-то в чулане валяется… хочешь, я подарю тебе этот альпеншток?
– Спасибо, тетя Лиля, спасибо! – обрадовался я. – Хочу, конечно…
Ни у кого из мальчишек нашего двора – это я знал точно, – отродясь не было альпенштока. Тем более такого, что на самом деле побывал в Альпах.
Но она была уже очень стара и, наверное, позабыла о своем обещании.
А там, вскоре, началась война. И тетя Лиля умерла от голода в своем деревенском доме, в Мерефе, под немцами.






