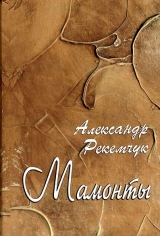
Текст книги "Мамонты"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
Не скажу, чтобы мне очень нравилась эта фотография с наголо остриженной головой. Изменивший ради конспирации внешность, изменивший имя и фамилию, не говоря уже о профессии, – он был мне скорее чужд, нежели близок, я хотел бы видеть его иным… Но что поделаешь, если других фотографий нету, если не осталось вообще никаких?
Что я предъявлю сыну, вдруг заинтересовавшемуся дедом?
Моя рука воровато ощупывала ящик письменного стола. А что, если он не заперт? Там могут быть ножницы, их держат обычно в ближнем ящике, чтобы всегда были под рукой… Итак, я достаю ножницы – и аккуратненько: чик-чик. Уголок анкетного листа вместе с заветной фотографией оказывается в моем кармане… а если спросят, скажу, что так и было.
Кстати, в своем письме на имя председателя Комитета госбезопасности я просил: нельзя ли получить хотя бы копии фотографий, имеющихся в его личном деле? И это как бы подразумевало, что не откажусь и от подлинника…
Обернув кисть носовым платком (так полагалось в фильмах про шпионов), прикоснулся к ручке левого ящика.
Резкий звонок телефона заставил вздрогнуть. Еще звонок, еще…
Снять трубку? Но ведь этим я тотчас обнаружу себя. Нельзя, ни в коем случае… Ну, а если звонят именно мне? Если у них ко Мне есть вопросы? Тогда, не ответив на звонок, я как бы обозначу свое исчезновение. Будто бы я сделал ноги вместе с секретной папкой…
– Алло. Слушаю.
В трубке несколько секунд длилось молчание. Затем басовитый голос произнес с оттенком назидания:
– Пожалуйста, не снимайте больше трубку.
Мне показалось, что это был голос генерала, который час назад беседовал со мною на втором этаже.
Так это он же только что подходил к двери?.. Вряд ли. Слишком много чести для меня. Мало ли у него холуев.
А вот отвечать на телефонные звонки, находясь в чужом кабинете, действительно, не гоже. Ведь это, всё-таки, не Собес. Тут идет оперативная работа… Всё, старик! Хватит корчить из себя Джеймса Бонда!
Я перевернул страницу.
«…Наиболее удобным местом будущего пребывания „Киреева“ мыслится Варшава, где он мог бы осесть в качестве комиссионера, участника одного из кинопредприятий или совладельца антикварной торговли. Переброска „Киреева“ в Варшаву может быть произведена следующим путем: из Одессы он в составе команды одного из пароходов направляется в Константинополь, где сходит на берег и использует имеющийся у него старый паспорт румынского подданного с выездной турецкой визой – получает у австрийского консула визу на въезд в Вену. В Вене он получает другой какой-либо паспорт, дающий ему возможность использовать знание французского в качестве родного языка, предположительно швейцарский или французский, и по этому паспорту получает визу на въезд в Польшу…»
Они называют это легендой.
Да я и сам в недавнем послании товарищу Крючкову употребил этот специфический термин: «…Я допускаю, что некоторые данные его личности и биографии являются „легендой“». И еще раз: «…сыновний долг повелевает знать правду, сделать всё возможное, чтобы снять покров безвестности и „легенды“ с личности отца».
Слыхал, даже читал (стыдно признаться, сколько времени было отдано подобному чтиву!), что этим делом – сочинением «легенд» разведчикам, идущим на дело, засылаемым в чужой стан, – что этим делом занимаются специальные люди, тому обученные, умеющие слить воедино реальность и вымысел в одном сюжете.
Для этого, конечно, нужен профессионализм, надобен талант, ни в чем не уступающий таланту беллетриста, может быть даже превосходящий его, ибо здесь за неудачу, за халтуру, за провал кто-то расплачивается жизнью!
А что бы я сам стал делать с подобным сюжетом, с таким материалом, попади он мне в руки чуть раньше?
Я бы наверняка закрутил сюжет еще туже, так, что перед ним лопнули бы все потуги безвестного автора «легенд».
Итак, он прибывает в Вену?
Я поведу его по набережным прекрасного голубого Дуная, где он будет любоваться готикой церквей, роскошью королевских дворцов, уютом старых закоулков. (Извините меня: я никогда не был в Вене, хотя и мог там побывать – меня звали туда, не в гости, а насовсем, – но я сам того не захотел, впрочем, это уже другой сюжет, ему еще не настал черед; мне придется прокладывать путь по старому путеводителю, и еще по голливудским топорным декорациям к «Большому вальсу» – фильму об Иоганне Штраусе, в моих ушах звучат его «Сказки Венского леса», а больше ничего в запасе нет). В роскошном парке Пратера он решает перекусить – ведь уже время обеда! – и присаживается к столику, за которым дожевывает шницель светловолосый молодой человек с темными бровями, сросшимися у переносицы, с красной бабочкой на шее. Вам что? – спрашивает официант. – Мне тоже шницель, кружку светлого пива… – Айн момент! – Завязывается соседский застольный разговор. Молодой человек признается, что он студент Высшей технической школы, почти уже инженер. Зовут Ганс, Ганс Нидерле… Очень приятно. Вы не родственник Любора Нидерле, известного ученого-слависта?.. А-а, того, с усами, из энциклопедии! Нет, даже не однофамилец, ха-ха, ведь он из Праги, а я – коренной венец… Позвольте и мне представиться. Анри Дюран, коммерсант из Парижа, антикварная торговля… Я очень рад, месье. Уж вы-то наверняка объездили весь свет. Скажите, пожалуйста, вам не приходилось бывать в России, иначе говоря – в Советском Союзе?.. Увы, нет. А почему вас это интересует? Вам близки большевистские идеи?.. Нет, просто заела буржуазная среда, хотя я и сам выходец из нее. И еще, говорят, там, в России, очень красивые женщины. Это правда?.. Понятия не имею, хотя тоже наслышан об этом… кельнер, счет! Мне было очень приятно с вами познакомиться, герр Нидерле… Всего наилучшего, месье Дюран!
А чем шпионские «легенды» – дотошная запись того, чего не было, – чем они достоверней моих фантазий?
«…Во время пребывания в Вене „Киреев“ пытается завязать отношения с австрийскими фирмами, торгующими с Польшей, для получения работы в Польше в качестве комиссионера. В случае, если это не удастся, он въезжает в Польшу в качестве человека, желающего вложить некоторую сумму денег в одно из польских предприятий и уже в Варшаве подыскивает такое предприятие с установкой на возможность по делам предприятия выезжать в провинцию. Когда это дело будет намечено, его можно снабдить деньгами в сумме 2–3 тысячи долларов – предельный размер капиталовложения…»
Да, не густо!
С такими деньгами даже в нынешней перестроечной Москве не откроешь приличного кооператива – скажем, для варки джинсов в собственном соку.
А я, с таким же, примерно, капиталом пустился в еще более авантюрную затею: открыл независимое издательство. Вот-вот выпущу в свет первую книгу – и не какой-нибудь детективчик Флеминга или Чейза, а сочинение самого главного бунтаря наступившей революционной эпохи Бориса Николаевича Ельцина – «Исповедь на заданную тему»… Надо бы позвонить в Москву, поинтересоваться, как там поживает мое издательство? Еще не прихлопнули?.. Вот и я замыслил написать свою исповедь. Для того и приехал в Киев. Для того и сижу в кабинете украинского КГБ на Владимирской улице, ворошу бумаги в серозеленой папке.
«…„Киреев“ хорошо ориентируется в заграничной обстановке, обладает инициативой и смелостью, знает французский, румынский и украинский языки. Учится польскому языку.
4 января 1931 г.».
На каком же языке он объяснялся в венском ресторанчике с Гансом Нидерле – моим будущим отчимом?
А сколько подобных легенд порождает сама жизнь! Случайно или намерено. Ведь и обычная жизнь настолько сложна, подчас необъяснима, что простых толкований бывает недостаточно. И тогда в ход идут спасительные легенды – они умиротворяют разум.
Да еще, надо полагать, изрядное количество легенд возникает просто так, на пустом месте, из-за случайного сдвига обстоятельств, из-за того, что так легли карты, что именно так упали кости, – но, твердит молва, что и в этих случайностях тоже явлен сакральный смысл…
Моя мысль заострилась на этой теме, когда на страницах расстрельного дела я увидел свое собственное имя, а там и другое, тоже, как будто, имеющее непосредственное отношение ко мне.
В протоколе допроса, датированного 4-м июля 1937 года, – а он лежал сейчас передо мною, – отец, отвечая на вопрос следователя о составе семьи, назвал лишь двоих.
«…1. Лидия Михайловна Бурштейн – 31 л., дом. хоз. – жена.
2. Александр Евсеевич Рекемчук-Приходъко – 9 л., живет в Харькове – сын».
А в служебной автобиографии, написанной им собственноручно годом раньше, в мае 1936 года, которую я только что отлистал, – там значились и другие родные ему люди.
«…В Париже осталась моя первая жена Анна Христофоровна Чинарова и дочь Тамара, 16 лет, но о них никаких сведений с 1927 года – нет…»
Меня отнюдь не мучил вопрос: почему теперь, в тридцать седьмом, он умолчал о своей первой семье, оставшейся в Париже?
Ведь он отлично понимал, что произошло с ним, что происходит вокруг. Он понимал, что следователь неспроста задает ему все эти вопросы, казалось бы, не имеющие прямого отношения к его работе разведчика-нелегала. Он отдавал себе отчет в том, что упоминание о Париже не облегчит его судьбы.
Но сейчас меня заинтересовало другое: почему, столь четко обозначив меня громоздкой двойной фамилией, отца и матери, он нигде – ни в одном из только что прочтенных мною документов, – не называет фамилии дочери? Только имя – Тамара… А где – Туманова?
Откуда, вообще, взялась эта фамилия, если он – Рекемчук, а его первая жена, мать Тамары, в девичестве была Чинаровой? Что это – сценический псевдоним?
Вот и я в своем официальном запросе в Комитет госбезопасности, где каждое слово выведено с пониманием – куда пишу, – я, без тени сомнения, прошу снабдить меня сведениями «…о его первом браке с Чинаровой и рождении дочери – известной на Западе балерины Тамары Тумановой».
Что за Туманова? Что за туман?
Откуда же, в самом деле, всё это пошло-поехало?
Как родилась легенда?
Но, право же, сейчас не самое лучшее время ломать голову над подобными вопросами. Еще успеется.
Я взглядываю на часы: половина второго – в самый раз бы пообедать. Но и это перетерпится, не сдохну.
А в семь вечера мне еще предстоит выступление в Институте инженеров гражданской авиации. И завтра тоже.
Когда же я успею перелопатить всю эту кипу бумаг, пробитую дыроколом, как пулей – насквозь, – еще одна вдогон, контрольный выстрел, – скрепленную железной задвижкой, как тюремным засовом?..
Спокойно, старик. Читаем дальше. Тут работы не на один день.
Вот здесь листы в папке, судя по всему, недавно были разрознены и сшиты наново, перемечены поверх старых чернил красным карандашом.
Что изъяли? Зачем? Не в честь ли моего приезда?
Впрочем, изымали и раньше.
«…Изъять для представления в НКВД УССР следующее:
1. Удостовер. № 2607 на право ношения оружия – 1
2. Семь штук патрон к револьверу „Кольт“, калибр 45 – 7
3. Патронов к „Браунингу“ № 2 – 7
4. Патронов к „Браунингу“ № 1 – 6
5. Воинский билет № 144 Р – 1…»
Я схватываю глазами, памятью все эти буквы и цифры, будто бы зрачком фотоаппарата.
Щелк, щелк…
Но сейчас щелчки воображаемой фотокамеры зловеще напоминают клацанье револьверной обоймы. И разве всё запомнишь? Щелк, щелк…
Оконные стекла вдруг ощутимо задребезжали. Мимо пронеслись тени черных «Волг» – одна, другая. Они резко затормозили у подъезда. Еще на скорости, открываясь, лязгнули, а теперь захлопнулись дверцы. Затопотали подошвы – сначала на крыльце, потом в коридоре. За мной?..
Но торопливые шаги удалялись в другую сторону, к лестнице. Нет, не за мной. Да кому я на хрен сдался? Господи, да кому мы с тобою, отец, нужны в своем застарелом горе? Ведь оно уже давно отошло в область далеких воспоминаний, а точней – в область беспамятства.
А у этих ребят, что топочут на лестнице, работы всегда невпроворот.
«…рассмотрев изъятие согласно протокола обыска от 4 VII-37 г. у арестованного РЕКЕМЧУКА Евсевия Тимофеевича
1. Два алфавита с адресами.
2. Разных блокнотов в штук.
3. Разная личная переписка на 17 листах.
4. Удостоверение „Интуриста“ № 3 за 1932 г.
Принимая во внимание, что перечисленные документы и переписка не являются уликовыми данными и не подлежат приобщению к спецделу, а посему
ПОСТАНОВИЛ
Вышеперечисленные документы и переписку уничтожить.
…уничтожены путем сожжения, в чем и составлен настоящий акт.
РАКИЦКИЙ».
Вот уж это – зря.
Как бы мне пригодились теперь эти отцовские блокноты, эти письма, эти адреса!
Но ничего не вернешь из огня, кроме пепла.
Засек взглядом дату сожжения: 11 октября 1937 года.
День расстрела.
Теперь эти бумаги им были без надобности.
Неужели такая же участь – сгореть в огне – уготована и всему остальному?
Чтоб никто больше не лез не в свои дела, не задавал лишних вопросов, не рылся в старье. Да гори оно синим пламенем!
Ну, нет.
Вот теперь, не полагаясь более на цепкость памяти, я перевернул с бока на бок серозеленую архивную папку, вернул ее в исходное положение – опять к началу, – достал из кармана ручку и, набычась упрямо, раскрыл блокнот.
Сестра
Опять держу в руках большой чернобелый снимок с изображением дивы в балетной пачке, лифе с лебяжьими перьями, укрывающими грудь, в перьевом же белом уборе, так сильно контрастирующем с иссиня-черными волосами, черными бровями, темными глазами в опушке длинных ресниц. Извив шеи, который принято называть лебединым, жест руки, повторяющий мах крыла…
Одетта в «Лебедином озере».
Наискосок фотоснимка – надпись пером, черными чернилами: «Александру Евсеевичу с моим приветом и лучеми пожеланиями. Тамара Туманова».
Этот снимок привез мне из Голливуда известный американский композитор.
Он появился на киностудии «Мосфильм» в 1965 году, когда интерес к нашему кино во всем мире возрос необычайно: все добивались чести работать совместно с русскими, пусть они и называют себя советскими.
– Дмитрий Зиновьевич Тёмкин, – представился он, знакомясь со мною.
Я понял, что переводчица может отдыхать.
Через полчаса я знал достаточно для того, чтобы проникаться почтением к гостю из Америки. Было даже совестно, что ничего не знал о нем раньше…
В свое оправдание скажу лишь, что даже в двухтомном «Кинословаре» той поры Тёмкина не было.
Он родился в России на излете XIX века, окончил консерваторию и университет в Петербурге. Причин и обстоятельств, заставивших его покинуть родные берега, я не выяснял. Но тут, вероятно, ситуация была типовая.
С 1925 года Тёмкин жил в США. Он сочинил музыку к голливудским фильмам «Алиса в стране чудес», «Чемпион», «Ровно в полдень», «Высокий и могучий», «Старик и море». Музыка трех последних фильмов была удостоена Оскаров. Позднее имя композитора Тёмкина появилось в титрах кинокартин, которые с успехом шли у нас: «Золото Маккены», «Падение Римской империи». Вероятно, многим будет приятно узнать, что Дмитрию Зиновьевичу принадлежит и душевная мелодия песни «Зеленые поля» (Green fields), которую пели братья Форд, а им подпевал весь мир шестидесятых.
В Голливуде Тёмкин был известен не только как композитор, но и как удачливый продюсер. Именно его продюсерской инициативе мы обязаны появлением на экранах – в том числе советских, в самый канун второй мировой войны, – фильма «Большой вальс»: о жизни, творчестве и любовных приключениях композитора Иоганна Штрауса… Ах, что это была за картина, ах, как там пела «Сказки Венского леса» несравненная Милица Корьюс!..
Это обстоятельство приобретало особое значение в свете того, что Дмитрий Зиновьевич Тёмкин прибыл в Советский Союз, на «Мосфильм», с целью осуществить свою давнюю мечту: создать фильм о Петре Ильиче Чайковском.
Участие в этом проекте самого Тёмкина предполагалось весьма многогранным: автор музыкального оформления, дирижер, продюсер.
Это предложение уже получило поддержку в Госкино. Естественно, что и на «Мосфильме» к нему отнеслись благосклонно.
И теперь нам с Дмитрием Зиновьевичем предстояло провести в совместных трудах немало часов и дней.
Но прежде, чем начнутся дела, я сделаю попытку набросать его портрет. Ведь это очень трудная задача – живописать старика. Морщины, пигментные пятна на лице, потухшие глаза, редкая растительность на темени – всё это обычно нивелирует, де. лает очень похожими друг на друга стариковские лица, скрадывая именно то, чем они различались в молодые годы.
Между тем, в год нашего знакомства Дмитрий Зиновьевич Тёмкин был не так уж и стар: всего лишь 65 лет. Но это нынче для меня всего лишь, а тогда он показался мне очень старым. Маленький рост да еще стариковская сутулость, лицо в сетке морщин и накрапе родимых пятен, какие-то кустики седых волос над ушами…
Из его одежды мне запомнилось пальто на яркокрасной шелковой подкладке. Шинели на подобных подкладках носили царские генералы. А тут, право же, не знаю, зачем он выбрал себе пальто с таким революционным подбоем? В знак лояльности большевикам?..
Я обязан сделать еще одну оговорку, касающуюся его возраста.
Вероятно, он вовсе не был таким стариком, каким показался мне. Или же он не ощущал своего возраста (это бывает), поскольку прибыл в Москву не один, а в обществе миловидной блондинки, которая тоже присутствовала в кабинете гендиректора «Мосфильма», когда он, Владимир Николаевич Сурин, представлял мне гостей.
Ее звали Нина Апрелева. Она постоянно жила не в Америке, а во Франции, и Тёмкин прихватил ее с собою в поездку из Парижа. Она должна была выполнять обязанности его секретаря. Вполне возможно, что ее функции были и несколько шире, поскольку выяснилось, что Дмитрий Зиновьевич приехал в Россию без жены, так как его супруга давно и тяжело больна, неподвижна, лежит в клинике под капельницей и ее кормят через трубку.
Что же касается Ниночки Апрелевой, то она, повторю, была эффектной блондинкой, чем-то похожей на недавно усопшую Мерилин Монро: ресницы стрелами, с такою же тонкой талией, округлыми бедрами, стройными щиколотками… она была, право же, очень ничего.
Перехватив мои мимолетные взгляды на секретаршу Дмитрия Зиновьевича, ко мне направился присутствовавший в кабинете молодой человек в черном костюме, то ли из Комитета по кино, то ли из какого-нибудь другого комитета – и, улыбаясь, между делом, объяснил мне вполголоса, что этой белокурой Мерилин Монро – сто лет в обед; что вот так в парижских салонах красоты наловчились, сволочи, наводить марафет и поддерживать экстерьер; что она увязалась за Тёмкиным в Москву, имея деликатные поручения эмигрантского Общества памяти императора Николая Второго…
Нетрудно догадаться, что после этих доверительных объяснений я больше ни разу не взглянул на спутницу Дмитрия Зиновьевича, будто ее тут и не было.
(Реалии высокого искусства иногда причудливо пересекаются с реалиями сыска. Сколь ни насмешничай над повадками молодых искусствоведов в штатском, надо признать, что порою их остережения имеют под собою почву.
Так, много лет спустя после описываемой встречи на «Мосфильме», я вдруг прочел в одной книге, посвященной операциям советских спецслужб конца двадцатых годов, следующие строки:
«…Высший монархический совет направил в Харбин особую группу под командованием капитана 1-го ранга К. Шуберта, в которую входили капитан 2-го ранга Б. Апрелев, полковники Ю. Апрелев, Н. Федоров и ряд других офицеров….»
Понятно, что мое внимание здесь привлекла отнюдь не фамилия Шуберта).
Вообще, присутствие Нины Апрелевой, судя по всему, вызывало некоторую озабоченность у принимающей стороны. На всякий случай, ее разлучили с патроном, поместив в разные гостиницы: ему подороже, ей – попроще.
Когда же Тёмкин отправился ее проведать, ему в гостинице Дали отлуп: нельзя, нету, посторонних пускать не велено, вот сейчас вызовем милицию. Дмитрий Зиновьевич возмутился, вынул из кармана паспорт и заявил, что он – гражданин Соединенных Штатов Америки, что он не позволит!.. На это какие-то хмельные типы, околачивавшиеся подле регистратуры, доходчиво втолковали ему, что у нас судят не по паспорту, а по морде, а по морде сразу видно, кто он такой…
Тёмкин оскорбился и ушел.
В следующий раз он приехал в Москву уже без Нины Апрелевой.
Именно тогда, в тот следующий раз, мы, засучив рукава, взялись за дело.
Сурин рекомендовал Дмитрию Зиновьевичу посмотреть мосфильмовские новинки: «Войну и мир» Сергея Бондарчука, «Председателя» Алексея Салтыкова, «Дневные звезды» Игоря Таланкина, а также материал еще снимающихся фильмов.
Для этой цели был забронирован просмотровый зал, где американский гость мог, без помех, вкусить наслаждение от этих новых картин и поразмыслить о вариантах с режиссером и сценаристом.
Мне же, отправляясь на очередной просмотр, Тёмкин сунул в руки потрепанную книжицу, на обложке которой я мельком прочел: Нина Берберова, «Чайковский».
Тем летом я жил на берегу Пироговского водохранилища, где мы всей семьей, уже который год подряд, снимали дачу в деревне Подрезово – в благодатном месте Подмосковья, тогда еще тихом и не сильно загаженном.
На плесах водоема, повинуясь древним инстинктам, рыба упорно держалась старого русла речки Клязьмы, затопленного водохранилищем. Мне показали эти места, и я был удачлив в ловле на донку леща и густерки.
Мама, жена и дети собирали грибы в окрестных лесах.
По утрам за мною приезжала студийная «Волга», увозила в Москву, а вечером привозила обратно.
Здесь я и прочел книгу Нины Берберовой. Поначалу отнесся к ней настороженно: ведь это был «тамиздат» – парижское издание еще тридцатых годов. Но вскоре совковый мандраж улетучился. Меня покорил доверительный тон изложения, очевидное богатство материалов, источников, живых свидетельств, тот восхитительный такт, с которым писательница касалась запретной темы.
В ту пору, когда писалась книга, за рубежом, а именно во Франции, где жила Нина Берберова, отнюдь не наблюдался разгул вседозволенности в изображении сексуальных причуд. И уж во всяком случае, не было нынешней, преднамеренно подогреваемой моды на эту тему.
Особенно строгих правил на сей счет – я имею в виду печатный аспект проблемы, – придерживались люди русской эмиграции.
В предисловии к более позднему изданию книги Нина Берберова приводит детали своего разговора с Прасковьей Владимировной Чайковской, урожденной Коншиной, когда-то известной московской красавицей.
«…Сперва она не поверила, что я та самая, которая пишет биографию Петруши… Я, идя к ней, приготовилась к твердому ответу, если она будет требовать убрать некоторые намеки на его ранние отношения с Апухтиным (12-ти и 13-ти лет) и в дальнейшем интимных тем не касаться. Но вышло совсем по-другому: она попросила в будущем издании убрать тот факт, что, когда по ночам Петр Ильич работал – за письменным столом и роялем – Алёша (слуга) приносил ему перед сном рюмочку коньяку. Ее просьба сводилась к следующему: вы написали, что это случалось каждую ночь, напишите, что это случалось раз в неделю. А то подумают, что он был алкоголиком…»
Именно это предисловие заканчивается лаконичным, но категорическим утверждением:
«В 1966 г. совместными усилиями Совкино и Голливуда по моей книге был сделан фильм».
Речь идет, конечно же, о мосфильмовской ленте, хотя в советский прокат она вышла гораздо позже, в 70-м году. И в титрах фильма, во всяком случае – в русской версии, нет упоминания о книге Нины Берберовой.
Но я забегаю вперед.
Ведь сейчас еще нету не только фильма, но даже сценария.
Есть только ужаснейший скелетон, привезенный Дмитрием Зиновьевичем (меня продирал морозец по коже от этого словца!) да еще потрепанная книжица «тамиздата», которую я как раз закончил читать.
Уловив в моем взгляде теплое отношение к прочитанному, Тёмкин, понизив голос, сказал:
– Мы можем пригласить для работы над фильмом, в качестве консультанта, крупнейшего в Штатах специалиста по проблемам гомосексуализма. За счет американской стороны…
Едва сдерживаясь – ведь разговор шел в служебном кабинете, – я ответил ему:
– Дмитрий Зиновьевич, давайте договоримся: если вы еще раз заведете разговор об этом, я закрою проект. Никакого фильма не будет!
– Хорошо-хорошо, – замахал он руками, давая отбой.
И здесь я хочу заранее отмести любые возможные домыслы на сей счет, касающиеся самого Дмитрия Зиновьевича Тёмкина.
Я уверен, что все разговоры про это, которые он затевал иногда, возникали лишь потому, что они соответствовали подлинным обстоятельствам биографии нашего героя.
Я могу подтвердить свою точку зрения многими неоспоримыми доводами.
Во-первых, сугубо негативным отношением Дмитрия Зиновьевича к поэту Апухтину, который в ранней своей поре, обучаясь в младших классах училища Правоведения, очень дурно влиял на Петрушу (годы учебы в этом заведении вообще не вошли в фильм). Во-вторых, о безупречной ориентации композитора Тёмкина свидетельствовал приезд вместе с ним в Москву обворожительной парижанки Нины Апрелевой. В-третьих, общаясь с дамами, Тёмкин иногда задавал им вопросы, которые не оставляли сомнений в направленности его интересов, – примеры еще последуют…
А теперь продолжу изложение нашей беседы.
Выслушав мои протесты и остережения, Дмитрий Зиновьевич сам перешел в атаку:
– Послушайте, я посмотрел все фильмы, которые вы мне рекомендовали. «Война и мир» – это исключено! Разве там Пьер Безухов? Разве там Элен? Это – продавщица из парфюмерной лавки, а не Элен…
– Дальше, – сухо перебил я.
– Меня заинтересовал Таланкин, постановщик «Дневных звезд», и некоторые актеры из этого фильма. Я видел материал «Анны Карениной», там Бетси играет Майя Плисецкая – я восхищен ею! Но больше всего…
Тёмкин, выдержав торжественную паузу, поднял указательный палец:
– Но больше всего мне понравился фильм «Председатель»!
– Да, конечно, – обрадовался я тому, что у этой ленты появился еще один поклонник. – Но, видите ли, там изображен колхоз, сначала отстающий, а потом передовой. Это, пожалуй, далековато от нашей темы – музыкальной классики…
– Можем ли мы заказать сценарий Юрию Нагибину? – поставил вопрос ребром продюсер с американской стороны.
Я уже излагал историю создания фильма «Чайковский» в своей недавней повести «Кавалеры меняют дам», посвященной замечательному русскому писателю Юрию Нагибину, дружбой с которым меня одарила судьба.
Здесь повторю лишь то, что сопутствует легенде о Тамаре Тумановой.
И еще поведаю о неожиданном – подобном чуду! – продолжении, которое обрела эта легенда.
Дмитрий Зиновьевич Тёмкин часто рассказывал мне о своих именитых знакомцах в Америке.
– Я живу в Беверли Хиллс, – говорил он. – Вы знаете, что такое Беверли Хиллс?
– Слыхал. Это в окрестностях Голливуда, в Калифорнии.
– Да, это самое лучшее место в Голливуде! Там живут многие русские, очень известные люди. Моя соседка – Тамара Туманова, балерина. Она снималась у Джина Келли в фильме «Приглашение к танцу», там она играет и танцует вместе с ним… Вы видели этот фильм?
– Нет. Но у меня есть кадр из «Приглашения к танцу» с Тамарой Тумановой, я вырезал его из польского журнала…
– Значит, вы знаете о ней?
– Кое-что знаю. Дмитрий Зиновьевич, когда вы летите в Штаты?
– Через два дня. Но потом я опять вернусь в Москву.
– О’кэй, – сказал я.
Дома торопливо перебрал фотографии в старом бюваре мамы.
Где-то здесь, где-то здесь, обязательно должно найтись!.. Я очень хорошо помнил эти фотографии, помнил с младенческих лет.
И нашел.
Это были великолепные снимки, на которых мелким шрифтом было вытеснено имя мастера и адрес его ателье: Eichart, 48, Bd de Clichy, Paris.
На снимках была девочка, темноволосая и темноглазая. На одном из них – с белым бантом на макушке, в обнимку с собакой, пойнтером в блестящих лохмах, высунувшим от жажды и волнения язык. Здесь ей лет пять. На другом она, примерно, двенадцатилетняя, в балетном тренировочном трико. Еще снимок: с обнаженными плечиками, ниже которых печать размазана, чтобы скрыть приметы взросления.
Была и фотография ее матери – Анны Христофоровны Чинаровой, дамы тоже темноволосой, густобровой, вероятно с примесью южных кровей, армянских или грузинских.
Я помнил, что была еще одна фотография: на ней, в бутафорском самолетике с пропеллером, какие держат в фотосалонах специально для тех, кто пожелает сняться в забавном ракурсе, – в этом самолетике сидели друг за дружкой всё та же девочка с бантом, всё та же дама с примесью южных кровей, и еще мужчина лет тридцати, темный шатен с залысинами у высокого лба, с сухощавым лицом, умными глазами.
Счастливое семейство: мой отец Евсей Тимофеевич Рекемчук, его первая жена – Анна Чинарова, их дочь Тамара.
Последняя фотография исчезла при странных обстоятельствах, о которых я уже рассказывал: была выкрадена либо уничтожена.
А другие остались в бюваре.
Почему-то они оказались не у моего отца, а у моей мамы. Наверное, она забрала их с собой, покидая Киев, стараясь досадить уже бывшему мужу, давая ему понять, что у него нет прав на прошлое – ни на дочь, ни на сына, – что у него есть только сомнительное будущее…
С того дня, когда мама впервые показала мне фотографии девочки с бантом, девочки в балетном трико и девочки с плечиками, я знал, что она – моя единокровная сестра, что она живет в Париже, что она балерина, что ее зовут Тамара Туманова.
За пределами раннего детства ничто не вызывало вопросов.
Тамара Туманова училась в балетной школе Ольги Преображенской. Одиннадцатилетней девочкой была приглашена самой Анной Павловой в ее труппу (впоследствии она сыграет Анну Павлову в американском фильме, посвященном судьбе великой русской балерины). Блистала на подмостках Гранд Опера, Ковент Гарден, Ла Скала. Работала с Джорджем Баланчиным, Сержем Лифарем. Была знакома с Глазуновым, Прокофьевым, Стравинским. Водила дружбу с Пикассо, Шагалом, Хемингуэем. Вышла замуж за известного кинопродюсера Кейси Робинсона, танцевала, играла в фильмах…
Не страшновато ли распахивать братские объятия звезде такой величины?
Но, в конце концов, мой интерес мог объясняться просто-напросто тем, что в семейном альбоме совершенно случайно оказались фотографии девочки, которая стала впоследствии известной балериной.
После долгих размышлений я отобрал два снимка: тот, где она с бантом и собакой, и тот, где она в тренировочном балетном трико.
Третий, с обнаженными плечиками, решил оставить себе на память.
А первые два вложил в конверт и назавтра отдал его Дмитрию Зиновьевичу Тёмкину с просьбой передать при случае соседке в Беверли Хиллс.
Вскоре, возвратись из Штатов, он снова был на «Мосфильме».
Уже по сияющей его улыбке я понял, что он привез хорошие вести.
Но он приехал не только с добрыми вестями.
Торжествуя, Тёмкин вручил мне большой желтый конверт, на котором типографским шрифтом было тиснуто: TOUMANOVA. 605, No. Canden Str. Beverly Hills, California. И надпись от руки: Monsieur А. Е. Рекемчук.






