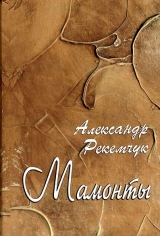
Текст книги "Мамонты"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
Я так и не знаю, куда подевался альпеншток, с которым мой дед Андрей и девушка по имени Лиза Скрыль восходили на Альпы.
А мой собственный сын – тоже Андрей, в честь прадеда, – когда подрос, и я уже писал об этом, – однажды спросил меня:
– Папа, а как он выглядел – твой отец, мой дед? Вот я ношу его фамилию, но даже не знаю, каким он был. Прадеда на фотке видел, а деда нет… Ну, хоть примерно, на кого, скажем, из киноактеров он был похож?
– На Алена Делона, – не колеблясь, ответил я.
Почему же я ответил именно так? Сработала подсознанка?
Ведь он вовсе и не был похож на Алена Делона.
Не больше, чем я.
Но и другие люди, знававшие моего отца, утверждали, что тогда – в декабре тридцать шестого или в январе тридцать седьмого, – действительно, был этот вызов в Москву, и было предложение выполнить секретное задание особой важности, на которое он ответил отказом.
Не хочу зацикливаться на одном-единственном предположении, тем более, что от него за версту несет киношкой.
Так что же это могло быть?
В материалах, к которым я имел доступ – в серо-зеленой папке расстрельного дела, – ответа на этот вопрос не нашлось. Да было бы странным, если б там и была разгадка: там больше загадок, нежели разгадок. Дела подобного рода остаются сугубой тайной до тех пор, покуда в них еще тлеет хотя бы искра политической актуальности. Либо пока к ним не иссякнет чей-то живой интерес.
И всё же?..
Перебрав варианты, я сделал вывод, что таких заданий могло быть три.
О первом уже говорилось в предыдущих главах этой книги.
Речь идет о похищении белогвардейских генералов Кутепова и Миллера. Одного из них, Кутепова, агенты советской разведки заманили в такси – буквально в центре Парижа, средь бела дня, – и увезли в Гавр, где погрузили на пароход, плывущий в Новороссийск. Однако до Новороссийска генерала не довезли, он умер от сердечного приступа уже в виду родных берегов…
Второго, Евгения Карловича Миллера, долго пасли в его собственном штабе, где установили подслушивающие устройства, а потом – чтобы слушать поближе, – доставили на Лубянку… Там и расстреляли.
Об этих дерзких операциях, не умолкая, шумела вся французская, вся европейская пресса.
И здесь тем более важно уточнить, что между похищением Кутепова и похищением Миллера был временной зазор в целых семь лет. Но газетный шум вокруг обеих сенсаций не умолкал так долго, что оба события уже воспринимались, как одно, как дубль.
О том свидетельствуют хотя бы строки из воспоминаний Тамары Финч: «…Мама ужасно боялась анархистов. Два генерала были похищены в Париже. Конечно, отец не имел ничего общего с этим делом, но...»
Пикантность скандалу добавляло участие в кознях советской агентуры еще одного белого генерала, Николая Скоблина, а также его жены, певицы Надежды Плевицкой по прозвищу «курский соловей»: вся русская эмиграция рыдала на ее концертах, слушая песню «Замело тебя снегом, Россия…»
Разоблаченный генерал Скоблин бежал – вроде бы, в Испанию, – и там, повидимому, был ликвидирован агентами Чека. А Плевицкая оказалась во французской тюрьме, там и умерла, уже в немецкой оккупации… Впрочем, ее участие в делах секретных служб многими берется под сомнение.
Мы не забыли также об обыске в парижской квартире Марины Цветаевой, о ее допросах в префектуре полиции после таинственного бегства – опять-таки в Испанию, – ее мужа, Сергея Эфрона.
Вот здесь, я думаю, и сокрыт ответ на вопрос: почему Рекемчук отверг свое участие в операции с генералами, если это, действительно, предлагалось ему.
Он не хотел, чтобы волна скандальной шпионской сенсации накрыла с головой, смыла и унесла в небытие людей, которые оставались ему дороги – Тамару, Анну…
Во-вторых, это могла быть сама Испания.
В этой книге, независимо от моих намерений и желаний, мне придется – просто подчиняясь ходу событий, следуя по пятам невыдуманных героев, – вновь и вновь, мысленно, а иногда и реально возвращаться на Иберийский полуостров.
В ту пору, о которой идет речь, Испания безраздельно владела умами и сердцами миллионов людей.
Там шла Гражданская война.
Казалось – и все, словно бы сговорившись, делали вид, будто именно так им и кажется, – что в этой войне были две воюющие стороны: Республика и генерал Франко.
Но это была очень странная гражданская война, в которой, почти не таясь, участвовали и Германия, и Италия, и Советский Союз, а косвенно – еще и Франция, и Англия, и Соединенные Штаты, то есть все будущие участники Мировой войны.
В этой странной гражданской войне эскадры бомбовозов стирали с лица земли целые города вместе с их населением. Танковые колонны утюжили гусеницами оливковые плантации и апельсиновые рощи. Перед корридой на арены – и у тех, и у других, – выводили людей, плененных в бою, выловленных в подполье, – и расстреливали тут же, при всем честном народе. Честной народ горячо аплодировал. А уже потом начинался бой быков.
У меня нет сомнений в том, на чьей стороне был бы в этой гражданской войне мой отец.
А он бы там очень сгодился: бывший офицер, изрешеченный пулями и картечью, травленный газами, гнивший в окопах, ходивший в рост в атаку, дравший глотку на солдатских митингах… Так что же?
В тот самый момент, когда я задал себе этот риторический вопрос, вдруг, как озарение, явилась догадка, которая могла бы, честно говоря, придти гораздо раньше, а не спустя пятнадцать лет после того, как у меня в руках оказался тот документ.
Теперь же я торопливо листал страницы блокнота, в который летом 1990 года, в Киеве, в строгом доме на Владимирской улице, переписывал бумаги из серо-зеленой папки.
Нет, не это… и не это, хотя тоже очень важно… не это… Вот!
Автобиография Командира Запаса РККА
Рекемчука Евсевия Тимофеевича
…после смерти отца поступил в Аккерманскую учительскую семинарию, где учился до осени 1914 года, а с началом войны, с группой учеников в 40 человек, ушел добровольцем в армию…
…был дважды ранен и произведен в штабс-капитаны… в 1917 году был избран командиром батальона. В полку состоял товарищем председателя революционного комитета…
Кому и для чего понадобилось это вдохновенное жизнеописание?
Запрос военкомата? Курсы переподготовки командиров запаса?
«…ушел добровольцем…»
Лишь теперь мой взгляд упирается в дату, обозначенную его рукой в самом конце листа: 18 V 1936 г.
И тут, сквозь волокна бумаги, сквозь бег чернильных строк вдруг проступает – как тайнопись, как глубинный наплыв комбинированной съемки, – знакомый еще по школьному атласу контур Пиренейского полуострова.
Всё совпадает.
Именно в те дни мир был взбудоражен вестями из Испании: 10 мая 1936 года – формирование правительства Народного фронта; 17 июля – условный радиосигнал франкистов к началу мятежа: «Над всей Испанией безоблачное небо»; 20 июля – жестокие бои на всех фронтах от Малаги до Бильбао…
Именно в те дни сотни и тысячи командиров Красной Армии, курсантов танковых и лётных училищ, ветеранов мировой и гражданской, – записывались в добровольцы, оформляли документы срочного выезда за кордон. Одним предстояло плавание по Черному, по Средиземному морям на пароходах, в трюмах которых был не только запас горючки и питьевой воды. Другие добирались до Испании поездами через всю Европу, и там, в Пиренеях, на границе, предъявляли паспорта с именами и фамилиями, которые сами выговаривали с трудом…
Вскоре эти имена станут легендарными: летчик-истребитель Павел Рычагов обретет славу как «Пабло Паланкар» («паланка» по-испански «рычаг»), будущий маршал артиллерии Николай Воронов станет «Вольтером», другой будущий маршал Родион Малиновский – «полковником Молино», летчик-комбриг Яков Смушкевич – «генералом Дугласом», командарм Григорий Кулик – «генералом Купером», летчик-комбриг Евгений Птухин – «генералом Хосе», комбриг-танкист Дмитрий Павлов – тоже, естественно, назовется «Пабло»…
Под какой боевой кличкой мог бы воевать в Испании бывший штаб-капитан царской армии, командир запаса РККА Евсевий Тимофеевич Рекемчук? «Капитан Эусебио»?
Но он не мог поехать в Испанию по своей воле, добровольцем.
Он не принадлежал себе.
Он мог отправиться в Испанию лишь по путевке секретных служб, по приказу Лубянки.
А это значило воевать не с генералом Франко, не с Гитлером, не с Муссолини. Это значило воевать со своими.
В недавно вышедшей книге по истории секретных операций, в главе с красноречивым названием «Испанская мясорубка» об этом говорится так:
«…В НКВД правильно поняли, чего требует Кремль. В результате… началось планомерное уничтожение троцкистов за границей. Первый удар был нанесен по испанским троцкистам, их союзникам и всем другим инакомыслящим, попадавшим под ярлык троцкистов и объявленных „троцкистскими агентами фашизма“. Этому способствовало то обстоятельство, что в Испании с 1936 года шла гражданская война и сотрудники НКВД находились там вполне официально…»
Откровенность авторов книги впечатляет.
Да, Сталин использовал Испанию, как учебный полигон для истребления людей, которых он считал «троцкистами», в которых он узрел «заговорщиков». Ими могли быть безупречные красные командиры, профессиональные революционеры Коминтерна, убежденные антифашисты, именитые писатели и журналисты, наконец, сами чекисты, распознавшие природу сталинской диктатуры.
Вернемся к именам легендарных героев гражданской войны в Испании, приведенным только что: герои-летчики Павел Рычагов, Яков Смушкевич, Евгений Птухин, генералы Дмитрий Павлов, Григорий Кулик, Григорий Штерн, журналист Михаил Кольцов, изображенный Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол» под именем Каркова… Все они и многие другие были расстреляны по приказу Сталина тотчас по возвращении из Испании либо несколько лет спустя.
К той поре он сам был похож на разъяренного быка, кидающегося, опустив рога, на всё красное.
…Так был ли Рекемчук в Испании?
Или что-то заставило его обуздать тот романтический порыв души, который владел им в мае тридцать шестого?
Наконец – и это в третьих, – речь могла идти, действительно, о самом Троцком.
Именно тогда, в столь же четко обозначенный момент, в декабре 1936 года, произошло событие, всполошившее Лубянку и Кремль.
Лев Давыдович Троцкий, коротавший дни эмиграции в тихой и близкой к России, а потому вполне досягаемой Норвегии, вдруг, словно бы учуяв новую опасность, переметнулся на другой континент – в Америку, в Мексику. И там, в городке Койоакан, подобно Сталину, укрылся в собственном Кремле: в огороженной высокими стенами, неприступной с виду фазенде…
Он-таки задал головную боль своему лютому ненавистнику.
Историки той поры подчеркивают, что Сталин видел в Троцком более опасного противника, нежели сам Гитлер. Он считал, что с Гитлером можно договориться – и он договорился с ним, если иметь в виду чудовищный, безумный пакт, заключенный в 1939 году.
Что же касается Троцкого, то здесь любые договоренности заведомо исключались.
Здесь речь могла идти только о физическом устранении – любой ценой, любым способом.
Но осуществить это стало гораздо труднее – цель отдалилась…
Чекистский генерал Павел Судоплатов, рассказывая в своих мемуарах о том, как был вызван к Сталину, в Кремль, подчеркивает жесткость услышанных там наставлений.
«– В троцкистском движении нет важных политических фигур, кроме самого Троцкого…» – говорил Сталин. Сурово предупреждал: «Устранение Троцкого в 1937 году поручалось Шпигельгласу, однако тот провалил это важное правительственное задание…»
И опять, и вновь:
«Троцкий, или как вы его именуете в ваших делах, „Старик“, должен быть устранен в течение года…»
В тот момент еще не были определены ни способ устранения супостата, ни фигура исполнителя акции.
Рамон Меркадер мог пока отдыхать.
Альпинистский ледоруб тети Лили валялся в чулане.
Кремль вел беседы с людьми, которые были способны не столько осуществить сами эту акцию за океаном, сколько организовать ее.
И они расстарались. И, в конце концов, хотя не без огрехов, осуществили это мокрое дело, именуемое важным правительственным заданием. И сами понесли страшные кары за свое послушание: кому тюрьма, кому пуля.
Был ли вызов Рекемчука в Москву связан с этим заданием?
Об этом можно теперь лишь гадать.
Но главное, что следует иметь в виду и что предопределило его судьбу – а он, безусловно, отдавал себе отчет в том, чем это пахнет, – он отказался от предложения, от которого нельзя было отказаться.
Уместно вспомнить, что десятью годами раньше, в Париже, когда ему – так сказать, в порядке испытания – приказали поехать в Прагу и там застрелить лидера когдатошней Учредилки Виктора Чернова, – он не вдавался в обсуждение самого приказа. Правда, он так и не выполнил этого деликатного поручения. Но отказаться от него не посмел.
Теперь же, возмужав, пройдя тернистый путь, своими глазами увидев всё, что происходило вокруг, и оценив происходящее своим, а не заемным умом, он принял решение, которое, он знал, будет стоить ему жизни: это был отказ.
Шествие на казнь
За ним пришли 1 июля 1937 года.
В качестве понятого пригласили дворника Андрющенко.
Двадцать пять лет спустя, когда компетентным органам (вероятно, в связи с моим заявлением о реабилитации отца) понадобилось восстановить некоторые детали и подробности дела, выяснилось, что уже никого нет в живых либо нет в пределах досягаемости: ни тех, кто возбудил дело, ни того, кто подписал ордер на арест, ни тех, что явились арестовывать, ни, подавно, того, за кем пришли.
Время сберегло лишь дворника Андрющенко, с его бляхой, с его метлой, с его памятливым глазом. С его как бы извечной миссией русского дворника: оставаться свидетелем и летописцем событий, понятым истории.
С его слов и была составлена бумага, которую мне довелось читать.
О том, что жильца квартиры номер 51 в доме номер 5 по улице Челюскинцев (бывшая Костёльная) на месте не оказалось, неизвестно, куда подевался, может – убёг. Что он так и не знает, удалось ли всё же найти и арестовать того, на кого был ордер. Что опись имущества не производилась, потому что весь зажиток принадлежал хозяину квартиры Михаилу Юлиановичу Бурштейну, тестю, то есть отцу его жены, а у самого Рекемчука ничего не было – ни кола, ни двора.
Можно предположить, что в эти летние дни он обретался на Трухановом острове, на даче своего тестя, – что там его и взяли.
К этой поре он уже не работал ни в музее, ни на киностудии, а был, как скажет он сам, безработным – и это запишут в протокол задержания.
После личного обыска его препроводили в спецкорпус Киевской тюрьмы.
Именно там, в тюремной камере, у него еще был некий запас времени, чтобы понять, что с ним случилось, догадаться – ведь он был трезвомыслящий человек, – что ничего хорошего ждать уже нельзя. Тут он мог обдумать все свои прегрешения, вольные и невольные. И, вообще, взглянуть на прожитую жизнь как бы со стороны.
Собственно, такую попытку – подвести итог жизни, – он сделал годом раньше, в мае 1936 года, собственноручно написав ту испанскую «Автобиографию Командира Запаса РККА», которую я уже цитировал и в предыдущей главе и раньше.
Похоже, что еще тогда – в мае тридцать шестого, – он хотел завязать с этим делом.
Не с журналистикой, конечно, не с живописью, не с кино, даже не с профессией боевого офицера.
А с тем грязным делом, в которое вляпался по молодости лет, ради того, чтобы любой ценой вернуться в Россию.
Между тем, он, конечно, знал, что завязать с этим делом еще не удавалось никому и никогда. Что если уж ты однажды подписал этот жесткий контракт с судьбой, с секретной службой, то она тебя не выпустит из своих когтей до гробовой доски, сколь бы невинный и приятный род занятий ты для себя ни выбрал впредь.
Бывших чекистов не бывает.
Он отдавал себе отчет в том, что разведка – тем паче, нелегальная разведка – это навек. Слишком многое знает такой человек, чтобы позволить ему расслабиться хотя бы на старости лет.
Тем более, что он не был стар – сравнялось сорок. Как говорится, мужчина в расцвете сил, в самом соку. Тут бы только и строить планы дальнейшей жизни!
С чего же я взял, будто бы он хотел завязать?
А я просто вновь и вновь перечитывал его «Автобиографию Командира Запаса РККА…»
Именно там, с похвальной дотошностью, были изложены подробности его воинской службы: лейб-гвардии Измайловский полк, ранения, Одесская школа прапорщиков, опять ранения, производство в штабс-капитаны, участие в съездах армейских депутатов – в Пскове, в Двинске, – назначение командиром минометной команды 2-го Социалистического полка, в Бессарабии, то есть уже в Красной Армии.
В этой рукописной автобиографии не было ни слова о пикантном задании Советского консульства в Париже – поехать в Прагу и убить Чернова; нет ни звука о тридцати девяти нелегальных ходках через границу; нет и намека на таинственные дела в Румынии, Польше, Германии человека по фамилии Киреев, Ильин, Раковицкий, Миртов, Дюран, Гайяр, которые фигурируют в более ранней автобиографии тридцатого года, секретной, написанной для служебного пользования.
Мне могут возразить, что он и не мог – просто не имел права! – излагать подобные конспиративные данные в своей биографии, написанной, скажем, для райвоенкомата, где он состоял на учете, как командир запаса Красной Армии.
Да, это так, спору нет.
Но я прочитывал на этих страницах, в этих строках то, что вело его мысль, его слог.
Во всяком случае, мне кажется, что я прочел это верно, как может быть дано лишь сыну, читающему руку отца, ведущему след его души.
Я убежден в том, что он излагал свою жизнь так, как ему хотелось бы ее видеть.
Блюдя требования секретности, он как бы очищал себя и свою жизнь от грязи, неизбежной для человека, подавшегося в тайные службы.
Писал – и уже сам верил, что именно так и было на самом деле…
Всё это было правдой. Но, вместе с тем, это было лишь половиной правды. То есть, это было тоже своего рода легендой.
Лелеял ли он в душе планы вернуться в ряды той русской армии, в которой служил в молодые годы, и пролил кровь, и заработал боевые ордена, – но которая теперь стала иначе называться: Рабоче-Крестьянская Красная Армия?
Хотел ли он именно этого?
Смею предположить, что да.
Ведь именно в эту пору возвращались в русскую армию ветераны царской службы – люди, нюхавшие порох не в расстрельных подвалах, а в честном бою.
Знакомые с подоплекой событий, с тем, что творилось в окружающем мире.
Они понимали неизбежность тотальной войны.
Но именно в этот момент и был нанесен сокрушительный удар по Красной Армии.
11 июня 1937 года Верховный Суд СССР рассмотрел в закрытом судебном заседании дело по обвинению в измене Родине группы крупнейших военачальников страны – маршала Тухачевского, командармов Якира, Уборевича, Корка, комкоров Примакова, Эйдемана, Фельдмана, Путны… Все они были расстреляны.
Позднее расстреляли и тех, кто входил в состав суда: маршала Блюхера, командармов Алксниса, Дыбенко… впрочем, последний застрелился сам, когда за ним пришли.
Волна арестов, судилищ, расстрелов прокатилась по всем военным округам. Жертвами кровавой зачистки стали, по меньшей мере, 40 тысяч командиров Красной Армии.
Сообщение о суде над Тухачевским появилось в газетах пятнадцатого июня 1937 года, то есть за две недели до ареста моего отца.
Нет сомнений в том, что он читал эти газеты – может быть там же, в дачной тиши Труханова острова.
Он понял, что его ждет.
Полвека спустя, мне попала в руки книга Владимира Карпова «Генералиссимус», посвященная, как это явствует из ее названия, Сталину.
В одной из центральных глав этой книги, обозначенной как «Военный заговор», были следующие строки:
«В 1990 году я написал книгу „Расстрелянные маршалы“, есть в ней очерк и о М. Н. Тухачевском. Очерк написан в „оправдательном“ стиле, в соответствии с опубликованными в те года газетными и журнальными статьями и реабилитационной эйфорией, которой поддался и я.
В ходе работы над книгой „Генералиссимус“ я более глубоко разобрался в причинах репрессий, опираясь на новые архивные документы, рассекреченные в перестроечные годы. В связи с этим пусть не удивляет читателей иная оценка и иной подход к „делу Тухачевского“, не совпадающие с тем, что было написано мной прежде…»
Всё это заинтересовало меня тем более, что я очень давно и довольно близко знал автора книги.
Мы учились вместе с Володей Карповым в Литературном институте. Большинство студентов тех лет составляли фронтовики: Владимир Тендряков, Юлия Друнина, Эдуард Асадов, Юрий Бондарев, Евгений Винокуров, Григорий Бакланов, Ольга Кожухова, Андрей Турков, Григорий Поженян, – все увешанные боевыми орденами и медалями. Позже их имена зазвучали и в литературе.
Но даже на этом батальном фоне выделялась фигура Владимира Карпова. Он был Героем Советского Союза, причем заработал это звание не в штабном крысятнике, а на передовой. На его личном счету было 45 «языков», взятых в тылу врага.
Особый ореол личности Героя придавал еще и тот факт, что он воевал в штрафбате, а туда попал из сибирского лагеря, а в лагерь угодил перед самой войной за то, что не слишком лестно высказался в адрес товарища Сталина. И здесь очень важно отметить, что срок ему дали, как утверждают литературные справочники, «за участие в заговоре против существующего строя».
Позднее мы вместе работали в редакции журнала «Новый мир», встречались на писательских съездах и в дружеских застольях. А еще позже Владимир Васильевич Карпов возглавил Союз писателей СССР.
Конечно же, сама незаурядность биографии писателя как бы становилась гарантией взвешенного подхода к жизни и смерти одного из его героев – легендарного маршала.
И поначалу мои ожидания оправдались: «опираясь на новые архивные документы, рассекреченные в перестроечные годы», как он сам выразился, Карпов преподнес читателям сенсационные разоблачения.
Разоблачения – кого именно? Мне показалось, что Сталина.
Так, например, автор существенно дополнил версию историков о том, что компрометирующие секретные материалы, уличавшие Тухачевского в попытке военного заговора, Сталину подкинули люди из окружения Гитлера через тогдашнего президента Чехословакии Бенеша.
Теперь же выяснилось, что Сталин купил эти материалы.
Карпов прямо ссылается на мемуары шефа германской политической разведки Вальтера Шелленберга, который свидетельствует: «…Сталин запрашивал, в какую сумму мы оцениваем собранный материал. Ни Гитлер, ни Гейдрих и не помышляли о том, что будет затронута финансовая сторона дела. Однако, не подав и виду, Гейдрих запросил три миллиона рублей золотом, которые эмиссар Сталина выплатил сразу после беглого просмотра документов.
Материал против Тухачевского был передан русским в середине мая 1937 года».
Как легко сторговались! Как дружно ударили по рукам!
Через неделю, 22 мая, Тухачевский был арестован. А его будущие «подельники» уже сидели за решеткой, дожидаясь, кого и когда объявят главарем заговора.
Споря с «реабилитационной эйфорией», Карпов почти с маниакальным упорством настаивает на существовании «заговора Тухачевского», «Заговора военных», «заговора против Сталина…»
Разве он уже забыл о том, что его самого арестовали и судили, законопатили в лагерь именно «за участие в заговоре против существующего строя»!
Или он уже пересмотрел свои собственные предположения о злостном навете? Бывает и такое на склоне лет…
Впрочем, один из документов, представленных в книге «Генералиссимус», позволяет несколько иначе взглянуть на события той поры, о которых идет речь.
Карпов приводит отрывок из книги родственницы Тухачевского Лидии Норд, вышедшей в Париже под названием «Маршал М. Н. Тухачевский».
«…Мне совершенно непонятно германофильство Сталина, – говорил Михаил Николаевич. – Сначала я думал, что у него только показной интерес к Германии, с целью показать „свою образованность“… Но теперь я вижу, что он скрытный, но фанатичный поклонник Гитлера. Я не шучу. Это такая ненависть, от которой только один шаг до любви… Стоит только Гитлеру сделать шаг к Сталину, и наш вождь бросится с раскрытыми объятиями к фашистскому вождю…»
Как известно, Гитлер такой шаг сделал в августе 1939 года.
И, как известно, Сталин бросился с раскрытыми объятиями к фашистскому вождю.
Затем наступила ночь 22 июня 1941-го…
И к этому часу лучшие военачальники страны, во главе с маршалом Тухачевским, были истреблены.
Спрашивается: кто же на самом деле взлелеял в стране «военно-фашистский заговор»?
Неужели мы и по сей день не смеем называть вещи своими именами?
Тогда поделом нам наши горькие разочарования.
День за днем шли допросы.
Теперь, через десятки лет, вороша кипы обветшалых бумаг в расстрельных папках, только диву даешься: ну, как же они, те, что затопили эту кровавую баню, и те, что поддерживали в ней адский жар, когда счет жертвам шел на тысячи и сотни тысяч, – как они успевали все это дотошно протоколировать, уснащать описями, росписями, датами, справками, вести почти бухгалтерский «приход-расход»?..
То ли они, действительно, верили, что смогут оправдаться в глазах потомков – мол, всё правильно, сами смотрите, такие дела, комар носу не подточит, – то ли им было в высшей степени наплевать на потомков и на то, кто что скажет, а было лишь старание угодить тогдашнему начальству: вы велели – мы сделали, как было велено, вот, все бумажки налицо, в полном порядке, какой с нас спрос?..
Но спрос, всё равно, был.
И был изначальный – сатанинский! – смысл во всей кровавой круговерти тридцать седьмого.
Потому что, в итоге, пуля в затылок была заранее предназначена всем, кто участвовал в этом действе, независимо от того, кому какая роль была отведена в экспозиции, в завязке… Свидетель давал показания против обвиняемого; потом, вслед за обвиняемым, расстреливали свидетеля (ведь его показания уже были запечатлены в протоколе, зачем он дальше?); потом ставили к стенке того, кто, высунув от тщания язык, вел этот протокол слово в слово; потом – того, кто протокол читал; а следом того, кто выносил приговор, кто его приводил в исполнение… и, в самом конце цепочки, вели в расстрельный подвал крестного отца всей «ежовщины», самого наркома внутренних дел, Ежова, и он, заложив руки за спину, ступая крохотными ножками пигмея, распевал срывающимся голосом «Интернационал»!..
Здесь нет гротеска, нет никакой фантазии – именно так и было.
Достаточно проследить, день за днем, ход допросов по делу Рекемчука, чтобы убедиться в этом.
Вначале тянули признания из него самого.
Факты биографии, служебные коллизии, которые возникали уже и раньше, и тогда же, по горячим следам, проверялись самым тщательным образом, и тогда же отвергались, как несостоятельные, – теперь всплывали снова, приобретали двоякий либо однозначно-уличающий смысл, и даже от бесстрастной записи протокола веет полной безнадегой…
Я намеренно привожу те ситуации, которые читателю уже известны.
Допрос 16 июля 1937 года.
Воп. Кто Вам поручил вербовку Смеркиса?
Отв. Никто. Сделал я это по своей инициативе. Смеркиса я знал по Бессарабии с положительной стороны.
Воп. Следствие располагает данными, что Смеркис являлся агентом сигуранцы, о чем Вам было известно. Подтверждаете ли Вы это?
Отв. Нет, не подтверждаю, т. к. ничего о связи Смеркиса с сигуранцей я не знал и не знаю.
Воп. Куда вы выехали из Праги?
Отв. Из Праги я выехал в Париж.
Воп. Поездка в Париж была предусмотрена Вашим маршрутом?
Отв. Нет, т. к. из Праги я согласно полученному заданию должен был выехать в Румынию.
Воп. Значит, в Париж вы выехали самовольно?
Отв. Да, самовольно.
Воп. Зачем Вы ездили в Париж?..
При этом на столе у следователя, в закрытой папке, уже лежат служебные объяснения десятилетней давности, где, в частности, упомянуты жена и дочь, проживающие именно в Париже…
Этот мотив, уличающий обвиняемого в его преступных связях с заграницей, с близкими людьми, проживающими за границей, как и, вообще, сам факт того, что обвиняемый бывал или даже жил за границей, приобретает к тридцать седьмому году характер уличения в преступной деятельности, в измене родине.
Иногда, к ликованию следствия или суда, к нему прибегают даже сами подследственные, сами подсудимые.
Вот короткий отрывок из последнего слова комкора Виталия Примакова в судебном присутствии Верховного Суда СССР 11 июня 1937 года, на так называемым «процессе маршалов»:
«…Я составил себе суждение о социальном лице заговора, то есть из каких групп состоит наш заговор, руководство, центр заговора. Состав заговора из людей, у которых нет глубоких корней в нашей Советской стране, потому что у каждого из них есть своя вторая родина. У каждого из них персонально есть семья за границей. У Якира – родня в Бессарабии, у Путны и Уборевича – в Литве, Фельдман связан с Южной Америкой не меньше, чем с Одессой, Эйдеман связан с Прибалтикой не меньше, чем с нашей страной…»
А у Тухачевского, добавим теперь, прочтя книгу Владимира Карпова, оказывается, была родственница в Париже, с которой он иногда встречался.
Всех, кого назвал комкор Примаков, расстреляли на следующий день, 12 июня 1937 года.
Его самого тоже.
Допрашивали свидетелей.
Одним из свидетелей, которые проходили по делу Е. Т. Рекемчука, был Лев Николаевич Зиньковецкий, более известный в художественной литературе и кинематографе как Левка Задов.
Со слов моей матери я уже знал, что в конце двадцатых годов он работал в Иностранном отделе Одесского Чека.
Сдается, что ни для кого – ни для начальства, ни для окружающих, – не были тайной смачные факты его биографии: он служил в Красной Гвардии, потом переметнулся к батьке Нестору Махно, сделался его правой рукой, колоритной и устрашающей фигурой бандитского Гуляйполя. После разгрома махновщины, перебивался случайными заработками всё в той же Бессарабии, сидел в тюрьме в Польше. В 1924 году вернулся в Советский Союз, где его связи с махновским охвостьем за кордоном оказались весьма кстати. Он даже был награжден Золотым оружием «за беспощадную борьбу с контрреволюцией»… Но в августе 1937 года арестовали и его.
Судя по протоколам допросов, которые мне довелось читать, Левка Задов был не слишком осведомлен в делах того направления, которым занимался мой отец, и потому, хорошо понимая, чего от него ждут, обзывал «Киреева» (он обходился именно этим псевдонимом) «румофицером», то есть румынским офицером, нажимал на то, что раньше тот служил в царской армии. Не брезговал грязной руганью и бытовой сплетней…
Его расстреляли в сентябре 1938 года.
Но были в этом ряду дознаний и совершенно другие ситуации, пройти мимо которых – значит взять грех на душу.
Особо здесь следует выделить трагические подробности допроса Владимира Максимовича Пискарева, фамилия которого тоже встречалась в предыдущих главах. Он был начальником Иностранного отдела Одесского НКВД – то есть, по службе мой отец был его подчиненным. Но, судя по всему, их связывала еще и крепкая дружба.






