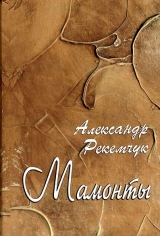
Текст книги "Мамонты"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц)
Александр Рекемчук
МАМОНТЫ
Nous ne garantissons pas l’authenticité de ce Recueil, et que nous avons même de fortes raisons de penser que ce n’est qu’un Roman.
Choderlos de Laclos.Les Liaisons Dangereuses.Avertissement de l’editeur.
Мы не можем поручиться за подлинность этого собрания писем и даже имеем весьма веские основания полагать, что это всего-навсего Роман.
Шодерло де Лакло,«Опасные связи».Предуведомление издателя.
Мамонты
Прибытие поезда
За час до прибытия в Харьков я вышел из купе и приник к окну, тому, что слева по ходу поезда.
Можно было бы и остаться в купе, там удобней, сиди себе на мягком диване за стаканом чая, покуривай, пускай дым в приспущенное окошко – впрочем, к той поре я уже бросил курить, – смотри, вспоминай…
Но надо было дать возможность Луизе причепуриться перед выходом на люди.
Кроме того, память подсказывала мне, что тот мальчик сидел на песчаном откосе, над путями, по левую руку, если поезд следует из Москвы.
Колеи железной дороги рассекали холм, громоздя ярусами песчаные берега. По верху кустилась дернина, а дальше стояли сосны с огненными стволами, будто бы опаленными, обугленными у корней.
Под соснами паслись коровы, на шее одной из них, черно-белой, как старое кино, позвякивало ботало, колоколец, наверное эта корова была по натуре бродяжкой, гулёной.
Мальчик сидел на краю обрыва, свесив ноги в дырчатых сандалях, подперев кулачком подбородок.
У него была ярко-рыжая голова, щедро окрапленный веснушками нос, белая кожа, которую не брал загар (весь пигмент ушел на веснушки), серые глаза, иногда, при взгляде вверх, перенимавшие синеву неба.
Этим мальчиком был я. Мне было семь лет, но я еще не учился в школе, потому что мой день рождения приходился аккурат на середину учебного года, и там, в школе, сказали: пусть поступает на следующий год.
А куда деваться до следующего года? Меня, переростка, оставили в детском саду, в старшей группе, а потом весь детсад вывезли за город, в Лозовеньки, райский уголок, вторая зона, тут мы и жили.
Любимым местом прогулок почему-то был именно этот травянистый откос под сенью вековых сосен, в полосе отчуждения, над железнодорожными путями.
Может быть, именно потому, что здесь идиллический сельский пейзаж был взбодрен рабочим пульсом жизни, нервной энергией времени.
Едва ли не каждые пять минут за поворотом вздымался стремительно движущийся султан. Паровоз вырывался на прямую перегона, таща за собою громыхающий состав товарняка, груженные лесом платформы либо, не столь часто, вереницу зеленых пассажирских вагонов с занавесками в окошках…
Вот как эта занавесочка с вензелем Министерства путей сообщения, что сейчас висит, будто слюнявчик, у подбородка.
Для своего возраста я уже неплохо разбирался в паровозах.
С первого взгляда опознавал по приземистым хищным статям, по укороченной трубе мощный ФД (то есть Феликс Дзержинский, это я тоже знал), который с невероятной скоростью, будто пушечный снаряд, волок за собою состав маслянистых нефтяных цистерн.
Я знал в лицо и вальяжный напористый ИС (то есть Иосиф Сталин, это знали все), он работал шатунами колес, словно жвалами, притом шатуны и колеса были выкрашены яркоалой краской, э передняя тележка напоминала своим гребнем водосброс плотины Днепрогэса, который я знал по плакатам, он был там столь же обязательным, как красная звезда, как серп и молот, как пшеничные колосья, – вообще этот ИС был красавцем!
Гораздо меньший интерес представляли для меня паровозы серии СУ: во-первых, их было слишком много, они проезжали чересчур часто, а во-вторых, я не знал тогда и до сих пор не знаю расшифровки этих букв.
Возможно, страсть к созерцанию несущихся паровозов была судьбинной, знаковой, была предвестьем моих скитаний по стране и миру, с юга на север и с запада на восток.
Еще в детстве я проехал на подножке эвакуационного товарного эшелона – с подножки было видней, – от Сталинграда до Барнаула, крюк через Алма-Ату. Потом в товарном же составе, с пушками на платформах, проделал обратный путь – от Бийска до Москвы, вместе с артиллерийской спецшколой.
Позже, разгонным корреспондентом газеты, ездил от Княж-Погоста до Воркуты, видел составы с узниками, которых тысячами везли в заполярные каторжные лагеря. А оттуда катились на юг эшелоны с углем, присыпанным снегом, нефтеналивные цистерны, платформы со строевым лесом. Между прочим, их волокли паровозы незнакомого мне типа: это были трофейные германские паровозы вторжения, приспособленные к русской колее.
Но это уже другой разговор – о маршрутах жизни.
Покуда же речь идет о самих паровозах.
Полагаю, что в детстве паровозы впечатляли меня не только своею мощью, не только грохотаньем, не только пронзительной силой гудка, – но, вероятно, они питали и зарождающееся в юной душе эстетическое чувство, вызывали благоговение перед прекрасным, ибо такова была эстетика той эпохи.
Я понял это спустя много лет, в Париже, выйдя однажды из метро близ Улицы Архивов, у Бобура.
Переходя дорогу, глянул налево – и увидел собор Парижской Богоматери, подпирающий башнями небо подобно атланту.
Посмотрел направо – и отпрянул в испуге: на меня неслось чудовище, обвитое со всех сторон, как кишками, железными трубами, в шипах, в чешуе, в пупырьях, – здание Центра искусств имени Жоржа Помпиду.
Оно было похоже на слона, забредшего в посудную лавку.
И еще на паровоз, ненароком въехавший в луврский зал эпохи рококо.
Тут всё было повторением паровоза: и эти выставленные наружу котлы, и трубы, и шатуны, и колеса, и мостки с перилами вдоль главного котла. Тот же материал, та же клёпка, та же яркость раскраски: желтый, синий, пунцовый, без оттенков, без полутонов…
И когда испуг прошел, во мне вдруг взыграло то же чувство восхищения и восторга, которое я испытывал в раннем детстве, в Лозовеньках, под Харьковом, видя вырывающийся из-за поворота грохочущий, пронзительно голосящий, окутанный дымом паровоз.
Известно, что необычный облик Центра искусств на Бобуре был определен дерзким инженерным решением: вывести наружу все коммуникации – отопление, вентиляцию, энерготехнику, лифты, эскалаторы – то есть все системы жизнеобеспечения, чтобы в самих выставочных залах оставить место лишь искусству, его смыслу и форме.
И мне вдруг подумалось, что в этой книге я должен следовать тому же принципу: обнажить все приемы, все средства повествования – документ, репортаж, дневниковые записи, эссе, и то, что в кино называют игровым эпизодом, – ради единственно стоящей творческой цели: ради правды.
Ход моих размышлений был прерван звоном колокольчика. Уже настроившись на волну внезапных ассоциаций, цветовых и звуковых аллюзий, я предположил, что это звенит наяву ботало на вые чернобелой гулящей коровы, пасущейся в моих воспоминаниях… о, как в этот волнующий час всё вокруг обретало реальность!
Но оказалось, что это шествует по узкому вагонному коридорчику, даря улыбки встречным, московская поэтесса Лариса Васильева – очень хорошая поэтесса и неотразимо красивая женщина. Так вот: у нее на шее было ожерелье, к низу которого прицеплен изящный колокольчик, мелодично позванивающий в такт ее шагам, в лад колыханью ее груди. Он как бы оповещал о ее царственном приближении.
Между прочим, именно в ту пору, когда мы вместе ехали в Харьков – май 1980 года, – Лариса Васильева, харьковчанка по рождению, писала книгу воспоминаний о своем отце, инженере Николае Александровиче Кучеренко, одном из создателей легендарного танка Т-34. Эта книга еще не была написана, стало быть – еще не была прочитана, и я, конечно, еще не мог знать, что наши темы, наши интересы, наши цели в этой поездке столь близки! Но, вероятно, само ощущение творческой близости пронзало нас живым током, и мы, встретясь взглядами, обменялись улыбками.
Я догадался, что в этот вагон скорого поезда специально насовали писателей, связанных землячеством: тех, которые родились в Харькове, тех, которым посчастливилось, подобно мне, здесь жить и учиться, тех, которые воевали под Харьковом. Либо просто имевших здесь родственников, которых, вот удача, можно было навестить за казенный счет.
И когда, щелкнув запором, откатилась дверь соседнего с моим купе, я предположил, что сейчас оттуда выйдет еще кто-нибудь из неугомонных харьковчан.
Но оттуда вышел собственной персоной Георгий Мокеевич Марков, первый секретарь Союза писателей СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета и прочая, и прочая, и прочая.
Я даже немного испугался: ведь я и не знал, что он едет в соседнем купе, а вдруг минувшей ночью, во сне, я слишком сильно храпел или чересчур громко пукал, а между нами была всего лишь тонюсенькая перегородка, ну, просто стыд и срам… Ведь, шутка ли, главный писатель страны!
Тем более, что он меня недолюбливал.
А я платил ему тем же, и он знал об этом.
Но сейчас – в пути, в благополучной близости к цели нашего общего вояжа, в предощущении праздника, который нам всем был уготован, в ослепительном сиянии майского утра, – было бы грешно раздувать неприязненно зобы.
Мы обменялись крепким рукопожатием.
– Волнуетесь? – подмигнул он мне. – Знаю, знаю – родина…
– Ну, не совсем, чтобы родина… – забормотал я, уже устав объяснять всем и каждому, что родился я не в Харькове, а того лучше – в Одессе. – Но, вобщем, корни здесь: дед, бабушка, мама, дяди-тети. И в школе здесь учился: школа № 1 имени Ленина…
– Знаю, знаю: вместе с Сергеем Сергеевичем Смирновым. Жаль вот, не дотянул Сережа до этих дней. А то бы ехал вместе с нами…
Он всё знал про меня и про всех. Так ведь ему и положено.
– Но в нашей школе учился не только Сергей Сергеевич Смирнов, – заспешил я пополнить круг его знаний. – Тут училось много писателей, много знаменитостей: Павел Железнов, поэт, Лидия Некрасова, детская писательница, кинорежиссер Сергей Юткевич, тот, который снял «Человека с ружьем», и «Встречный», и «Отелло», и «Сюжет для небольшого рассказа»…
– Да-да, – кивал Георгий Мокеевич, – я знаком с Сергеем Иосифовичем.
– А еще – Петр Лидов, который первым написал о Зое Космодемьянской, потом он погиб на фронте. И Михаил Кульчицкий – вы помните его стихи: «…не до ордена, была бы родина…» – он тоже погиб на войне. Между прочим, в Харькове живет его сестра, Олеся Кульчицкая, мы с нею переписываемся, а в этот приезд должны встретиться…
Марков посмотрел на меня одобрительно, как бы давая понять: правильно, никогда не уклоняйтесь от встреч, от бесед с людьми, выслушивайте их, выведывайте, чем они живут – прямой писательский долг…
И тут я вспомнил еще одно золотое правило, преподанное мне знакомым человеком со Старой площади, из ЦК: если тебе выпала встреча с могущественным человеком, из самых верхов, – никогда не задавайся, не выпендривайся, не делай вида, что у тебя всё есть и тебе ничего не надо. Наоборот, обязательно обратись к нему с какой-нибудь просьбой. Проси!.. Иначе он может заподозрить тебя в том, что ты его ни в грош не ставишь…
– Георгий Мокеич, – сказал я проникновенным тоном, – вы знаете, Олеся Кульчицкая, хотя она и младшая сестра поэта, но уже в годах. У нее проблемы со здоровьем. То и дело приходится вызывать врача, а домашнего телефона нету…
Марков коротко кивнул. Мол, всё понятно, одна из самых распространенных просьб: либо помочь с жильем, либо помочь с установкой телефона…
– Попробуем, – сказал он. – Поговорю со здешним начальством. Надеюсь, уважат нас, писателей.
Я искоса взглянул на него, благодарно, почти нежно.
У него было благообразное, но совершенно бабье лицо. То есть, лицо стареющей бабы, стриженной под мальчика, чтобы согнать года. Вислые щеки, губки бантиком, глазки в морщинистых веках.
Но нет! Я тут же укорил себя за ошибку в словесном портрете. Нет-нет, у него было вовсе не бабье, а скопческое лицо, столь характерное для советских вождей: Маленков, Суслов, Гришин. Тем более, что он – сибиряк родом, а там, известно, что за публика обитала: скопцы, хлысты, духоборы…
Впрочем, опять я согрешил: какое же скопчество, если у него – жена, дочери, притом все, как один, писатели!
Поговаривали, что Андропов, будучи шефом Лубянки, пытался привлечь внимание партийного руководства к баснословным доходам Маркова, которые противоречили даже весьма растяжимым нормам совкового аскетизма.
Всё это приобретало тем большую скандальность, что было известно: Марков, загруженный под завязку служебной деятельностью в Союзе писателей, пишет свои романы не сам, а использует для этой цели негров – писателей помоложе годами и побойчее пером, нуждающихся в заработке и надеющихся таким способом отвоевать и для себя место под солнцем.
Говорили, что на Маркова работает целое «негритянское гетто». Называли имена и фамилии писателей небесталанных, еще недавно ярко дебютировавших в печати, в частности – в популярном журнале «Юность», а потом вдруг исчезнувших с горизонта, заглохших в подполье…
Так вот, при всей неприязни к Маркову, которой никогда не скрывал, я, всё же, беру под сомнение эту легенду.
Поскольку я лично знал этих ребят, своих литературных сверстников, которых молва зачислила в «негры».
Нет и нет! Никто из них, ни за какие деньги, даже при всем старании, даже по принуждению, из-под палки, не смог бы сочинить столь бездарные тексты, как те, что выходили из-под пера самого Георгия Мокеича.
Марков был достаточно сметлив, чтобы уловить и прочувствовать мой внутренний монолог.
– Подъезжаем, – сказал он и, повернувшись, скрылся в купе.
Согласно протоколу, он первым появился в тамбуре вагона и, прежде чем взяться за поручень, только что протертый от гари и пыли влажной тряпочкой, ласково поблагодарил проводницу за чай-сахар.
У вагона толпилась стайка школяров в пионерских галстуках. В руках одной из девочек был пышный букет майских тюльпанов. За ними маячили озабоченные лица учителей, которые более всего боялись обознаться.
Они смотрели сквозь него, будто бы он прозрачный.
Я же, хоронясь за его спиной, радовался тому, что они прибыли на вокзальный перрон без горнов, без барабанов, а то, ко всему прочему, тут было бы звону.
К счастью, он быстро сообразил, что встречают не его, оглянулся, потеснился, пропустил меня вперед и, сверх того, подарил мне настолько ласковую улыбку, что я понял: теперь мне каюк…
Однако к вагону уже подгребала целая команда осанистых мужиков в добротных костюмах, при галстуках, а у некоторых – в том был особый шик и смысл – ворот рубах был стянут шнурками с бомбошками, а ниже, во всю грудь, во всё пузо, красовался вышитый пестрый орнамент.
Ихний букет, я сразу эта заметил, был куда богаче, нежели школьные тюльпаны, предназначенные мне.
Георгия Мокеевича Маркова заключили в объятия, наградили смачными поцелуями, он сразу же отмяк, почувствовал себя в привычной обстановке и, как я мог надеяться, забыл обо мне.
Взяв под белы руки, его повели к обкомовскому членовозу.
А нас на вокзальной площади ждали автобусы.
Мы договорились с посланцами школы № 1 имени Ленина о том, что я там буду в четверг.
Караван автобусов, предводительствуемый милицейской «Волгой» с мигалками и сиреной, понесся по улице Свердлова, бывшей Екатеринославской.
Я посадил Луизу к окошку, чтобы ей было удобней смотреть, а сам примостился сбоку, объяснять – что и где в этом распрекрасном городе моего детства.
Тух, однако, я вспомнил, что несколько лет назад – в семьдесят четвертом, и тоже весной, – мы уже приезжали с нею в Харьков. Мне нужно было освежить в памяти адреса домов, где я жил когда-то, лики улиц, по которым так любил слоняться. Но более всего я хотел дать душе ту полноту ностальгических чувств, без которых нельзя написать книгу о прошлом.
И тогда, в тот приезд, я торопился показать Луизе места, так или иначе связанные с событиями моего детства. О, это были громкие события, отнюдь не предназначенные для детского чтения! Я показывал жене места действия и, волнуясь, объяснял, что и как тут было, чем закончилось, и что было после того, как всё закончилось…
Но тогда я рассказывал ей обо всем так подробно и так дотошно, что было бы странным сейчас повторять это сызнова. Может быть, ей это уже не покажется интересным.
Я не хотел повторяться.
Но и не мог, пребывая в возбуждении, всегда свойственном человеку при встрече со своим прошлым, оставаться безмолвным, безгласным, немым.
Я повел свой рассказ не вслух, а мысленно, как бы для самого себя.
Смотри, смотри!.. – говорил я самому себе. – Это Благовещенский собор – какая Византия, не правда ли?.. А рядом с ним – Благбаз, то есть базар у Благовещенского собора. И в этом сокращении – весь Харьков. Смешно? Нет, никто не смеется…
А вон там – Университетская горка. Сейчас будет мост через реку Лопань. Тут, на Лопаньской стрелке, стояла гостиница «Спартак». Это была не простая гостиница, а нечто подобное мадридскому отелю «Флорида», который Эрнест Хемингуэй описал в «Пятой колонне». Помнишь? То ли общежитие профессиональных революционеров, то ли их боевой штаб… И я не только видел в детстве эту гостиницу и ее обитателей. Я жил в ней, жил среди них, жил целый год!..
А в войну гостиницу «Спартак» взорвали, видишь, до сих пор – пустое место… Кто взорвал? Гм, в Харькове не принято задавать подобные вопросы. Потому что полгорода, уходя, взорвали сами, чтоб не досталось врагу, а остальное взорвали немцы… Едем дальше.
Автобус вырулил на площадь Розы Люксембург. Справа было огромное здание, которое, в бытность мою харьковчанином, называлось Дворцом Труда, не знаю, как теперь. А напротив него высились мрачные дома с угловыми башнями, подобные средневековым крепостям. Но я знал, что это никакие не крепости, а гостиницы «Интуриста». В одной из них служила моя мама, и там я тоже бывал не раз, бегал по коридорам… Ладно хоть эти здания стоят на прежнем месте.
Но за следующим поворотом сердце мое горестно сжалось.
Нету!.. Хотя я и знал, что его давно нету, но почему-то еще надеялся, что, может быть, мне лишь показалось, что нету, а оно есть. Но его не было…
Представляешь, – говорил я самому себе, – это было прекрасное, белоснежное, лебединой красоты здание. Белый мрамор и снаружи, и внутри. Бывшее Дворянское собрание, построенное в честь победы над Наполеоном. А в советские времена, когда Харьков еще был столицей, здесь размещался Всеукраинский исполком. Когда же столица переехала в Киев, что было делать с таким распрекрасным дворцом? Его отдали детям. Шесть белоснежных колонн увенчали фигурами шести пионеров, трубящих в горны…
Я чуть ли не каждый день бывал в этом дворце. Занимался в авиамодельном кружке, а еще в литературном. А еще в белоколонном зале этого дворца целый день, с утра до вечера, крутили фильмы – «Остров сокровищ», «Новый Гулливер», «Дума про казака Голоту» – и я по сто раз смотрел каждую из этих картин… Деньги? Какие деньги? Нам тут целый день бесплатно крутили кино…
Где же он, этот Дворец пионеров? Его нет, его взорвали… Кто взорвал? Но в Харькове не принято задавать подобные вопросы.
Так. Сквер на Театральной площади. В одном конце сквера стоит бронзовый Гоголь, в другом – бронзовый Пушкин. Они отвернулись друг от друга, будто рассорившись насмерть. Сейчас им крикнут «Сходитесь!», и они повернутся, вскинут пистолеты…
За сквером – здание Госбанка, построенное академиком Бекетовым.
«Смотри, это – академик Бекетов… – шептала мне мама, показывая седобородого старичка, который каждый день, в одно и то же время, степенно шествовал с шишковатой тростью по улице Дарвина, по бывшей Садово-Куликовской, где мы жили некоторое время. – Это архитектор Бекетов, – объясняла мне мама. – Он построил весь Харьков…»
Да, я уже знал, и весь Харьков знал, что этот старичок построил и громадное банковское здание на Театральной площади, и Сельскохозяйственный институт на улице Артема, и Дом ученых на Совнаркомовской, и библиотеку на улице Короленко, и школу на улице Дарвина, в которой я учился, весь центр, весь город…
Я даже предполагал, что он каждый день, с самого утречка, берет в руки, для порядка, шишковатую трость и отправляется в обход харьковских улиц, где стоят построенные им дома. Все ли они на месте? В должном ли виде? А то, неровен час, оставишь их без присмотра, и они исчезнут, будто их никогда и не было…
Но позже я догадался, что старичок-академик, наверное, просто ходил в одно и то же время обедать в столовку Дома архитекторов, который тоже располагался на улице Дарвина. Я туда тоже иногда наведывался: мама посылала меня в эту столовку с судками, я брал обеды на дом, чтобы не сдохнуть с голоду, покуда она на работе, да и ей самой когда куховарить?
…Интересно, а что думал академик Бекетов, построивший весь Харьков, о небоскребах на площади Дзержинского, которые, вот уж точно, построил не он?
В окне гостиничного номера стояли, как на параде, небоскребы Госпрома.
Они были подобны горному хребту, над которым славно поработали кубисты, убрав диагонали, стесав острия, выпрямив всё, что есть: стены, кровли, порталы, проемы окон – всё подчинив прямой линии, всё возведя в квадрат.
Вершины горного хребта состязались между собою, не признавали чужого первенства, каждый пик норовил показать себя наособицу. За каждой башней, устремленной в небеса, тянулись башенки пониже рангом. Они отгораживались друг от дружки пустотой, но, вместе с тем, не порывали связей, сообщались между собою крытыми переходами, зависшими над бездной.
И не так уж заоблачны были эти высоты! Вся игра шла на уровне полутора десятков этажей. Но именно перепад высот создавал эффекты взлетов и падений, от которых перехватывало дыхание…
Всё это чудо было в окне, как на ладони.
Я не случайно акцентирую это выражение: как на ладони.
Потому что эффект Госпрома создавался не только цепью его зданий, но и площадью, распростершейся перед ним.
Говорят, что подобной площади нет нигде в мире! В сравнении с нею Красная площадь у стен Кремля кажется пятачком, плешкой. Да и знаменитая площадь Святого Петра в Ватикане, в Риме, не выдерживает сравнения.
Казалось бы, чего уж хвастаться самым большим пустырем в мире?
Но теперь эта площадь вовсе не выглядела пустынной и голой. Она была расчленена на фрагменты, оживлена множеством оазисов, на которых колышут свежей листвой деревья, пестрят цветами клумбы. Гранитные парапеты и фонарные мачты организуют пространство, вводят его в должные рамки, а внушительный памятник Ленину оттягивает на себя часть внимания, которое, всё равно, возвращается к Госпрому…
А ведь я помню эту площадь совершенно голой, хоть шаром покати.
Но тогда по ней катились не шары, а танки.
Грозные гусеничные крепости, на которых вращались броневые башни, а из башен торчали пушечные стволы внушительных калибров, из люков высматривали наземные цели пулеметы, а другие пулеметы, спаренные, в это время обшаривали небо: нет ли там чужих, залетных крыльев? нет, все крылья наши…
От рева мощных дизелей и грохота гусеничных траков закладывало уши. Сизый дым выедал глаза.
Но чувство ликования перекрывало все эти неудобства. Ведь было совершенно ясно, что на свете нету силы, способной противостоять этой силе.
И нету в целом мире площади, лучше приспособленной для первомайских военных парадов.
А через несколько лет – всего лишь через два года, – для этой гигантской площади нашлось еще одно практическое применение.
Немцы согнали на эту площадь восемьдесят тысяч харьковских евреев, построили их в колонны и погнали по Сумской, по Старомосковской, по шоссе к Тракторному заводу, где уже были вырыты рвы и где стояли со «шмайсерами» наготове расстрельные команды…
Лучше повернем время вспять, вернемся к добрым старым временам, хотя еще вопрос: а бывали ли они вообще?
Вернемся к Госпрому.
Его начали строить в 1925 году, а закончили в двадцать восьмом, когда Харьков еще был столицей Украины.
В этой затее, конечно, угадывалось желание превзойти всех, утереть всем нос, показать и своим, и чужим, где раки зимуют.
Но когда дело было сделано, гордыня, тщеславность намерений, все эти соображения отступили на задний план.
А на переднем плане осталось фантастическое и прекрасное сооружение.
Гребень разновеликих небоскребов (по-украински – хмарочесов, тоже красиво), обступивших полукольцом громадную площадь.
Тогда в ходу была легенда, будто бы Госпром построили американцы, специально приглашенные в Харьков для этой цели. Что именно они возвели все эти небоскребы – точь в точь как у них в Америке.
И тогда, мол, украинские зодчие решили дать бой самоуверенным янки и, в пику им, ударными темпами поставили на левом фланге ансамбля еще одно здание – Дом проектов, – который был на целый этаж выше Госпрома (тринадцать этажей, чертова дюжина, а здесь все четырнадцать, знай наших!..) и который своими изящными легкими статями как бы спорил с громоздкостью Госпрома.
Не знаю, что тут правда, а что – восторженный домысел.
Справочники называют авторами всего сооружения архитекторов Серафимова и Кравца, иногда добавляя к этим фамилиям «и др.» Может быть, именно в этих «и др». скрывались некие американцы? А может быть, этими недомолвками пытались прикрыть имена расстрелянных, замученных в тюрьмах людей? Потому что всю великую славу Харькова – его уникальные здания, его ядерные реакторы, неуязвимые танки, гигантские самолеты – всё это создали люди, фамилии которых были вычеркнуты из исторической памяти, и я далеко не уверен, что все они теперь возвращены.
Порою мне кажется, что само рождение американской легенды определено не фактом, а образом.
Дело в том, что ансамбль харьковского Госпрома обладает поразительным свойством: он воспроизводит не очертания какого-нибудь конкретного небоскреба (а тогда, в двадцатых, еще не были построены ни Импайр стейт билдинг, ни Крайслер, ни, тем более, близнецы Торгового центра), но воссоздает как бы весь массив Нью-Йорка целиком, всё гигантское столпотворение Манхэттена, каким он видится с Атлантики, когда подплываешь к Нью-Йорку пароходом или подлетаешь к нему самолетом, перемахнув океан…
И мне сдается, что необозримое, почти абсурдное пространство площади перед Госпромом выполняло еще и эту функцию: то есть площадь играла роль океана.
Именно так появился в этом городе собственный сверкающий парадный Манхэттен, любующийся своим отражением в атлантической глади асфальта.
И тут, очень кстати, я вспомнил об одной пустяковине, о клочке бумаги, заложенном в кармашек путевого блокнота.
Уже собираясь в Харьков, я случайно увидел в газете «Правда» от 3 мая 1980 года крохотную заметку, которая называлась «Мамонт… из метро».
«Харьков, 2 (Корр. „Правды“ И. Лахно). На шестиметровой глубине строители станции метро „Площадь Дзержинского“ обнаружили диковинные кости. Вскоре сюда прибыли палеонтологи музея природы Харьковского университета и установили, что метростроевцы откопали останки мамонта.
– Это не первый случай подобных находок в черте города, – сообщил директор музея Л. Корабельников. – Здесь же в 1925 году во время рытья котлована под дом были извлечены бивни мамонта.
Самый удивительный и ценный для палеонтологов клад был скрыт под толщей земли в древней пойме реки Харьков, в районе поселка Журавлевка. Тут при прокладке туннеля нашли целое кладбище вымерших животных».
Я вырезал эту заметку из газетного листа, сунул в кармашек блокнота, а сейчас извлек ее оттуда, внимательно перечитал.
«…строители станции метро „Площадь Дзержинского“ обнаружили…»
То есть, это было где-то здесь, рядом с гостиницей, в которой нас поселили, а точнее – под нами.
Не знаю, как насчет двадцать пятого года – тогда меня еще не было на свете, – но где-то в конце тридцатых, когда я уже был, по Харькову прошел слух, что возле зоопарка откопали мамонта. Может быть, об этом тоже сообщили газеты или передали по радио, но я узнал об этом из разговоров на школьной переменке.
После уроков отправился к зоопарку. Он был недалеко от нашей школы: пешком по улице Дарвина, пересечь Пушкинскую, чуть вверх, к городскому саду, где недавно поставили памятник Тарасу Шевченко. Сам с усам, под ним мужики с рогатинами, узники в путах, гайдамаки в шароварах, брошенки с младенцами. Да еще толпа ротозеев со всего города, явившихся созерцать это чудо, памятник, какого больше нет нигде, только в Харькове, у нас ведь всё самое лучшее на свете.
Но в эти дни толпа откочевала к зоопарку.
Здесь, за дощатой оградой, громоздились кучи рыжей глины, только что вынутой из ямы. Голые по пояс работяги орудовали лопатами, выбрасывали грунт в отвал. Бородатые старички в панамках заглядывали в ров и что-то записывали в свои тетрадки…
Из отрытого рва торчала огромная загогулина, похожая на корабельный якорь, на гигантский рыболовный крючок, на серп без молота.
Однако всё это не шло в сравнение с бивнем ископаемого мамонта, который торчал из ямы.
Глядя на эту невидаль, я краем уха вслушивался в пересуды.
Одни говорили, что бивень мамонта, конечно, больше, чем обычный слоновий клык, но сами мамонты не крупнее слонов, просто они очень косматы, потому и кажутся огромней и страшнее… Другие удивлялись такому совпадению, что мамонт сдох не где-нибудь, а прямо в зоопарке, вот ведь как угадал… Третьи же рассуждали о том, что вот, даже двадцать тысяч лет назад Харьков был центром притяжения, средой обитания мамонтов, то есть он гораздо древнее других городов, так, спрашивается, почему же украинскую столицу всё-таки перенесли в Киев?..
Еще в заметке, которую я вырезал из «Правды», говорилось о Журавлевке, где отрыли целое кладбище мамонтов.
А я и Журавлевку знал, как свои пять пальцев.
Потому что всякий раз, когда выпадало свободное от уроков время, я бегал через Журавлевку, через реку Харьков, через мост на Рашкину дачу, на Малиновскую улицу, где жили мои двоюродные братья – Юра и Коля Приходько. Ведь у меня не было родных братьев, сестер тоже, поэтому двоюродные братья были мне как родные.
(Не забыть бы и в этот приезд смотаться на Малиновскую, хотя теперь там никого из родни не осталось).
Так вот, бегая мальчишкой через Журавлевку, я даже не предполагал, что под моими ногами, под землей, схоронилось целое кладбище доисторических животных.
Лишь теперь я узнал об этом.
И это новое знание заставило меня совсем по-иному взглянуть на знакомый с детства городской пейзаж, что был сейчас в гостиничном окне.
Теперь, в зыбком мареве воздуха, колышущемся над разогретым асфальтом, он смотрелся уже не полукольцом конструктивистских бетонных небоскребов, не доморощенным Манхэттеном, любующимся собою в волнах океана, а иначе, совсем иначе.
Я вдруг увидел на этом пространстве, вдоль всего горизонта, шевелящуюся живую массу, подобную надвигающимся грозовым облакам.






