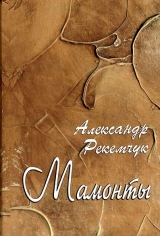
Текст книги "Мамонты"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
И когда ему, уже в третий раз, вручали статуэтку Оскара в переполненном сверкающем зале, он решил, как это принято, изречь слова благодарности тем, кто помог ему достигнуть успеха.
Дими (как тут его называли) сказал:
– Дамы и господа!.. Я работаю в этом городе свыше двадцати пяти лет и смею сказать, что Лос-Анжелес придает мне дополнительный творческий стимул… Но сегодня, помимо города, я обязан поблагодарить еще и Рихарда Вагнера, Иоганна Брамса, Иоганна Штрауса, Рихарда Штрауса…
Он собирался еще назвать Бетховена, Римского-Корсакова и других великих, чью музыку он обрабатывал для кино.
Но ему не дали договорить. Зал разразился истерическим хохотом, не смолкавшим десяток минут, зал лежал вповалку. Здесь, в Голливуде, вообще считали композиторов кино мастерами поживиться за чужой счет.
Знаменитый комик Боб Хоуп, ведший церемонию, бросил ему вслед:
– Я уверен, что вам больше не придется подниматься на эту сцену!..
Однако, спустя четыре года, он вновь получил Оскара – уже четвертого! – за музыку к фильму «Старик и море», по Хемингуэю, куда были щедро вплетены испанские мотивы и ритмы.
Всего он написал музыку к ста сорока голливудским фильмам.
Но, приехав спустя почти полвека, домой, в Россию, он никогда – и я лично свидетельствую это! – не хвастал своими успехами на чужбине, своими наградами, своими деньгами.
Несмотря на случайные обмолвки и стариковские оплошности, он был предельно осторожен, осмотрителен, собран, замкнут.
Потому что он отдавал себе отчет в том, с какой целью предпринял это дальнее путешествие – через океан, – зачем ввязался в этот рискованный проект, в совместную работу с ничего не смыслящими в бизнесе совками: он приехал в Россию, чтобы сделать свой последний фильм. Фильм о Чайковском.
И эту особенность его поведения следует непременно учесть, возвращаясь к тому доверительному разговору, который он затеял со мной, когда мы чуть ближе узнали друг друга.
Напомню начало этого разговора.
Он сказал:
– Я живу в Беверли Хиллс… Вы знаете, что такое Беверли Хиллс?
Я ответил, что знаю, что слыхал. Что это в окрестностях Голливуда, в Калифорнии.
– Да, это самое лучшее место в Голливуде! – воскликнул он. – Там живут многие русские, очень известные люди. Моя соседка – Тамара Туманова, балерина. Она снималась у Джинна Келли в фильме «Приглашение к танцу», там она играет и танцует вместе с ним… Вы видели этот фильм?
Я признался, что не видел. Мы тогда много чего не видели. Но я сказал, что у меня есть кадр из этого фильма, кадр с Тамарой Тумановой, который я вырезал из польского журнала.
– Значит, вы знаете о ней? – весьма оживился он.
– Кое-что знаю…
Еще напомню, что в тот же вечер дома я торопливо перерыл фотографии в мамином бюваре. И нашел.
Я знал эти снимки с младенческих лет. И с тех же младенческих лет хранил семейную тайну: кто есть кто. Знать эту тайну было опасно, и я не доверял ее никому из посторонних людей.
И вдруг – оторопев от неожиданности, в чрезвычайной взволнованности, в тоске по утраченному отцу, по корням, – зная уже, почем фунт лиха, – я вдруг доверился человеку, который взялся невесть откуда, а точней – оттуда, и, выждав время, как бы невзначай спросил меня: «Значит, вы знаете о ней, о Тамаре Тумановой?» – «Кое-что знаю…», – ответил я.
Итак, первая загадка.
Могло ли всё это быть чистой случайностью?
Предположим, что могло. Жизнь, вообще, загадочна. Жизнь, вообще, случайна.
Я отдал снимки из маминого бювара Дмитрию Зиновьевичу Тёмкину, который через два дня улетал в Штаты, и попросил передать их соседке по Беверли Хиллс, балерине Тамаре Тумановой. Может быть, она узнает на этих детских фотографиях себя, может быть, ее обрадует давний портрет матери… Может быть, ее тронет та очевидность, что кто-то в далекой России, где она родилась, долгие годы хранил эти семейные раритеты. Может быть, в связи с этим, у нее возникнут какие-нибудь вопросы. Вот тогда…
Тёмкин улетел в Америку. И, как обещал, вернулся вскоре.
Он вошел в мой кабинет на «Мосфильме», сияя лучезарной улыбкой. И уже по этой улыбке я понял, что он приехал с добрыми вестями.
Он передал мне большой желтый пакет, в который были вложены две фотографии.
На одном снимке, который я уже описал ранее, Тамара Туманова была Одеттой в «Лебедином озере»: белая пачка, лиф с лебяжьими белыми перьями, укрывающими грудь, перьевой же белый шлем, так сильно контрастирующий с иссиня-черными волосами, темными глазами в опушке длинных ресниц. Извив шеи, который принято называть лебединым, жест руки, повторяющий мах крыла…
Наискосок фотографии – надпись пером, по-русски: «Александру Евсеевичу с моим приветом и лучеми пожеланиями. Тамара Туманова».
На втором фотоснимке она была уже не в гриме и не в сценическом одеянии, а просто в платье и романтической белой шали, накинутой на голову, ниспадающей округлыми складками к плечам. Взгляд темных глаз опущен долу…
Конечно, я был очень тронут и обрадован этим даром.
Меня даже не сильно озадачил холодок дарственной надписи, как бы заранее ставящий меня на место.
Но теперь, по прошествии десятилетий, когда уже открылись обстоятельства, приведшие к ошибке (моей ошибке!), когда сама ошибка, в конце концов, привела к счастливой находке, – я, всё же, никак не могу отмахнуться от вопросов, которые продолжают одолевать меня.
Итак, загадка вторая.
Почему она не сказала – хотя бы тому же Тёмкину, – что это не она.
Почему не захотела утешить меня другим радостным сообщением, через того же Тёмкина: что девочка в балетном трико – это, вполне очевидно, ее подруга по балетной школе в Париже, по сценическим дебютам, по жизни. Что ее тоже зовут Тамарой, о да, Тамара Рекемчук, Тамара Чинарова, а теперь Тамара Финч. Они сверстницы, и даже говорят, что они очень похожи друг на дружку, хотя я не уверена в этом… Где она теперь? Кажется, в Лондоне. Пишет статьи о балете… А вот эта густобровая дама – вовсе не моя мама, а ее мать, Анна Чинарова, когда-то обе наши мамы так заботливо опекали нас…
Почему она предпочла умолчать об этом? Ведь каким праздником могло бы стать для меня хотя бы слово!..
И опять, и опять, и еще раз я возвращаюсь к вопросам, на которые теперь уже никто не может дать вразумительного ответа.
Какую цель преследовал Дмитрий Зиновьевич Тёмкин, заведя со мною на «Мосфильме» разговор о Тамаре Тумановой?
Почему Тамара Туманова решила оставить меня в моем заблуждении?
Вот – третья загадка.
Снова вглядываюсь в снимок, где она – Одетта в «Лебедином озере».
Был ли в том лишь знак внимания к нашей с Тёмкиным кинематографической затее? Или нечто само собой разумеющееся: ну, конечно, Чайковский, а кто же еще? Ну, конечно, «Лебединое озеро», которое русским всегда кстати, на все случаи жизни…
В фильме «Чайковский», который вышел на экраны в 1970 году (его поставил режиссер Игорь Таланкин), нет балетных сцен. Есть симфонии, фортепьянные пьесы, оперы, романсы, а балетов нет: ни «Лебединого озера», ни «Спящей красавицы», ни «Щелкунчика», будто бы он их и не писал…
Есть лишь один эпизод – сразу скажем, не слишком удавшийся, – в котором балетное искусство предстает на экране неким сновидением, плодом воспаленного воображения.
Он посвящен любви Петра Ильича Чайковского к итальянской оперной певице Дезире Д’Арто. Биографы композитора, в том числе Нина Берберова, считают, что это – единственная женщина, в которую он был влюблен.
И авторы фильма, конечно, не могли упустить такой возможности.
На экране это выглядит следующим образом.
Петр Ильич Чайковский, которого великолепно играет Иннокентий Смоктуновский, в концертном зале слушает певицу. Она поет, конечно же, романс «Средь шумного бала», посвященный автором именно ей. Дезире Д’Арто в фильме играет Майя Плисецкая (мы помним, как она впечатлила Тёмкина в «Анне Карениной», в роли Бетси). Ее пение озвучено голосом Галины Олейниченко…
Как вдруг романс сменяется плавным Adagio из «Лебединого озера».
И, подчинясь музыке, певица преображается.
Она уже в белой пачке, лебяжьи перья обрамляют ее голову. Она скользит на пуантах по сцене. Как неповторимы движения ее рук, изображающие волнообразные полетные махи лебединых крыльев! Сколь феноменальна ее шея: да разве может быть у человека, у женщины, такая неправдоподобно длинная, поистине лебединая шея! И как она движется – ведь плывет, плывет…
В затемненном кадре появляется Петр Ильич Чайковский. Он завороженно следит за лебедью, плывущей вдоль сцены. Он попрежнему влюблен в Дезире, в желанную, которая, оказывается, не только поет, но еще и танцует!..
(«Это ему кажется…», «Это ему снится…» – объясняют друг другу на ушко догадливые зрители в зале).
Он вдруг почувствовал себя Принцем. Вот сейчас он поднимется на сцену, приблизится к ней – и навсегда исчезнет то, что всю жизнь терзало его сердце, то, что было его роком, его трагедией…
Принц протягивает руку к нежной девушке, к лебедю.
И вот ее рука встречно протянута ему. Ее рука в его руке.
Резкий аккорд заставляет вздрогнуть и Принца, и нас вместе с ним.
Принц поднимает взгляд: перед ним не белая лебедь, а черный лебедь – его проклятье. Не Одетта, а Одиллия. Олицетворение зла: вздыбленные черные перья на голове, черные крылья, гневные черные глаза, пронзающие насквозь…
Я опять беру в руки снимок, привезенный из Беверли Хиллс, тот, где Тамара Туманова – вся в белом, в лебяжьих перьях, где она – Одетта.
Теперь сомнений почти не остается: это был не столько подарок, сколько предложение. Это была фотопроба, может быть отобранная из ее более ранних спектаклей и фильмов.
Значит, Дмитрий Тёмкин хотел, чтобы Тамара Туманова сыграла в фильме «Чайковский» Дезире Д’Арто, а заодно и Одетту-Одиллию? И она хотела того же?
Что ж, вполне логично: ведь это совместная постановка, советско-американский проект. Как было бы славно, если б в этой ленте блеснул талант всемирно известной балерины, русской по рождению, но совершенно не известной на ее родине!..
Сдается, мы близки к разгадке.
Но что, в таком случае, означает другой фотоснимок, привезенный Тёмкиным из-за океана?
Тот, где она в белой шали, накинутой на голову, с печально опущенными долу глазами… Что означала эта меланхолическая фотография? Она такая в жизни? Или это роль? Но какая роль?
А что, если это заявка на роль баронессы фон Мекк, Надежды Филаретовны фон Мекк, благодетельницы, незримого ангела-хранителя Чайковского? Ведь по жизни и по сюжету они существовали порознь, между ними никогда не было непосредственного контакта. Эта драма полна смысла уже сама по себе.
Однако эту роль в кинофильме «Чайковский» проникновенно сыграла Антонина Шуранова.
Что же помешало Дмитрию Тёмкину и Тамаре Тумановой осуществить их вероятный замысел?
Что произошло в промежутке между проектом совместной постановки и его реальным производством?
И опять мне остается лишь поделиться догадкой.
Фильму помешал другой фильм. Несыгранную роль перечеркнула другая, сыгранная…
Аккурат в шестьдесят шестом году, в самый разгар хлопот Дмитрия Зиновьевича Тёмкина на «Мосфильме», на экраны мира вышла кинокартина Альфреда Хичкока «Разорванный занавес» (Torn Curtain), о которой в нашем Кинословаре 1970 года сказано коротко и внятно: антисоветский фильм.
Одну из ролей в этом фильме сыграла Тамара Туманова.
Бегло перескажу события этой ленты, посвященной весьма актуальной и зловещей теме того времени: охоте за секретами ядерного оружия. Американский ученый Майкл Армстронг (его сыграл Пол Ньюмен) приезжает в Европу на конгресс физиков, откуда его вместе с ассистенткой по имени Сара-Луиза умыкают советские и гэдээровские шпионы, увозят в Восточный Берлин, а затем в Лейпциг, чтобы вытрясти из него всё, что знает… Но как бы не так! Удалой Армстронг сам раскалывает тутошнего старчика-ядерщика и, считав с доски хитроумные формулы, убегает вместе с Сарой-Луизой восвояси… «Хватайте их! Это – американские шпионы…» – кричит по-русски с палубы корабля, указывая на плывущие в волнах головы беглецов, некая фуриозная дама в черных патлах, то ли из «Штази», то ли из КГБ, у которой в титрах нету ни имени, ни фамилии, а лишь шпионская кличка – Балерина…
Неужто эти черные патлы, похожие на черные перья, режиссер позаимствовал у балетной роковой Одиллии?
Вы уже догадались, кто сыграл Балерину в этом фильме.
Вы уже смекнули, что этот фильм так и не появился на наших экранах.
Повальный шпионаж. Шпион на шпионе. Двойные, тройные, серийные шпионы… погони, убийства, газовые духовки, трупы, зарытые у порога… сплошной Хичкок!
Полагаю, что сами создатели этого фильма были вусмерть напуганы собственным творением.
Думаю, что и сама исполнительница роли Балерины догадывалась, что теперь ей на «Мосфильме» ничего не светит.
А тут еще – мое неосторожное письмо.
Я спросил сестру:
– Вы не были знакомы с Дмитрием Тёмкиным?
– Была. Однажды в Лондоне он приходил ко мне в гости вместе с Джерри Севастьяновым, нашим общим другом. Между прочим, Джерри – племянник Станиславского…
– А о чем вы разговаривали?
– Сейчас уже не помню.
В воспоминаниях сестры ее последняя встреча с отцом запечатлена в нескольких деталях, подчас случайных, но милых, а подчас – очень ёмких, не по-детски глубоких.
Она рассказывает, как отец, вновь появившись в Париже, тайком от матери повел ее в магазин «Галери Лафайет» и там одел во всё новое с головы до пят: купил пальто, платья, туфли, кожаную сумку, забавных кукол… новые туфли были тесны, жали девочке пальцы, но она решила терпеть, чтобы этой болью умилостивить святых… чтобы ценой этой жертвы сохранить отца.
Ночи напролет родители спорили. Иногда этот спор делался чересчур резким, мама плакала. Тогда девочка забиралась к ним в постель и чувствовала, как рука отца тянулась к плечу жены, как он притягивал к себе ее голову.
«… Я просто ложилась между ними и обретала комфорт, тепло, покой в близости к этим двум людям, которых любила больше жизни», – признается она.
Что было причиной ночных споров?
Отец попрежнему настаивал на том, чтобы они вместе с ним ехали в Советский Союз.
Анна же не хотела и слышать об этом.
Сколь ни удивительно, важным звеном раздора было обучение маленькой Тамары в балетной школе.
Глава аккерманского рода Христофор Чинаров всё еще гневался из-за отъезда в Париж дочери Анны, ее супруга, бравого офицера, в котором хотел видеть преемника семейного дела, но тот не оправдал надежд, а также чернявенькой любимой внучки по прозвищу Жук, – он никак не хотел и не мог примириться с подобным вероломоством, с предательством интересов рода.
Единственным оправданием, которое родители могли привести в ответ, была балетная школа Тамары: ведь в Аккермане такой школы отродясь не было, а в Париже – целых три, если не больше… Где же еще учиться талантливому ребенку!
Но что бы сказал дед, узнав, что молодая семья отправилась из Парижа еще далее, в большевистскую Россию?
Тут бы он наверняка не стерпел обиды и, в сердцах, проклял бы всех – ни знать, ни слышать не желаю.
Между тем, отец доказывал, что нет на свете лучшего места для расцвета искусств – а в особенности классического балета, – нежели Советский Союз.
Он живописал, как в Большом театре, в Мариинке, в Харькове, Киеве, даже в Одессе воскрешаются традиции былых времен: как там ставят балеты на музыку Чайковского, Римского-Корсакова, создают новые представления, революционность которых очевидна уже из их названий – «Красный вихрь», «Красный мак», «Пламя Парижа»…
А поскольку для нового взлета искусств требовались юные таланты, повсюду – и в больших городах, и в малых, – открывались балетные школы, где опытные педагоги ставили эти таланты на ноги.
Причем в СССР, что крайне важно, всё это делалось совершенно бесплатно, за счет государства.
Какие блестящие перспективы открывались там для их дочери!
Но мать отвечала на это угрюмой непреклонностью.
Он уехал один.
«Больше я никогда не видела своего отца», – пишет Тамара.
Хранитель современного отдела Национальных Архивов Александр Ляба подвел меня и Марину Костикову к полке, на которой стояли двенадцать громоздких томов с уже потускневшим золотым тиснением корешков.
Это был доклад Министерства торговли и промышленности Франции по итогам Всемирной выставки 1937 года.
– Доклад был настолько трудоемким, – объяснял месье Ляба, – что его заключительные тома делались уже в сороковом году, то есть, когда уже шла война, то есть, pardonnez moi, s’il vous plait, когда в Париже уже были немцы… Вы понимаете, что это мешало работе исследователей – доступ к некоторым документам уже был затруднен… Vous comprenez?
Я кивал, делая вид, что секу с лета, даже до того, как Марина переведет мне его речь слово в слово.
Не скрою, мне очень нравилось, что в Национальных Архивах Франции столь внимательны к заезжим посетителям, столь любезны, что даже такое высокое начальство, как месье Ляба бросает все дела и лично сопровождает меня в хранилище.
Правда, советник Аристов – тот самый, что первым приветил мое появление в Париже, – намекнул, что посол Советского Союза, тоже лично, обращался по этому поводу в Министерство иностранных дел, а секретарь ЦК Французской коммунистической партии Гастон Плисонье звонил, кому надо, выражая особую заинтересованность в теме.
– Allors… – продолжал Александр Ляба, – обстоятельства, конечно, внесли свои коррективы в содержание доклада. Так, например, из текста, посвященного павильону Испании, были изъяты все упоминания о картине Пабло Пикассо «Герника», поскольку к этому времени власть в стране уже перешла к Франко…Je vois, que madame comprend tous, mais je voudrais ce monsier comprende tous aussi…
Я понял.
– Но десятый том правительственного доклада, в котором речь идет о павильоне Советского Союза, почти не пострадал, поскольку Гитлер в то время еще не напал на вашу страну… vous comprenez? Мы заранее сделали для вас ксерокопии наиболее интересных документов…
Как же, всё-таки, милы эти французы, как умеют потрафить гостям, явившимся прямо с улицы.
Через полчаса мы с Мариной уже сидели в научном зале, корпя над текстами.
Павильон СССР… в главном зале – скульптура товарища Сталина… проект Дворца Советов в Чертолье, на берегу Москвы-реки… легковой автомобиль М-1… кинофильм «Чапаев»… концерт ансамбля песни и пляски Красной Армии… карта Советского Союза во всю стену, сложенная из драгоценных камней – изумруды, сапфиры, рубины, бирюза, хризолиты, топазы, аметисты, сердолики… вот где, наверное, сжимались сердечки парижанок и других любительниц географии!
Но более всего мое воображение потряс документ, написанный еще за несколько месяцев до открытия Всемирной выставки в Париже.
Это был служебный отчет эмиссара Шарля Помарэ генеральному комиссару выставки Эдмону Лаббе о поездке в Советский Союз, где он встречался с комиссаром советского павильона, известным государственным деятелем Иваном Ивановичем Межлауком.
«…Что касается авиации, – уведомлял свое начальство господин Помарэ, – то СССР не преминет показать свою воздушную мощь, которой он так гордится. К началу выставки шесть больших самолетов типа „Максим Горький“ прибудут в Париж; на борту одного из них будет находиться господин Межлаук…»
Тут я почему-то вспомнил свой недавний героический перелет из заснеженной Москвы к зеленым платанам Парижа. И уже послезавтра – в обратный путь… Как быстро промелькнули две недели!
«…В качестве аттракциона и, по мере возможности, вне павильона будет установлена вышка для прыжков с парашютом. Вы знаете, что парашютный спорт очень популярен в СССР, и что молодежь с удовольствием им занимается…»
Я представил себе эту парашютную вышку на Марсовом поле, рядом с Эйфелевой башней. А вдруг парижане, попривыкнув, стали бы умолять не увозить ее обратно, а оставить тут навсегда, как это чуть не случилось с «Рабочим и колхозницей»…
«…Как только Советское правительство одобрит эти предложения г-на Межлаука, в Москве будет организовано нечто вроде генеральной репетиции, то есть будет построен и оборудован макет павильона в натуральную величину. Таким образом, русские зрители увидят первыми то, что их правительство намерено показать в Париже».
Я читал эти не столь уж древние страницы истории и чувствовал, как остывает мой охотничий пыл, сменяясь привычной тоской, унынием, предвестьем неудачи.
Пришли на ум вежливые остережения Славы Костикова, мужа Марины: «У вас могут быть сложности и с фильмом, и с книгой. Тема – явно не ко времени. В воздухе витает нечто совсем иное…»
Вот ведь как всё замышлялось.
Шесть огромных, как дредноуты начала века, восьмимоторных самолетов «Максим Горький», гудящим строем подлетающих к Парижу…
А на деле – единственный подобный самолет-гигант рухнул под Москвой, разбился вместе с экипажем и пассажирами в день Первомая.
Так что комиссару павильона СССР Межлауку пришлось ехать в Париж, на открытие выставки, обычным поездом.
У меня была с собой еще одна редкая фотография.
На ней – Иван Иванович Межлаук, сухощавый, с вождистскими усиками, в черном плаще и черной шляпе, стоит у парапета набережной Сены; рядом с ним – скульптор Вера Игнатьевна Мухина, она в берете, в брючном костюме, что было тогда у женщин в новинку, с поблескивающим пенсне на переносице; архитектор Борис Иофан, автор проекта павильона СССР и того самого Дворца Советов, что собирались строить на Чертолье; и еще Петр Николаевич Львов, знаменитый конструктор, профессор, создатель первого в мире цельнометаллического самолета «Сталь-2», он в рабочем комбинезоне, будто так, прямо из цеха, и заявился в Париж…
Они не позируют, это – мгновенный снимок со стороны.
Но как вдохновенны их лица, обращенные в одну сторону, чуть вверх, туда, где на башне павильона сейчас устанавливают их общее творение – статую «Рабочий и колхозница»…
Вскоре после возвращения Ивана Межлаука домой, его расстреляли.
На улице было промозгло, ветрено – всё же, зима есть зима.
Мы с Мариной укрылись в крохотной кафушке у площади Вогезов, выпили по рюмке глинтвейна, стали размышлять: куда теперь податься?
В окне был остров Ситэ, похожий на корабль, где мачтами служили острия Нотр-Дам.
Приняли решение: туда.
Я вспомнил, как впервые навострившись ехать в Париж – заранее, еще дома – часами просиживал над картами, затверживал наизусть путеводители и, конечно же, перечитывал Гюго, Пруста, Хемингуэя…
Раскрыв том «Собора Парижской богоматери», погрузился в чтение и вдруг обнаружил, что передо мною – совершенно незнакомый текст.
«… Моды нанесли больше вреда, чем революции. Они врезались в самую плоть средневекового искусства, они посягнули на самый его остов, они обкарнали, искромсали, разрушили, убили в здании его форму и символ, его смысл и красоту. Не довольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что всё же не притязали ни время, ни революции.
Считая себя непогрешимыми в понимании „хорошего вкуса“, они бесстыдно разукрасили язвы памятника готической архитектуры своими жалкими недолговечными побрякушками…»
Что это? Какой-то другой роман? Его новое, расширенное и дополненное издание?
Как вдруг пришла догадка, от которой кровь бросилась в щеки – с детства знакомое чувство стыда.
Всё очень просто. Теперь я читал эту книгу, будто бы впервые в жизни, лишь потому, что прежде, когда был маленьким мальчиком, и позже, когда был студентом-раздолбаем, я, без тени сомнения, пропускал мимо глаз все эти россказни целыми страницами, а подчас и главами. Потому что они не вызывали у меня ничего иного, кроме зевоты во всю пасть…
Тогда в этой книге мне были интересны лишь Эсмеральда с ее козочкой, Квазимодо со своим горбом, и Феб, капитан королевских стрелков, на которого мне хотелось быть похожим даже больше, чем на пограничника Карацупу. Еще захватывал вольный быт Дворца чудес, этой республики воров и нищих, чем-то похожей на окружающую меня жизнь…
Но вот промчалось время – и я вдруг оказался не мальчиком-книгочеем, и не студентом Литературного института, сдающим зарубежку по шпаргалке, а радяньским письменником, собравшимся на старости лет в Париж.
И тут вдруг выяснилось, что мне вовсе не интересны Квазимодо с Эсмеральдой – господи, каких только Квазимод, каких только Эсмеральд ни повидал я в жизни! – что эти игровые эпизоды, которыми я упивался в юности – зачитанные до дыр, затрепанные на экранах, заигранные и даже затанцованные на сцене, – что мне они теперь, как говорят, по барабану.
Теперь я искал и, добравшись до того, что искал, погружался, будто в нирвану, в неторопливые, подробные, подчас занудные, а иногда вспыльчивые описания аббатства Сен-Жермен де Пре, Гревской площади, собора Нотр-Дам…
Теперь я понимаю, что господин Гюго провел немало дней и месяцев, а может быть и лет в Национальных Архивах Франции – как нынче я, – кашляя от пыли ветхих фолиантов, отирая слезящиеся глаза, прежде чем сесть писать свой знаменитый роман «Собор Парижской богоматери».
Задрав подбородок, я почтительно осматривал готические стрельчатые своды – безмерно далекие, пересекающиеся, как судьбы, – многоцветные розы витражей, обращенные во все стороны света, – вслушивался в органные раздумчивые вздохи…
Как вдруг запоздалая мысль ударила по мозгам.
А как же парк Монсо? А как же Рю Дарю? А как же собор Александра Невского, где я хотел поставить свечку в память об отце?..
Может быть – завтра? Но нет, завтрашний день уже расписан буквально по минутам. А послезавтра утром – аэропорт Руасси, ранний вылет в Москву.
Мой смятенный взгляд опустился с небес на землю, скользнул вдоль стен, обнаружил ларек, где продавались свечи, очередёшку за ними – всё, как у нас.
Марина, будто угадав ход моих мыслей, кивнула одобрительно.
– Но как же… – засомневался я. – Ведь это – католический собор. А отец был православным… Можно ли?
– Бог-то один, – напомнила Марина.






