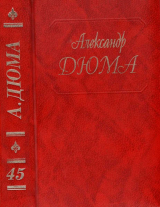
Текст книги "Жорж. Корсиканские братья. Габриел Ламбер. Метр Адам из Калабрии"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 52 страниц)
IV
Это предложение вполне отвечало моему желанию сравнить комнаты двух братьев, и я его принял. Я поспешил последовать за своим хозяином, и он, открыв дверь в свои покои, прошел впереди меня, показывая дорогу.
Мне показалось, что я попал в настоящий арсенал.
Там стояла мебель, изготовленная в XV и XVI веках: резная кровать под балдахином, который поддерживали внушительные витые колонны, была задрапирована зеленым дамастом с золотыми цветами; занавеси на окнах были из той же материи; стены были покрыты испанской кожей, и везде, где только возможно, находились военные трофеи, старинные и современные.
Трудно было ошибиться в предпочтениях того, кто жил в этой комнате: они были настолько воинственными, насколько мирными были наклонности его брата.
– Обратите внимание, – сказал он мне, проходя в туалетную комнату, – вас окружают три столетия: смотрите! А я теперь переоденусь в костюм горца, ведь я говорил вам, что сразу после ужина мне нужно будет уйти.
– А где среди этих мечей, этих аркебуз и этих кинжалов то историческое оружие, о котором вы говорили?
– Их там три; начнем по порядку. Поищите у изголовья моей кровати кинжал – он висит отдельно, у него большая чашка эфеса и набалдашник, образующий печать.
– Я нашел его. И что?
– Это кинжал Сампьетро.
– Знаменитого Сампьетро, того, кто убил Ванину?
– Не убил, а умертвил!
– Мне кажется, это одно и то же.
– Во всем мире, может быть, да, но не на Корсике.
– А этот кинжал подлинный?
– Посмотрите, на нем есть герб Сампьетро, только там еще нет французской лилии, вы, наверное, знаете, что Сампьетро разрешили изображать этот цветок на его гербе только после осады Перпиньяна.
– Нет, я не знал этих подробностей. И как этот кинжал стал вашей собственностью?
– О! Он в нашей семье уже триста лет. Его отдал Наполеону де Франки сам Сампьетро.
– И вы знаете при каких обстоятельствах?
– Да. Сампьетро и мой пращур попали в засаду генуэзцев и защищались как львы. У Сампьетро упал с головы шлем, и генуэзский всадник уже хотел опустить на нее палицу, когда мой предок вонзил ему кинжал в самое уязвимое место под кирасой. Всадник, почувствовав, что его ранили, пришпорил лошадь и скрылся, унося с собой кинжал Наполеона, так глубоко вошедший в рану, что генуэзец сам не мог его вытащить. И так как мой пращур, по-видимому, дорожил этим кинжалом и сожалел, что потерял его, Сампьетро отдал ему свой. Наполеон при этом ничего не потерял: как видите, это кинжал испанской работы и он может пронзить две сложенные вместе пятифранковые монеты.
– Можно мне попытаться это сделать?
– Конечно.
Я положил две монеты по пять франков на пол и с силой резко ударил по ним.
Люсьен меня не обманул.
Подняв кинжал, я увидел, что обе монеты, пробитые насквозь, остались на его острие.
– Ну-ну, – согласился я, – это действительно кинжал Сампьетро. Единственное, что меня удивляет, почему, имея подобное оружие, он воспользовался какой-то веревкой, чтобы убить свою жену.
– У него не было больше этого оружия, – объяснил мне Люсьен, – потому что он отдал его моему предку.
– Это справедливо.
– Сампьетро было более шестидесяти лет, когда он срочно вернулся из Константинополя в Экс, чтобы преподать миру важный урок: женщинам не следует вмешиваться в государственные дела.
Я кивнул в знак согласия и повесил кинжал на место.
– А теперь, – сказал я Люсьену, который все еще одевался, – когда кинжал Сампьетро находится на своем гвозде, перейдем к следующему экспонату.
– Вы видите два портрета, что висят рядом друг с другом?
– Да, Паоли и Наполеон…
– Так, хорошо, а рядом с портретом Паоли – шпага.
– Совершенно верно.
– Это его шпага.
– Шпага Паоли! Такая же подлинная, как кинжал Сам-пьетро?
– По крайней мере, как и кинжал, она попала к моим предкам, но к женщине, а не к мужчине.
– К женщине из вашего рода?
– Да. Вы, быть может, слышали об этой женщине, которая во время войны за независимость явилась к башне Соллакаро в сопровождении молодого человека.
– Нет, расскажите мне эту историю.
– О, она короткая.
– Тем более.
– У нас ведь нет времени на длинные разговоры.
– Я слушаю.
– Так вот, эта женщина и сопровождавший ее молодой человек явились к башне Соллакаро, желая поговорить с Паоли. Но, так как Паоли был занят и что-то писал, им не разрешили войти, и, поскольку женщина продолжала настаивать, двое часовых попытались их остановить. Тем временем Паоли, услышав шум, открыл дверь и спросил, что случилось.
"Это я, – сказала женщина, – мне надо с тобой поговорить".
"И что ты мне пришла сказать?"
"Я пришла сказать, что у меня было два сына. Я узнала вчера, что один был убит, защищая свою родину, и я проделала двадцать льё, чтобы привезти тебе другого".
– То, что вы рассказываете, похоже на сцену из жизни Спарты.
– Да, очень похоже.
– И кто была эта женщина?
– Она тоже принадлежала к моему роду. Паоли вытащил свою шпагу и отдал ей.
– Я вполне одобряю такую манеру просить прощения у женщины.
– Она была достойна и того и другого, не правда ли?
– Ну, а эта сабля?
– Именно она была у Бонапарта во время сражения у Пирамид.
– И без сомнения, она попала в вашу семью таким же образом, как кинжал и шпага?
– Точно так. После сражения Бонапарт отдал приказ моему деду, офицеру из отряда гидов, атаковать вместе с полсотней человек горстку мамлюков, которые все еще держались вокруг раненого предводителя. Мой дед повиновался: рассеял мамлюков и привел их главаря к первому консулу. Но, когда он хотел вложить саблю в ножны, клинок ее оказался настолько изрублен дамасскими саблями мамлюков, что уже не входил в ножны. И мой дед далеко отшвырнул саблю и ножны, так как они стали ненужными. Увидев это, Бонапарт отдал ему свою.
– Но, – возразил я, – на вашем месте я скорее предпочел бы иметь саблю деда, всю изрубленную, какой она была, чем хорошо сохранившуюся саблю главнокомандующего, совершенно целую и невредимую.
– Посмотрите на стену напротив, и вы ее там обнаружите. Первый консул ее подобрал, приказал сделать инкрустацию из бриллиантов на эфесе и с надписью, которую вы можете прочитать на клинке, переслал ее моей семье.
Действительно, между двумя окнами висел клинок, наполовину выдвинутый из ножен, куда он не мог больше войти, изрубленный и искривленный, с простой надписью: «Сражение у Пирамид. 21 июля 1798 года».
В это мгновение слуга, встречавший меня и приходивший объявить, что прибыл его молодой хозяин, вновь появился на пороге.
– Ваше сиятельство, – сказал он, обращаясь к Люсьену, – госпожа де Франки сообщает вам, что ужин подан.
– Очень хорошо, Гриффо, – сказал молодой человек, – скажите моей матери, что мы спускаемся.
И он тотчас же вышел из кабинета, одетый, как и намеревался, в костюм горца, состоявший из бархатной куртки, коротких штанов и гетр. От его прежнего костюма остался только патронташ, опоясывавший талию.
Он застал меня за рассматриванием двух карабинов, висящих один напротив другого; на рукоятке каждого была выгравирована дата: «21 сентября 1819 года, одиннадцать утра».
– А эти карабины, – спросил я, – тоже имеют историческую ценность?
– Да, – ответил он, – по крайней мере, для нас. Один из них принадлежал моему отцу.
Он остановился.
– А другой? – спросил я.
– Другой, – улыбнулся он, – другой принадлежал моей матери. Но давайте спускаться, вы же знаете, что нас ждут.
И, пройдя вперед, чтобы указывать дорогу, он сделал мне знак следовать за ним.
V
Признаюсь, я спускался, заинтригованный последней фразой Люсьена: «Другой принадлежал моей матери».
Это заставило меня посмотреть на г-жу де Франки внимательнее, чем я это сделал при первой встрече.
Сын, войдя в столовую, почтительно поцеловал ей руку, и она приняла этот знак уважения с достоинством королевы.
– Матушка, простите, что я заставил вас ждать, – сказал он.
– Во всяком случае, это произошло по моей вине, сударыня, – вмешался я, поклонившись, – господин Люсьен показывал мне такие любопытные вещи, что из-за моих бесчисленных вопросов он был вынужден задержаться.
– Успокойтесь, – сказала она, – я только что спустилась, но, – продолжила она, обращаясь к сыну, – я торопилась тебя увидеть, чтобы расспросить о Луи.
– Ваш сын болен? – спросил я г-жу де Франки.
– Люсьен этого опасается, – сказала она.
– Вы получили письмо от вашего брата? – спросил я.
– Нет, – ответил он, – и это-то меня беспокоит.
– Но почему вы решили, что он болеет?
– Потому что последние дни мне самому было не по себе.
– Извините за бесконечные вопросы, но это не объясняет мне…
– Вы разве не знаете, что мы близнецы?
– Да, знаю, мой проводник сказал мне об этом.
– А вам неизвестно, что, когда мы родились, у нас были сросшиеся ребра?
– Нет, я этого не знал.
– Так вот, потребовался удар скальпеля, чтобы нас разделить, вследствие этого, даже находясь вдали друг от друга, как сейчас, мы ощущаем, что у нас одна плоть, будь то в физическом или духовном смысле. Один из нас невольно чувствует то, что испытывает другой. А в эти дни без какой-либо причины я печален, мрачен и угрюм. Я ощущаю ужасную тоску: очевидно, мой брат переживает глубокое горе.
Я с удивлением рассматривал молодого человека, который говорил нечто странное и, казалось, не сомневался в достоверности этого. Впрочем, его мать, по-видимому, испытывала те же чувства.
Госпожа де Франки печально улыбнулась и сказала:
– Те, кого нет с нами, – в руках Господних. Главное – ты уверен, что он жив.
– Если бы он был мертв, – спокойно произнес Люсьен, – я бы это знал.
– И ты бы, конечно, сказал мне об этом, мой мальчик?
– Да, сразу же, я вам это обещаю, матушка.
– Хорошо… Извините, сударь, – продолжала она, поворачиваясь ко мне, – что я не смогла сдержать перед вами свои материнские переживания, ведь дело не только в том, что Луи и Люсьен мои сыновья, они последние в нашем роду… Присаживайтесь справа от меня… Люсьен, а ты садись вон там.
И она указала молодому человеку на свободное место слева.
Мы устроились за длинным столом; на его противоположном конце было накрыто еще на шесть персон. Это было предназначено для тех, кого называют на Корсике "семьей", то есть для тех лиц, что в больших домах по положению находятся между хозяевами и слугами.
Трапеза была обильной и сытной.
Но, признаюсь, просто умирая от голода, я, однако, погрузился в свои мысли и довольствовался лишь тем, что насыщался, не в силах смаковать и получать наслаждение от гастрономических изысков.
И действительно, мне показалось, что, попав в этот дом, я очутился в таинственном мире, напоминающем сказку.
Кто она, эта женщина, у которой, как у солдата, было свое оружие?
Кто он, этот человек, который испытывает те же страдания, что и его брат, находящийся за триста льё от него?
Кто эта мать, которая заставляет своего сына поклясться, что он обязательно тут же скажет ей, если узнает о смерти ее второго сына?
Все это, должен сознаться, давало мне немало пищи для размышлений.
Между тем я заметил, что мое молчание затянулось и стало уже неприличным; я поднял голову и тряхнул ею, как бы отбрасывая все свои мысли.
Мать и сын тотчас же обернулись, думая, что я хочу присоединиться к разговору.
– Значит, вы решились приехать на Корсику? – произнес Люсьен так, как будто возобновил прерванный разговор.
– Да. Видите ли, у меня уже давно было это намерение, и вот теперь, наконец, я его осуществил.
– По-моему, вы правильно сделали: пока еще не слишком поздно, потому что через несколько лет при теперешнем планомерном вторжении французских вкусов и нравов те, кто приедет сюда, чтобы увидеть Корсику, больше ее здесь не найдут.
– Во всяком случае, если древний национальный дух отступит перед цивилизацией и укроется в каких-то уголках острова, то это будет, конечно, в провинции Сартен и долине Тараво.
– Вы так думаете? – спросил молодой человек, улыбаясь.
– Но мне кажется, что все окружающее меня здесь и увиденное мною – это прекрасная и достойная картина старых корсиканских обычаев.
– Да, но, тем не менее, в этом самом доме с зубцами и машикулями, где мы с матерью храним четырехсотлетние традиции семьи, французский дух отыскал моего брата, отнял его у нас и отправил в Париж, откуда он к нам вернется адвокатом. Он будет жить в Аяччо, вместо того чтобы оставаться в доме своих предков; он будет защищать кого-то в суде; если у него хватит таланта, он, возможно, будет именоваться королевским прокурором; тогда он будет преследовать несчастных, прикончивших кого-нибудь, как говорят у нас, и перестанет отличать тех, кто вершит правосудие, от простых убийц, как это вы сами недавно сделали; будет требовать от имени закона головы тех, кто, должно быть, совершил то, что их отцы сочли бы за бесчестье не сделать; он подменит Божий суд людским и однажды, приготовив чью-нибудь голову для палача, поверит, что служил стране и принес свой камень для храма цивилизации… как говорит наш префект… О Боже мой, Боже мой!
И молодой человек поднял глаза к небу, как, должно быть, некогда это сделал Ганнибал после битвы у Замы.
– Но, – возразил я ему, – вы же видите, что Господь хотел все уравновесить и поэтому, сделав вашего брата последователем новых принципов, вас сотворил приверженцем старых обычаев.
– Но кто меня убедит, что мой брат не последует примеру своего дяди, вместо того чтобы последовать моему примеру? Да и окажусь ли я сам достойным рода де Франки?
– Вы? – удивленно воскликнул я.
– Да, Боже мой, я. Хотите, я вам скажу, что вы приехали искать в провинции Сартен?
– Говорите.
– Вы приехали сюда охваченный любопытством светского человека, художника или поэта, ведь я не знаю, кто вы, и не спрашиваю вас об этом: вы сами нам это скажете, покидая нас, если захотите, или сохраните молчание; вы наш гость и абсолютно свободны… Итак, вы приехали в надежде увидеть какую-нибудь деревню, охваченную вендеттой, познакомиться с каким-нибудь колоритным бандитом, наподобие описанного господином Мериме в "Коломбе".
– Но мне кажется, я здесь не так уж не вовремя, – ответил я. – Или я плохо рассмотрел, или ваш дом – единственный в селении, который не укреплен.
– Это доказывает, что я тоже начал отступать от традиций; мой отец, дед, мои самые древние предки приняли бы участие в одной из враждующих группировок в нашем селении: вот уже десять лет они борются между собой. И знаете, какую роль я отвел себе здесь, среди ружейных выстрелов, ударов стилетов и кинжалов? Я третейский судья. Вы приехали в провинцию Сартен, чтобы увидеть бандитов, не так ли? Вот и хорошо, пойдемте со мной сегодня вечером, я вам покажу одного из них.
– Как! Вы позволите мне сопровождать вас?
– О Боже, если это вас позабавит, все будет зависеть только от вас.
– Отлично! Я с большим удовольствием соглашаюсь.
– Наш гость очень устал, – сказала г-жа де Франки, бросив взгляд на сына; казалось, она разделяла чувство стыда, которое он испытывал, видя, как приходит в упадок Корсика.
– Нет, матушка, нет, напротив, нужно чтобы наш гость пошел со мной, и, если в каком-нибудь парижском салоне при нем заговорят об этой ужасной вендетте и об этих беспощадных корсиканских бандитах, которыми все еще пугают маленьких детей в Бастии и Аяччо, он, по крайней мере, сможет пожать плечами и сказать, что же это такое на самом деле.
– А по какой причине началась эта грандиозная ссора, которая, насколько я могу судить из того, что вы мне сказали, готова прекратиться?
– О! – воскликнул Люсьен. – Разве имеет значение причина, вызвавшая ссору. Важно то, к чему она приводит. Ведь если человек умирает даже из-за пустяка – от укуса пролетевшей мухи, например, – все равно он мертв.
Я видел, что Люсьен не решается сказать мне о причине этой ужасной войны, что вот уже десять лет опустошает селение Соллакаро.
Но чем дольше он молчал, тем настойчивее становился я, продолжая допытываться:
– Однако у этой распри была какая-то причина. Это тайна?
– Боже мой, нет. Все это началось между семьями Орланди и Колона.
– Почему?
– Потому что однажды курица сбежала с птичьего двора Орланди и перелетела во двор Колона.
Орланди потребовали свою курицу, Колона настаивали, что это была их курица.
Орланди угрожали Колона, что отведут их к мировому судье и заставят присягнуть там.
Но старушка-мать, державшая в руках курицу, свернула ей шею и бросила ее в лицо своей соседки: "Если она твоя, на тебе, жри ее!"
Тогда один из Орланди поднял курицу за лапы и хотел ударить старушку, бросившую ее в лицо его сестры. Но в то мгновение, когда он готов был сделать это, мужчина из семьи Колона, у которого, к несчастью, было заряжено ружье, выстрелил в упор и убил своего соседа.
– И сколько жизней унесла эта ссора?
– Уже девять убитых.
– И все это из-за несчастной курицы, ценой в двенадцать су.
– Несомненно, но я вам уже говорил, важен не повод ссоры, а то, к чему она приводит.
– И так как уже есть девять убитых, то нужно, чтобы был и десятый?
– Но вы видите… что нет, – ответил Люсьен, – поскольку я выступаю в качестве третейского судьи.
– И конечно, по просьбе одной из двух семей?
– Да нет же, это из-за моего брата: с ним по этому поводу разговаривал министр юстиции. Интересно, какого черта они там в Париже вмешиваются в то, что происходит в какой-то несчастной деревне на Корсике. Префект пошутил, написав в Париж, что, если я захотел бы произнести хоть слово, все это закончилось бы как водевиль: свадьбой и куплетами для публики. Поэтому там обратились к моему брату, а тот сразу воспользовался случаем и написал мне, что поручился за меня. Что ж вы хотите! – добавил молодой человек, поднимая голову. – Никто не может сказать, что один из де Франки поручился словом за своего брата, а брат не выполнил взятого обязательства.
– И вы должны все уладить?
– Боюсь, что так.
– И сегодня вечером мы увидим главу одной из двух группировок?
– Совершенно верно. Прошлой ночью я встречался с противоположной стороной.
– Кому мы нанесем визит – Орланди или Колона?
– Орланди.
– А встреча назначена далеко отсюда?
– В руинах замка Винчентелло д’Истриа.
– Да, действительно… мне говорили, что эти руины находятся где-то в округе.
– Почти в одном льё отсюда.
– Таким образом, мы там будем через сорок пять минут.
– Если не раньше.
– Люсьен, – сказала г-жа де Франки, – обрати внимание, что ты говоришь только за себя. Тебе, родившемуся в горах, действительно потребуется минут сорок пять, не больше, но наш гость не сможет пройти той дорогой, которой ты рассчитываешь идти.
– Действительно, нам потребуется, по крайней мере, часа полтора.
– В таком случае, не следует терять время, – сказала г-жа де Франки, бросив взгляд на часы.
– Матушка, – проговорил Люсьен, – вы позволите нам покинуть вас?
Она протянула ему руку; молодой человек поцеловал ее с тем же уважением, что он выказал, когда мы пришли ужинать.
– Однако, – обратился ко мне Люсьен, – если вы предпочитаете спокойно закончить ваш ужин, подняться в свою комнату и согреть ноги, выкуривая сигару…
– Нет, нет! – закричал я. – К черту! Вы мне обещали бандита, так давайте!
– Хорошо. Возьмем ружья – и в дорогу!
Я вежливо распрощался с г-жой де Франки, и мы удалились в сопровождении Гриффо, освещавшего нам дорогу.
Наши приготовления не заняли много времени.
Я подвязался дорожным поясом, приготовленным перед отъездом из Парижа; на нем висел охотничий нож. В поясе были уложены с одной стороны порох, а с другой – пули.
Люсьен появился с патронташем, с ментоновской двустволкой и в остроконечной шляпе – шедевре вышивки (дело рук какой-нибудь Пенелопы из Соллакаро).
– Мне идти с вашим сиятельством? – спросил Гриффо.
– Нет, не нужно, – ответил Люсьен, – только спусти Диаманта: вполне возможно, что он поднимет несколько фазанов, а при такой яркой луне их можно подстрелить как днем.
Минуту спустя вокруг нас прыгала, взвизгивая от радости, крупная испанская ищейка.
Мы отошли шагов на десять от дома.
– Кстати, – сказал Люсьен, обернувшись к Гриффо, – предупреди в селении, что если они услышат выстрелы в горах, то пусть знают, что это стреляли мы.
– Будьте спокойны, ваше сиятельство.
– Без этого предупреждения, – пояснил Люсьен, – могут подумать, что ссоры возобновились, и вполне возможно, мы услышим, как наши выстрелы эхом отзовутся на улицах Соллакаро.
Мы сделали еще несколько шагов, затем повернули направо, в проулок, который вел прямо в горы.
VI
Хотя было самое начало марта, погода стояла прекрасная, можно даже сказать, что было жарко, если бы не освежающий чудесный бриз, доносивший до нас терпкий запах моря.
Из-за горы Канья взошла луна, чистая и сияющая. Я бы мог сказать, что она проливала потоки света на весь западный склон, делящий Корсику на две части и в какой-то степени образующий из одного острова две разные страны, все время если и не воюющие друг с другом, то, по меньшей мере, друг друга ненавидящие.
По мере того как мы взбирались все выше, а ущелья, где протекала Тараво, погружались в ночную тьму, в которой тщетно было бы пытаться что-либо разглядеть, перед нами открывалось раскинувшееся до горизонта Средиземное море, спокойное и похожее на огромное зеркало из полированной стали.
Некоторые звуки, свойственные ночи (обычно они либо тонут днем в других шумах, либо по-настоящему оживают лишь с наступлением темноты), теперь были отчетливо слышны. Они производили сильное впечатление – конечно, не на Люсьена, привычного к ним, а на меня, слышавшего их впервые, – вызывая во мне восторженное изумление и неутихающее возбуждение, порожденные безудержным любопытством ко всему, что я видел.
Добравшись до небольшой развилки, где дорога делилась на две: одна, по всей вероятности, огибала гору, а другая превращалась в едва заметную тропинку, которая почти отвесно шла вверх, – Люсьен остановился.
– У вас ноги привычны к горам? – спросил он.
– Ноги да, но не глаза.
– Значит ли это, что у вас бывают головокружения?
– Да, меня неудержимо тянет в бездну.
– В таком случае мы можем пойти по этой тропинке – там не будет пропастей, но нужно сказать, что это весьма нелегкий путь.
– О, трудная дорога меня не пугает.
– Тогда пойдем по тропинке, это сэкономит нам три четверти часа.
– Ну что же, пойдем по тропинке.
Люсьен пошел вперед через небольшую рощу каменного дуба, за ним последовал и я.
Диамант бежал в пятидесяти или шестидесяти шагах от нас, мелькая среди деревьев то справа, то слева и время от времени возвращаясь на тропинку, радостно помахивая хвостом, как бы объявляя нам, что мы можем без опаски, доверясь его инстинкту, спокойно продолжать наш путь.
Подобно лошадям наших полуаристократов (тех, кто днем биржевые маклеры, а вечером – светские львы), выполняющим двойную нагрузку – их используют и для верховой езды и запрягают в кабриолет, – Диамант был научен охотиться и за двуногими и за четырехногими, и за бандитами и за кабанами.
Чтобы не показаться совсем уж невежей относительно корсиканских обычаев, я поделился своими наблюдениями с Люсьеном.
– Вы ошибаетесь, – возразил он, – Диамант действительно охотится и за человеком и за зверем, но тот человек, за кем он охотится, совсем не бандит, это триединая порода – жандарм, вольтижёр и доброволец.
– Как, – спросил я, – неужели Диамант – собака бандита?
– Совершенно верно. Диамант принадлежал одному из Орланди, которому я иногда посылал хлеб, порох, пули и многое другое, в чем нуждаются скрывающиеся от властей бандиты. Этот человек был убит одним из Колона, а я на следующий день получил его собаку; она и раньше прибегала ко мне, поэтому мы так легко сдружились.
– Но мне кажется, сказал я, – что из окна своей комнаты или, точнее, из комнаты вашего брата я заметил другую собаку, не Диаманта?
– Да, это Бруско. Он такой же замечательный, как и Диамант. Только он мне достался от одного из Колона, убитого кем-то из Орланди. Поэтому, когда я иду навестить семейство Колона, я беру Бруско, а когда, напротив, у меня есть дело к Орланди, я выбираю Диаманта. Если же их выпустить, не дай Бог, одновременно, они загрызут друг друга. Дело в том, – продолжал Люсьен, горько улыбаясь, – что люди вполне могут помириться, прекратить вражду, даже причаститься одной облаткой, но их собаки никогда не будут есть из одной миски.
– Отлично, – ответил я, в свою очередь улыбаясь, – вот две истинно корсиканские собаки. Но мне кажется, что Диамант, как и подобает скромным натурам, скрылся от нашей похвалы: на протяжении всего разговора о нем мы его не видели.
– О, это не должно вас беспокоить, – сказал Люсьен, – я знаю, где он.
– И где он, если не секрет?
– Он около Муккио.
Я уже отважился на следующий вопрос, рискуя утомить своего собеседника, когда услышал какие-то завывания, такие печальные, такие жалобные и такие продолжительные, что я вздрогнул и остановился, схватив молодого человека за руку.
– Что это? – спросил я его.
– Ничего. Это плачет Диамант.
– А кого он оплакивает?
– Своего хозяина… Разве вы не понимаете, что собаки не люди и они не могут забыть тех, кто их любил?
– А, понятно, – сказал я.
Послышалось очередное завывание Диаманта, еще более продолжительное, более печальное и более жалобное, чем первое.
– Да, – продолжал я, – его хозяина убили, вы мне говорили об этом, и мы приближаемся к месту, где он был убит.
– Совершенно верно, Диамант нас покинул, чтобы пойти туда, к Муккио.
– Муккио – это что, могила?
– Да, так называется своеобразный памятник: каждый прохожий, бросая камень или ветку дерева, воздвигает его на могиле убитого. И в результате, вместо того чтобы опускаться, как другие могилы, под грузом такого великого нивелировщика, как время, могила жертвы все время растет, символизируя месть, которая должна жить и непрерывно расти в сердцах его ближайших родственников.
Вой раздался в третий раз, но на этот раз очень близко к нам, и я невольно содрогнулся, хотя мне теперь было ясно, что он означает.
И действительно, там, где тропинка поворачивала, в двадцати шагах от нас, белела куча камней, образующих пирамиду высотой четыре-пять футов. Это и был Муккио.
У подножия этого странного памятника сидел Диамант, вытянув шею и разинув пасть. Люсьен подобрал камень и, сняв шапку, приблизился к Муккио.
Я проделал то же самое.
Подойдя к пирамиде, он сломал ветку дуба, бросил сначала камень, а потом ветку и большим пальцем быстро перекрестился, как это обычно делают корсиканцы и как это в некоторых чрезвычайных обстоятельствах случалось делать даже Наполеону.
Я повторил за ним все до мелочей.
Затем мы возобновили путь, молчаливые и задумчивые.
Диамант остался сидеть у памятника.
Примерно минуты через две мы услышали последнее завывание и почти сразу же Диамант, опустив голову и хвост, все же решительно пробежал вперед, обогнав нас на сотню шагов, чтобы вновь приступить к своим обязанностям разведчика.








