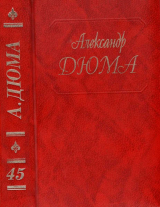
Текст книги "Жорж. Корсиканские братья. Габриел Ламбер. Метр Адам из Калабрии"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 52 страниц)
В это время Пьеру Мюнье сообщили, что один из негров, сражавшихся под его командованием, смертельно ранен и находится в одном из домов вблизи порта. Чувствуя близость конца, умирающий хочет попрощаться с ним. Мюнье огляделся, чтобы позвать Жака и вручить ему знамя, но тот нашел в это время своего друга, мальгашскую собаку, прибежавшую тоже поздравить победителей, и резвился с нею неподалеку, положив ружье на землю, – ребенок взял в нем верх над молодым человеком. Жорж видел замешательство отца и, протянув руку, сказал:
– Отец! Дайте знамя мне. Я сохраню его для вас!
Пьер Мюнье улыбнулся: ему и в голову не могло прийти, что кто-нибудь покусится на славный трофей, по праву принадлежавший только ему; он поцеловал Жоржа и отдал ему знамя, которое мальчик едва мог удерживать обеими руками, прижимая к груди. Сам же Мюнье поспешил в дом, где умирал его храбрый доброволец, настойчиво призывавший его к себе.
Жорж остался один, но, сам того не сознавая, он вовсе не чувствовал себя одиноким, ибо слава отца охраняла его, и сияющим гордостью взглядом смотрел на окружавшую его толпу; глаза его встретились со взглядом мальчика с расшитым воротником и вспыхнули презрением. А тот в свою очередь завистливо разглядывал Жоржа и, без сомнения, задавался вопросом, отчего это не его отец захватил знамя. В результате он пришел к мысли, что если у него нет своего знамени, то нужно присвоить себе чужое. Анри смело подошел к Жоржу, а тот, хотя и угадал его враждебные намерения, не сделал ни шагу назад.
– Дай мне это, – сказал Анри.
– Что «это»? – спросил Жорж.
– Знамя, – продолжал Анри.
– Знамя не твое. Оно принадлежит моему отцу.
– Какое мне дело, я хочу его взять, и все.
– Ты его не получишь.
Мальчик с вышитым воротником протянул руку, чтобы схватить древко знамени, Жорж, закусив губу, побледнев сильнее обычного, немного отступил. Это лишь подбодрило Анри: как все избалованные дети, он думал, что достаточно ему пожелать чего-либо, чтобы желание тотчас исполнилось; он сделал два шага вперед, теперь верно рассчитав расстояние. Ему удалось схватить древко, и он грубо крикнул Жоржу:
– Говорю тебе, я хочу это знамя!
– А я тебе говорю, что ты его не получишь! – повторил Жорж, отталкивая Анри одной рукой, а другой прижимая завоеванное знамя к груди.
– А, несчастный мулат, ты посмел тронуть меня! – вскричал Анри. – Ну хорошо! Сейчас увидишь!
И, вытащив свою маленькую саблю из ножен, прежде чем Жорж успел подготовиться к защите, он изо всех сил ударил его по голове. Кровь брызнула из раны и потекла по лицу мальчика.
– Подлец! – хладнокровно произнес Жорж.
Разъяренный этим оскорблением, Анри хотел повторить удар, но Жак, одним прыжком очутившийся возле брата, так сильно ударил обидчика кулаком по лицу, что тот отлетел шагов на десять. Схватив саблю, которую Анри, падая, уронил, Жак разломал ее на три или четыре куска, плюнул на нее и бросил обломки владельцу.
Настала очередь мальчика с вышитым воротником почувствовать кровь на своем лице, хотя эта кровь была от удара кулака, а не сабли.
Вся сцена разыгралась так быстро, что ни г-н де Мальмеди, как мы уже сказали, стоявший в нескольких шагах от детей, принимая поздравления семьи, ни Пьер Мюнье, выходивший из дома, где только что скончался негр, не успели помешать тому, что произошло; они подбежали к детям после драки оба в одно время: Пьер Мюнье запыхавшийся, подавленный, г-н де Мальмеди раскрасневшийся и гневный.
– Сударь, – задыхаясь, вскричал г-н де Мальмеди, – сударь, вы видели, что сейчас произошло?
– Увы, да, господин де Мальмеди, – ответил Пьер Мюнье, – и поверьте, если бы я был здесь, этого не случилось бы.
– И все же ваш сын поднял руку на моего! – вскричал Мальмеди. – Сын мулата имел наглость поднять руку на сына белого!
– Я в отчаянии от того, что произошло, господин де Мальмеди, – пробормотал несчастный отец, – и смиренно прошу у вас извинения.
– Ваши извинения! Подумаешь, ваши извинения! – продолжал колонист, чья заносчивость росла по мере того, как все более покорным становился его собеседник. – Вы думаете этим ограничиться?
– Но что еще я могу сделать, сударь?
– Что вы можете сделать, что вы можете сделать! – повторил Мальмеди, сам не зная, какое удовлетворение хотел бы он получить. – Вы можете высечь мерзавца, ударившего моего Анри.
– Высечь меня, меня! – сказал Жак, поднимая с земли свое двуствольное ружье и вновь становясь из мальчика мужчиной. – Ну что ж, попробуйте-ка, господин де Мальмеди!
– Жак, замолчи, замолчи, мой мальчик! – вскричал Пьер Мюнье.
– Прости, отец, – сказал Жак, – но я прав и не буду молчать. Господин Анри ударил моего брата саблей, а Жорж ничего ему не сделал; тогда я ударил господина Анри, стало быть, Анри не прав, а прав я.
– Ударил саблей моего сына! Ударил саблей моего Жоржа! Жорж, мое любимое дитя! – вскричал Пьер Мюнье, бросаясь к своему сыну. – Правда ли, что ты ранен?

– Не велика беда, отец, – произнес Жорж.
– Как не велика? – вскричал Пьер Мюнье. – Но у тебя рассечен лоб. Слушайте, господин де Мальмеди, вы видите, Жак говорит правду, ваш сын чуть не убил моего Жоржа.
Так как отрицать очевидное было невозможно, г-н де Мальмеди обратился к сыну:
– Послушай, Анри, как было дело?
– Отец, я не виноват, я хотел взять знамя и принести его тебе, а этот мерзкий мальчишка не давал мне его.
– Почему же ты не захотел отдать знамя моему сыну, наглец ты этакий? – спросил г-н де Мальмеди.
– Потому что знамя не принадлежит ни вашему сыну, ни вам, ни кому бы то ни было еще – знамя принадлежит моему отцу.
– Что же было дальше? – продолжал расспрашивать сына г-н де Мальмеди.
– Видя, что он не хочет отдать мне знамя, я решил отобрать его силой, но тут подошел этот огромный парень и ударил меня кулаком в лицо.
– Значит, все так и произошло?
– Да, отец.
– Он лжет, – сказал Жак, – я ударил его только после того, как увидел кровь на лице брата, если бы не это, я не стал бы его бить.
– Молчи, негодяй! – вскричал г-н де Мальмеди.
Потом он обратился к Жоржу:
– Дай мне знамя!
Но Жорж, вместо того чтобы повиноваться, изо всех сил прижал знамя к груди и отступил в сторону.
– Дай знамя! – сказал г-н де Мальмеди таким угрожающим тоном, что стало ясно: он готов к крайним мерам.
– Но, послушайте, ведь это я отобрал знамя у англичан, – возразил Пьер Мюнье.
– Мне это известно, но мулат не имеет права не выполнять моих приказаний. Я требую знамя.
– Но все же, сударь…
– Я так хочу, я приказываю: выполняйте приказ вашего командира.
Пьеру Мюнье хотелось ответить: «Вы не мой командир, так как не захотели зачислить меня в солдаты», – но слова замерли у него на устах; обычное смирение побороло храбрость, и, хотя ему нелегко было подчиниться столь несправедливому приказанию, он взял знамя из рук Жоржа и отдал его командиру батальона, а тот удалился с отнятым трофеем.
Это казалось странным, невероятным; обидно было видеть, как умный, сильный человек безропотно уступает свое законное право заурядной, грубой, ничтожной личности. Уму непостижимо, но это было так, такие порядки существовали в колониях. Привыкнув с детства почитать белых как людей высшей расы, Пьер Мюнье всю жизнь позволял этим «аристократам цвета» угнетать его и теперь, не пытаясь сопротивляться, уступил; встречаются такие герои, которые идут с поднятой головой, не боясь картечи, но становятся на колени перед предрассудком. Лев нападает на человека, являющего земной образ Бога, но, говорят, в ужасе убегает, заслышав крик петуха.
Что касается Жоржа, не пролившего ни одной слезинки, почувствовав на своем лице кровь, то он горько заплакал, когда у него отняли знамя; отец даже не пытался его утешить. А Жак в гневе кусал кулаки и клялся, что когда-нибудь отомстит Анри, г-ну де Мальмеди и всем белым.
Через десять минут после описанной сцены прибыл покрытый пылью гонец и объявил, что десять тысяч англичан спускаются по равнинам Вилемса и Малого Берега. Почти тотчас же после этого наблюдатель, стоявший на пике Открытия, просигналил о появлении новой английской эскадры, которая, бросив якорь в бухте Большой реки, высадила на берег пять тысяч человек. Наконец, тогда же стало известно, что части английской армии, оттесненные утром, собрались на берегах реки Латаний и готовятся снова идти на Порт-Луи, сочетая свои маневры с действиями двух других частей оккупационных войск, продвигавшихся вперед: одна вдоль Бухты Учтивости, а вторая через район Убежища. Сопротивляться таким силам не было возможности. Те, кто обращался к главнокомандующему, в отчаянии напоминая ему о данной ими клятве победить или умереть и требуя, чтобы их вели в сражение, слышали в ответ, что он распорядился расформировать национальных гвардейцев и добровольцев; было заявлено, что он, облеченный всей полнотой власти его величеством императором Наполеоном, решил договориться с англичанами о сдаче города.
Только безумцы могли противостоять этому решению – неполные четыре тысячи островитян были окружены двадцатью пятью тысячами солдат противника. Итак, по приказу командующего добровольцы вернулись домой; в городе остались только регулярные войска.
В ночь со 2 на 3 декабря был решен вопрос о капитуляции, а в пять часов утра подписан акт и произведен обмен договорами; в тот же день неприятель занял главные военные объекты, а на следующий день завладел городом и рейдом.
Через неделю пленная французская эскадра вышла из порта на всех парусах, увозя с собой весь гарнизон, подобно бедной семье, изгнанной из родительского дома. Пока еще можно было различить развевающиеся флаги, толпа оставалась на набережной, но когда последний фрегат исчез из виду, все в мрачном молчании разошлись. Только два человека остались в порту – мулат Пьер Мюнье и негр Телемах.
– Господин Мюнье, пойдемте туда, на гору, оттуда мы сможем увидеть маленьких господ Жака и Жоржа.
– Да, ты прав, мой славный Телемах, – воскликнул Пьер Мюнье, – и если мы не заметим их, то, по крайней мере, увидим корабль, на котором они плывут!
И Пьер Мюнье быстро, словно юноша, ринулся к утесу Открытия, в одно мгновение поднялся на него и до наступления ночи следил взглядом если не за сыновьями, ибо расстояние было слишком велико, чтобы он мог их различить, то хотя бы за фрегатом «Беллона», на борту которого они находились.
Дело в том, что Пьер Мюнье решил, чего бы это ему ни стоило, расстаться с детьми и послал их во Францию, под покровительство мужественного генерала Декана. К тому же, отец поручил заботиться о них двум-трем весьма богатым негоциантам Парижа: он уже давно состоял в деловых отношениях с ними. Детей отправляли под тем предлогом, что они должны получить образование. Настоящая же причина их отъезда – открытая ненависть, которую питал к ним г-н де Мальмеди из-за скандала со знаменем, и бедный отец боялся, что рано или поздно они станут жертвой этой ненависти, ведь то были дети с непокорным и независимым характером.
Другое дело Анри: мать так сильно любила его, что не могла расстаться с ним. Впрочем, ему и не нужно было знать ничего, кроме того, что любой цветной человек должен уважать его и подчиняться ему.
А это, как мы видели, Анри уже успел усвоить.
IV
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
День, когда на горизонте появлялось европейское судно, направлявшееся к порту, всегда был праздником на Иль-де-Франсе. Дело в том, что покинувшие родную землю обитатели колонии с нетерпением ожидали новостей из-за океана от соотечественников, семей или знакомых; каждый на что-то надеялся и поэтому, заметив вдали корабль, уже не сводил глаз с морского вестника, думая, что тот везет к нему письмо друга или портрет подруги, а может быть, и самого друга или самое подругу.
Этот корабль, предмет страстных ожиданий, источник стольких надежд, был хрупкой цепью, соединявшей Европу с Африкой, летучим мостом, переброшенным с одной части света на другую. Потому никакая новость не могла бы распространиться по всему острову быстрее, чем произнесенные с пика Открытия слова: «Корабль на горизонте».
Мы говорим, «с пика Открытия», потому что обычно судно, направляемое восточным ветром, проходит мимо Большого порта на расстоянии двух-трех льё от берега, огибает мыс Четырех Кокосов, проходит проливом между Плоским островом и Пушечным Клином и через несколько часов появляется у Порт-Луи, где местные жители, накануне предупрежденные сигналами о приближении корабля, в ожидании толпятся на набережной.
Теперь, когда мы поведали, с каким нетерпением островитяне ожидали вестей из Европы, читатель, разумеется, не удивится столпотворению на пристани в конце февраля 1824 года около одиннадцати часов утра.
Именно в это время можно было увидеть, как становится на рейд «Лестер», красивый тридцатишестипушечный фрегат, о прибытии которого было возвещено накануне в два часа пополудни.
Мы хотим, чтобы читатель познакомился, а точнее будет сказать, возобновил знакомство с двумя мужчинами, прибывшими на этом фрегате.
Один из них был светловолос, белокож, немного выше среднего роста, с правильными чертами спокойного лица, с голубыми глазами; ему можно было дать не более тридцати-тридцати двух лет, хотя на самом деле ему уже было сорок. На первый взгляд в нем не замечалось ничего выдающегося, но обращала на себя внимание какая-то особая его благопристойность. При более внимательном рассмотрении можно было заметить, что руки и ноги у этого пассажира были небольшие, правильной формы, а это во всех странах, и в особенности у англичан, считается признаком благородного происхождения. У него был высокий и твердый голос, хотя и лишенный интонаций и, так сказать, мелодичности. Его светло-голубые глаза, обычно не очень выразительные, были ясны, но взгляд их, казалось, не останавливался ни на чем и ни во что не старался проникнуть. Иногда, впрочем, этот человек щурил глаза, как будто их утомляло солнце, и при этом слегка раздвигал губы так, что можно было заметить двойной ряд мелких, ровных и белых, как жемчуг, зубов. Это была своего рода привычка, лишавшая его взгляд даже той незначительной выразительности, которая была ему присуща; но, наблюдая за этим человеком внимательно, можно было, напротив, заметить, что именно в такие моменты из-под его прищуренных век исходил яркий луч, проникающий в самую глубь души собеседника в поисках его тайной мысли. Тем, кто видел его впервые, он обычно казался глуповатым, и он знал, что люди поверхностные считают его таким, но почти никогда, то ли по расчету, то ли из равнодушия, он не старался изменить их мнение в свою пользу, уверенный в том, что сможет это сделать, как только ему в голову придет такая прихоть или настанет подходящий момент, потому что на самом деле его обманчивая внешность скрывала удивительно глубокий ум: бывает же, что два дюйма снега скрывают пропасть глубиной в тысячу футов. Таким образом, сознавая свое превосходство почти надо всеми, он терпеливо ждал, чтобы ему представился случай восторжествовать. И как только ему встречался человек, выражавший мысли, противоположные его собственным, и, по его мнению, достойный того, чтобы поспорить с ним, он вступал в разговор, прежде мало его занимавший, понемногу воодушевлялся, раскрывался и словно выпрямлялся во весь рост, ибо его пронзительный голос и сверкающие глаза прекрасно дополняли живую, язвительную, яркую речь, увлекательную и в то же время разумную, ослепительную и убедительную; если же подобного рода повод не возникал, он молчал и окружающие по-прежнему считали его человеком посредственным. Нельзя сказать, что он был лишен самолюбия; напротив, в некоторых случаях он даже был чрезмерно горделив. Но такова была его манера держаться, и он никогда ей не изменял. Всякий раз, когда он сталкивался с ложным суждением, ошибочным предположением, неумело скрываемым тщеславием и, наконец, с явной нелепостью, ему, при его тонком уме, стоило большого труда удержаться от язвительной реплики или насмешливой улыбки; но он тут же подавлял всякое внешнее выражение иронии, а уж если ему не удавалось полностью скрыть эту вспышку презрения, он маскировал невольно вырвавшуюся насмешливую гримасу подмигиванием, вошедшим у него в привычку, поскольку он отлично сознавал, что лучший способ все видеть, все слышать, все постигать – казаться слепым и глухим. Вероятно, он, подобно Сиксту Пятому, не отказался бы выдать себя и за паралитика, но это потребовало бы от него слишком долгого и утомительного притворства, и потому он решил обойтись без этого.
Второй прибывший – молодой брюнет с бледным лицом, обрамленным длинными волосами. С первого взгляда в нем угадывался твердый характер, хотя глаза его, большие, с восхитительным разрезом, чудесно бархатистые, смягчали эту твердость; чувствовалось, как за внешней безмятежностью напряженно работает его мысль. Сердясь, что случалось редко, он следовал не инстинкту, а нравственному побуждению; глаза его загорались как бы изнутри и метали молнии, казалось рождавшиеся в глубине его души. Хотя черты его лица были приятны, им недоставало правильности; чистый, отлично вылепленный лоб прорезался шрамом, почти незаметным, когда все было спокойно, но становившимся отчетливой белой полоской, когда кровь бросалась ему в лицо. Черные усы, ровные, как и брови, слегка прикрывали большой рот с полными губами, за которыми блестели великолепные зубы. Выражение его лица было серьезно, лоб почти всегда нахмурен, брови сдвинуты, манеры сдержанны, – по всему этому можно было догадаться о его склонности к размышлениям и о непоколебимой решимости. Вероятно, поэтому, хотя ему было всего двадцать пять лет, он выглядел на все тридцать, в полную противоположность своему сорокалетнему спутнику с неопределенными чертами лица, которому нельзя было дать больше тридцати – тридцати двух лет. Он был невысок, но хорошо сложен, и, хотя казался хрупким, чувствовалось, что под воздействием какой-нибудь страсти неистовое нервное напряжение придает ему сил. И все же было ясно, что природа одарила его гораздо в большей мере ловкостью и проворством, нежели грубой мощью. Одевался он изящно и просто; сейчас на нем были панталоны, жилет и редингот, покрой которых свидетельствовал о том, что они вышли из рук одного из лучших парижских портных, а в петлице редингота он носил с элегантной небрежностью орденские ленточки Почетного легиона и Карла III.
Эти два человека встретились на борту «Лестера»: один сел на корабль в Портсмуте, другой – в Кадисе. С первого взгляда они узнали друг друга, так как ранее уже встречались в салонах Парижа и Лондона, поэтому они поздоровались как старые знакомые. Но, не будучи представлены друг другу, они долго не могли разговориться, ибо этому мешала сдержанность, присущая воспитанным людям: даже в исключительных обстоятельствах они с трудом нарушают границы правил приличия. Однако одиночество на борту корабля, ограниченность пространства, а также взаимное влечение, которое испытывают светские люди друг к другу, скоро сблизили их: вначале они обменялись несколькими словами, затем их разговор стал более оживленным. За несколько дней каждый из них увидел в своем спутнике человека необыкновенного; им просто повезло, что они встретились теперь, когда им предстояло трехмесячное плавание; в силу обстоятельств их связала дружба такого рода, которая, не имея корней в прошлом, развлекает в настоящем и ничего не загадывает на будущее. Здесь, на экваторе, во время долгих вечеров и прекрасных тропических ночей у них было время изучить друг друга и прийти к выводу, что в искусстве, в науке и в политике оба они познали все, что может постичь человек как в теории, так и в практике. Оба они противостояли друг другу на равных; за время долгого плавания лишь однажды первый из них явил свое превосходство над вторым: это случилось во время шквала, застигшего фрегат у мыса Доброй Надежды. Когда капитан «Лестера» был ранен при падении стеньги, потерял сознание и его унесли в каюту, белокурый пассажир завладел рупором и, устремясь на шканцы, сумел заменить помощника капитана, также больного и не покидавшего каюты; с твердостью человека, опытного в морском деле и привыкшего командовать, он отдал необходимые распоряжения, так что после ряда маневров фрегат устоял против урагана; когда шквал пронесся, лицо этого человека, лишь на миг просияв той же высшей гордостью, которая озаряет чело всякого человеческого существа, восстающего на своего Творца, вновь приняло обычно свойственное ему выражение. Голос его, перекрывающий раскаты грома и свист бури, вновь стал негромким, и жестом настолько же обычным, насколько незадолго до того были вдохновенны и величественны все его движения, он отдал помощнику рупор – этот скипетр капитана, наделяющий того, кто берет его в руки, абсолютной властью на судне.
Все это время спутник его, на чьем спокойном лице, скажем сразу, нельзя было прочитать и следа какого бы то ни было волнения, не спускал с него глаз с выражением той зависти, которая возникает у человека, вынужденного признаться самому себе, что он ниже того, кого считал равным себе. Когда опасность миновала и они снова оказались рядом, он лишь ограничился вопросом:
– Значит, вам приходилось командовать кораблем, милорд?
– Да, – просто отвечал тот, кого наградили этим высоким титулом. – Я даже достиг чина коммодора, но вот уже шесть лет, как перешел на дипломатическую службу и лишь теперь, в миг опасности, вспомнил свое прежнее ремесло, только и всего.
Впоследствии между ними никогда не было речи об этом эпизоде, но чувствовалось, что младший был втайне унижен столь неожиданно проявившимся превосходством своего попутчика, о чем он так бы ничего и не узнал, если б не случай.
Вопрос, приведенный нами, и ответ на него показывают, что за три месяца, проведенные вместе, спутники не интересовались тем, какое положение каждый из них занимает в обществе, – достаточно того, что они считали себя братьями по духу. Они знали лишь, что направляются на Иль-де-Франс, и больше ни о чем друг друга не расспрашивали.
Было очевидно, что оба с нетерпением ждут прибытия на место, потому что каждый просил предупредить другого, когда на горизонте покажется остров. Для одного из них этот уговор оказался бесполезным, потому что именно черноволосый молодой человек находился на палубе, опершись о гакаборт, в ту минуту, когда стоявший на вахте матрос произнес: «Впереди земля!» – слова, во все времена вызывающие радость даже у бывалых моряков.
Услышав этот крик, спутник молодого человека поднялся по трапу и проворнее, чем когда-либо прежде, направился к нему. Они разговорились.
– Ну что ж, милорд, – сказал молодой человек, – вот мы и прибыли, во всяком случае нас уверяют в этом, хотя, к стыду своему, как я ни вглядываюсь в горизонт, вижу там только нечто вроде дымки, и это, может быть, просто туман, плывущий над морем, а не остров, пустивший корни в бездне океана.
– Да, я вас понимаю, – ответил старший из них, – только глаз моряка может с уверенностью отличить, особенно на таком расстоянии, воду от кеба или землю от облаков; но я, – продолжал он, прищурившись, – я, старый морской волк, ясно вижу очертания острова и, пожалуй, во всех подробностях.
– Да, милорд, – ответил молодой человек, – вот и опять проявилось превосходство вашей милости надо мной, и только вера в него заставляет меня допустить невозможное.
– Возьмите же подзорную трубу, – сказал моряк, – а я, пользуясь невооруженным глазом, опишу вам берег острова, и вы убедитесь в моей правоте.
– Милорд, я знаю, что вы всем превосходите других людей, и не сомневаюсь в правоте ваших слов, так что, поверьте, вам не нужно подтверждать их какими-либо доказательствами; если я и взял подзорную трубу, то скорее повинуясь зову сердца, чем простому любопытству.
– Ну, оставьте, – смеясь, сказал светловолосый человек, – я вижу, что воздух земли уже действует на вас и вы становитесь льстецом.
– Я льстец, милорд? – воскликнул молодой человек и покачал головой. – О, ваша милость ошибается. Клянусь, «Лестер» мог бы несколько раз пройти путь от одного полюса до другого и совершить не одно кругосветное путешествие, но вы не обнаружили бы во мне подобной перемены. Нет, я не льщу вам, милорд, я только благодарю вас за внимание, какое вы оказывали мне во время этого бесконечного плавания, и, осмелюсь сказать, за дружбу, какую вы проявляли к такой незначительной личности, как я.
– Дорогой мой спутник, – ответил англичанин, протягивая руку собеседнику, – надеюсь, что для вас, как и для меня, чужды в этом мире только люди заурядные, глупые и бесчестные и близок каждый благородный человек: где бы мы его ни встретили, мы всегда узнаем в нем представителя нашей среды. Однако довольно комплиментов, мой юный друг; возьмите подзорную трубу и смотрите, потому что мы движемся так быстро, что скоро географический экскурс, который я хотел бы сделать, потеряет всякий смысл.
Молодой человек взял подзорную трубу и посмотрел в нее.
– Видно? – спросил англичанин.
– Великолепно.
– Видите ли вы справа от нас похожий на конус и одиноко стоящий посреди моря Круглый остров?
– Прекрасно вижу.
– Видите ли вы, как приближается Плоский остров, у подножия которого сейчас проходит бриг? Мне кажется по очертаниям, что это военный бриг. Сегодня вечером мы будем в том месте, где он находится сейчас, и пройдем там, где идет он.
Молодой человек опустил подзорную трубу и попытался разглядеть то, что его спутник так легко различал невооруженным глазом, а он сам едва мог различить с помощью инструмента, который был в его руках. Улыбаясь, он сказал с удивлением:
– Чудеса!
И он снова поднес трубу к глазам.
– Видите Пушечный Клин? – продолжал его спутник. – Он отсюда почти сливается с мысом Несчастья, навевающим такие печальные и такие поэтические воспоминания. Видите Бамбуковый пик, за которым поднимается Фаянсовая гора? Видите гору Большого порта, а слева от нее Креольский утес?
– Да, да, вижу и узнаю, потому что все эти пики, все эти вершины знакомы мне с детства и я свято хранил их в памяти. Но и вы, – продолжал молодой путешественник, ладонью складывая одну в другую три части подзорной трубы, – не впервые видите этот берег, вы мне описали его скорее по воспоминаниям, чем по тому, что можно наблюдать сейчас.
– Это правда, – улыбаясь, сказал англичанин, – обмануть вас невозможно. Мне знаком этот берег, хотя воспоминания о нем у меня менее приятны, чем у вас! Да, я приехал сюда в то время, когда, по всей вероятности, мы могли быть врагами, друг мой, ведь с тех пор прошло четырнадцать лет.
– Правильно, я именно тогда покинул Иль-де-Франс.
– Вы еще были на острове, когда произошла морская битва у Большого порта, о которой мне не следовало бы говорить хотя бы из чувства национальной гордости, так сильно нас там разгромили?
– О говорите, милорд, говорите, – перебил его молодой человек, – вы так часто брали реванш, господа англичане, что, право, можете с гордостью признаться в единственном поражении.
– Так вот, я тогда служил на флоте и прибыл сюда…
– Вероятно, как гардемарин?
– Как помощник капитана фрегата, сударь.
– Но, позвольте заметить, милорд, вы ведь были тогда ребенком?
– Сколько, по-вашему, мне лет?
– Мы приблизительно одного возраста, я думаю, вам не более тридцати.
– Скоро сорок, сударь, – улыбаясь, ответил англичанин, – я уже говорил, что сегодня вы мне льстите.
Молодой человек посмотрел на своего спутника внимательнее и убедился по легким морщинкам у глаз и у углов рта, что тот действительно мог быть старше, чем казался. Затем, перестав разглядывать его, он продолжал разговор.
– Да, – сказал он, – я помню эту битву и помню другую, ту, что происходила на противоположной стороне острова. Вы были в Порт-Луи, милорд?
– Нет, сударь, мне знаком лишь этот берег: я был опасно ранен в бою, увезен пленником в Европу и с тех пор не видел Индийского океана; однако теперь мне придется провести здесь некоторое время.
Последние слова, которыми они обменялись, казалось пробудили в них давние воспоминания; предавшись раздумьям, они разошлись: один направился к носовой части корабля, другой – к рулю.
На следующий день, обогнув остров Амбры и пройдя в урочный час мимо Плоского острова, фрегат «Лестер», как мы уже сказали в начале главы, встал на рейд в Порт-Луи при большом стечении публики, обычно ожидающей каждый корабль из Европы.
На этот раз встречавших было особенно много; власти острова ждали прибытия нового губернатора, и тот, когда корабль огибал остров Бочаров, вышел на палубу в парадном генеральском мундире. Лишь тогда черноволосый пассажир понял, кто был его спутник; до тех пор он знал о нем только, что это аристократ.
Представительный англичанин был не кто иной, как лорд Уильям Муррей, член Палаты лордов; после службы во флоте он стал послом и ныне приказом его британского величества был назначен губернатором Иль-де-Франса.
Вот вы и повстречались, читатель, с английским лейтенантом, которого мельком видели на борту «Нереиды», когда тот, раненный в бок картечью, лежал у ног своего дяди капитана Уилоуби. Ранее мы предупреждали вас, что лейтенант не только оправится от раны, но и объявится в качестве одного из главных действующих лиц нашей истории.
Расставаясь со своим спутником, лорд Муррей обратился к нему:
– Через три дня, сударь, я даю для властей прием и обед; надеюсь, вы окажете мне честь быть одним из моих гостей.
– С величайшим удовольствием, милорд, – ответил молодой человек, – но прежде чем принять приглашение, считаю своим долгом сказать вашей милости, кто я…
– Вы доложите о себе, когда будете на приеме, сударь, – ответил лорд Муррей, – тогда я узнаю, кто вы, а пока мне известно, что вы благородный человек, и этого довольно.
И, пожав с улыбкой руку своему спутнику, новый губернатор вместе с капитаном спустился в почетный ял, где их ждали десять сильных гребцов, удалился от корабля и вскоре ступил на землю Иль-де-Франса у фонтана Свинцовой Собаки.
Солдаты, построенные в боевом порядке, отдали честь, забили барабаны, прогромыхал залп пушек с фортов и с фрегата, и, подобно эху, им ответили другие корабли; раздался общий возглас: «Да здравствует лорд Муррей!» Люди радостно приветствовали нового губернатора, и тот, поклонившись всем, кто устроил ему столь почетную встречу, окруженный властями острова, направился к дворцу.
Люди, приветствовавшие теперь посланца его британского величества, были те самые островитяне, что прежде оплакивали отъезд французов. Однако с тех пор прошло четырнадцать лет; старшее поколение частью умерло, а новое поколение хранило воспоминания о прошлом лишь из хвастовства, как хранят старые семейные грамоты. Прошло четырнадцать лет, как уже было сказано, а этого более чем достаточно, чтобы забыть о смерти лучшего друга и нарушить клятву, чтобы убить, похоронить или лишить былой славы имя великого человека или великой нации.








