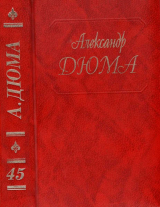
Текст книги "Жорж. Корсиканские братья. Габриел Ламбер. Метр Адам из Калабрии"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 52 страниц)
X
КРАЙ ЗАВЕСЫ
Прошло три месяца; однажды в утренней почте я нашел следующую маленькую записку:
"Мой дорогой доктор,
я действительно очень болен, мне серьезно нужны Ваши знания. Зайдите ко мне сегодня, если Вы не дер же те злобу против меня.
Преданный Вам
Анри, барон де Фаверн,
улица Тэбу, № 11".
Это письмо, которое я привожу слово в слово с двумя украшающими его орфографическими ошибками, подтвердило мое мнение об отсутствии образования у моего пациента. В конце концов, если, как он говорил, он родился на Гваделупе, это было неудивительно.
Известно, насколько пренебрегают образованием в колониях.
Но, с другой стороны, у барона де Фаверна не было ни маленьких рук, ни маленьких ног, ни стройного и грациозного стана, ни приятной речи, присущей людям из тропиков, и мне было ясно, что я имею дело с провинциалом, несколько обтесавшимся во время пребывания в столице.
Впрочем, так как он действительно мог заболеть, я отправился к нему.
Я нашел его в маленьком будуаре, обтянутом дамастом фиолетового и оранжевого цвета.
К моему большому удивлению, эта небольшая комната, по сравнению со всей квартирой, оказалась довольно изысканной.
Он полулежал на софе в явно продуманной позе, облаченный в шелковые панталоны и яркий халат; в толстых пальцах он вертел очаровательный маленький флакончик работы Клагмана или Бенвенуто Челлини.
– Ах, как мило и любезно с вашей стороны прийти навестить меня, доктор! – сказал он, приподнимаясь и приглашая меня сесть. – Впрочем, я вам не солгал, ибо страшно болен.
– Что с вами? – спросил я. – Не рана ли?
– Нет, слава Богу. Теперь она кажется просто укусом пиявки. Нет, не знаю, доктор; если бы я не боялся, что вы будете смеяться надо мной, то сказал бы вам, что у меня истерические припадки.
Я улыбнулся.
– Да, – продолжал он, – эту болезнь вы оставили исключительно за вашими прекрасными дамами. Но дело в том, что я и правда страдаю, и очень сильно, сам не знаю, по какой причине.
– Черт возьми! Это становится опасным. А не ипохондрия ли это?
– Как вы сказали, доктор?
Я повторил слово, но увидел, что его смысл не дошел до барона де Фаверна; тем временем я взял его руку и положил два пальца на пульс.
В самом деле, пульс был беспокойный.
В то время как я считал удары, позвонили; барон подскочил на месте, и пульс участился.
– Что с вами? – спросил я у него.
– Ничего, – ответил он, – только это сильнее меня: я вздрагиваю, а потом бледнею, когда слышу звонок. Ах, доктор, говорю вам, что я очень болен!
Действительно, барон стал мертвенно-бледным.
Я начинал верить, что он не преувеличивает и в самом деле очень страдает. Единственно, в чем я был убежден, так это в том, что его физический недуг вызван нравственной причиной.
Я пристально посмотрел на него; он опустил глаза, бледность, покрывавшая его лицо, сменилась краснотой.
– Да, вы мучаетесь, это очевидно, – сказал я.
– Вы так думаете, доктор? – воскликнул он. – Могу сказать, я уже консультировался с двумя вашими собратьями по профессии; поскольку вы вели себя со мной несколько своеобразно, я не решался послать за вами. Те глупцы принялись смеяться, когда я им сказал, что у меня плохо с нервами.
– Вы мучаетесь, – продолжал я, – но причина этих страданий не физическая, вас терзает какая-то душевная боль, возможно серьезное беспокойство.
Он вздрогнул.
– Какое может быть у меня беспокойство, наоборот, у меня все идет наилучшим образом. Мой брак… кстати, вы знаете? Мой брак с мадемуазель де Макарти, который ваш господин Оливье чуть было не разрушил…
– Да, ну и что же?
– Так вот, он состоится через две недели; первое оглашение о предстоящем бракосочетании уже сделано… Кстати, господин Оливье был наказан за свои сплетни и принес мне извинения.
– Как это?
– Жермен, – сказал барон, – подайте мне портфель, тот, что лежит на камине.
Слуга принес портфель, барон взял его и открыл.
– Смотрите, – сказал он с легкой дрожью в голосе, – вот мое свидетельство о рождении: я родился в Пуэнт-а-Питре, как видите; а вот свидетельство господина де Мальпа, подтверждающего, что мой отец – один из первых и самых богатых собственников на Гваделупе. Эти бумаги были показаны господину Оливье, а так как ему знакома подпись губернатора, он был вынужден признать, что подпись подлинная.
Барон продолжал изучать бумаги, и его нервное возбуждение возрастало.
– Вы еще больше страдаете? – спросил я у него.
– Как я могу не страдать! Меня преследуют, меня травят, настойчиво стремятся оклеветать. Я не уверен, что со дня на день не буду обвинен в каком-нибудь преступлении. О да, да, доктор, вы правы, – продолжал барон, выпрямляясь, – я страдаю, и очень страдаю.
– Ну-ну, вам следует успокоиться.
– Успокоиться – легко сказать! Черт возьми, если бы я мог успокоиться, я был бы здоров. Послушайте, временами мои нервы напрягаются настолько, что готовы разорваться, зубы сжимаются так, как если бы они хотели сломаться, я слышу шумы в голове, словно все колокола собора Парижской Богоматери звонят у меня в ушах; тогда мне кажется, что я вот-вот сойду с ума. Доктор, какая самая легкая смерть?
– Зачем это?
– Дело в том, что иногда у меня появляется желание убить себя.
– Ну уж!
– Доктор, говорят, что отравление синильной кислотой – это мгновенная смерть.
– Действительно, это самая быстрая смерть, которая известна.
– Доктор, на всякий случай вы должны приготовить мне пузырек синильной кислоты.
– Вы сумасшедший.
– Да я заплачу вам сколько захотите, тысячу экю, шесть тысяч, десять тысяч франков, если вы гарантируете, что эта смерть без страданий.
Я поднялся.
– Ну, что вы, почему? – сказал он, удерживая меня.
– Я сожалею, сударь, но вы без конца говорите мне такое, что не только ограничивает мои визиты, но и делает наши дальнейшие отношения невозможными.
– Нет, нет, останьтесь, прошу вас, разве вы не видите, что меня лихорадит, именно из-за этого я говорю все это.
Он позвонил, вошел тот же слуга.
– Жермен, меня мучает жажда, – сказал барон, – принесите что-нибудь.
– Что желает господин барон?
– Вы выпьете что-нибудь со мной?
– Нет, спасибо, – ответил я.
– Все равно, принесите два стакана и бутылку рома.
Жермен вышел. Минуту спустя он возвратился с подносом; на нем стояло все, что требовал барон; только я заметил, что бокалы были для бордо, а не для крепких напитков.
Барон наполнил оба бокала, при этом его рука тряслась так сильно, что часть напитка, по крайней мере столько же, сколько попало в бокалы, пролилась на поднос.
– Попробуйте, – сказал он, – это прекрасный ром; я привез его сам из Гваделупы, где, как утверждает ваш господин Оливье д’Орнуа, я никогда не был.
– Благодарю вас, я никогда не пью.
Он взял один из бокалов.
– Как, вы все это выпьете? – спросил я у него.
– Конечно.
– Но если вы будете продолжать вести такой образ жизни, то сгорите до самого фланелевого жилета, покрывающего вашу грудь.
– Вы считаете, что можно убить себя, употребляя много рома?
– Нет, но можно получить гастроэнтерит, от которого умирают после пяти или шести лет страшных болей.
Он поставил бокал на поднос, уронил голову на грудь, положил руки на колени и со вздохом прошептал:
– Итак, доктор, вы признаете, что я очень болен?
– Я не говорю, что вы больны, я говорю, что вы мучаетесь.
– Разве это не одно и то же?
– Нет.
– Ну что ж: е вы мне посоветуете, наконец? На всякую боль у медицины должно быть лекарство, иначе не стоит так дорого платить врачам.
– Я предполагаю, что это вы говорите не про меня? – ответил я, смеясь.
– О нет! Вы образец во всем.
Он взял бокал рома и допил его, не думая о том, что делает. Я его не остановил, так как хотел увидеть, какое действие окажет на него этот обжигающий напиток.
Никакого впечатления. Можно было подумать, что он выпил стакан воды.
Для меня стало ясно, что этот человек часто искал забвения в алкоголе.
Действительно, через какое-то время он оживился.
– В сущности, – сказал он, прерывая молчание и отвечая на свои собственные мысли, – я в самом деле напрасно истязаю себя таким образом! Я молод, богат, радуюсь жизни, это продлится столько, сколько возможно.
Он взял второй бокал и проглотил его залпом, как и первый.
– Итак, доктор, вы мне ничего не посоветуете? – спросил он.
– Отчего же! Я посоветую вам доверять мне и сказать, что вас беспокоит.
– Вы все еще полагаете, что у меня есть нечто, о чем я не решаюсь рассказать?
– Да, вы что-то скрываете.
– Очень важное! – сказал он с натянутой улыбкой.
– Ужасное.
Он побледнел и машинально взялся за горлышко бутылки, чтобы налить себе еще один бокал.
Я остановил его.
– Я вам уже говорил, что вы себя убьете.
Он откинулся назад и оперся головой об стену:
– Да, доктор, да, вы гениальный человек; да, вы догадались об этом сразу, тогда как другие ничего не поняли; да, у меня есть тайна, и, как вы говорите, ужасная тайна; тайна, которая убьет меня вернее, чем ром, что вы мешаете мне выпить; тайна, которую я все время хочу кому-нибудь доверить и которую открыл бы вам, если бы, как это делают духовники, вы дали обет молчания. Посудите сами, если эта тайна меня терзает так сильно, когда я уверен, что она известна только мне одному, то как бы я стал постоянно терзаться от мысли, что ее знает кто-то другой.
Я встал.

– Сударь, – сказал я ему, – я не требовал от вас откровения, вы меня пригласили как врача, и я сказал, что медицина ничем не сможет вам помочь в подобном состоянии. Теперь храните свою тайну, это в вашей воле, и пусть она тяготит ваше сердце или вашу совесть. Прощайте, господин барон.
Он дал мне уйти, не ответив ни слова, не сделав ни малейшего движения, чтобы удержать меня, не позвав меня обратно. Обернувшись, чтобы закрыть дверь, я смог увидеть, как он третий раз протянул руку к бутылке рома, своей гибельной утешительнице.
XI
УЖАСНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Я продолжал свои визиты к больным; но, против воли, не мог прогнать мысль о том, что мне пришлось увидеть и услышать, хотя и сохранял к этому несчастному инстинктивное моральное отвращение, в чем я уже признавался.
С другой стороны, я начал испытывать к нему, если можно так выразиться, физическую жалость, какую каждый человек, которому предназначено страдать, ощущает по отношению к другому страдающему существу.
Я пообедал в городе, и, так как часть моего вечера была отведена на визиты к больным, возвратился домой после двенадцати ночи.
Мне сказали, что уже более часа в моем кабинете ожидает консультации какой-то молодой человек. Я осведомился об его имени, но оказалось, что он не захотел назвать себя.
Я вошел и увидел г-на де Фаверна.
Он был еще бледнее и взволнованнее, чем утром. На письменном столе лежала раскрытая книга, которую он пытался читать. Это был трактат Орфила по токсикологии.
– Ну что, вы чувствуете себя еще хуже? – спросил я у него.
– Да, очень плохо, – ответил он, – случилось страшное событие, ужасная история, и я прибежал, чтобы рассказать вам об этом. Послушайте, доктор, с тех пор как я в Париже и веду жизнь, которая вам известна, вы единственный человек, кому я полностью доверяю. Поэтому я пришел попросить у вас не лекарства от того, чем страдаю, вы мне уже сказали, что его нет, я это и так знал, – я пришел за советом.
– Совет дать гораздо труднее, чем рецепт, сударь, и признаюсь вам, что я даю его крайне редко. Обычно просят совета только для того, чтобы утвердиться в уже принятом решении, или когда не уверены в том, что надо сделать, и следуют полученному совету, чтобы иметь право сказать впоследствии советчику: "Это вы виноваты".
– Во всем, что вы говорите, есть правда, доктор, но точно так же как я не думаю, что врач имеет право отказать в рецепте, так я не думаю, что человек имеет право отказать другому в совете.
– Вы правы, поэтому я не отказываюсь вам его дать, только сделайте одолжение, не следуйте ему.
Я сел около него, но тут, вместо того чтобы ответить мне, он уронил голову на руки и, подавленный, погрузился в свои мысли.
– Так что же? – сказал я ему после некоторого молчания.
– Если для меня что и ясно, – отвечал он, – так это то, что я погиб.
В его словах было столько уверенности, что я вздрогнул.
– Погибли? Вы? Почему? – спросил я.
– Конечно, она будет меня преследовать, расскажет всем, кто я такой, повсюду раззвонит мое настоящее имя.
– Кто это?
– Она, черт возьми.
– Она? Кто же она?
– Мари.
– Кто такая Мари?
– Ах, да, вы же не знаете; дурочка, маленькая распутница, которой я по доброте душевной оказал внимание и которой имел глупость сделать ребенка.
– Ну и что? Если это одна из тех женщин, от которой можно откупиться деньгами, вы достаточно богаты…
– Да, – прервал он меня, – но она, к несчастью, совсем не из тех женщин: это деревенская девушка, бедная девушка, святая девушка.
– Только что вы ее называли распутницей.
– Я не прав, дорогой доктор, я не прав, я говорил так от злости, скорее – да, да, это был страх.
– Эта женщина может каким-то роковым образом повлиять на вашу судьбу?
– Она может помешать моему браку с мадемуазель де Макарти.
– Каким образом?
– Назвав мое имя, раскрыв, кто я такой.
– Следовательно, вы не де Фаверн?
– Нет.
– Значит, вы не барон?
– Нет.
– Значит, вы родились не на Гваделупе?
– Нет. Все это было, видите ли, выдумкой.
– Тогда Оливье был прав?
– Да.
– Но тогда каким образом господин де Мальпа, губернатор Гваделупы, мог засвидетельствовать…
– Молчите, – сказал барон, крепко сжимая мне руку, – это моя тайна, которая и убьет меня.
Какое-то мгновение мы оба молчали.
– Ну, а эта женщина, эта Мари, – вы ее, следовательно, снова увидели?
– Сегодня, доктор, сегодня вечером. Она уехала из деревни, приехала в Париж, приложила немало усилий, чтобы отыскать меня, и вот сегодня вечером явилась ко мне со своим ребенком.
– А что же сделали вы?
– Я сказал, – начал г-н де Фаверн глухим голосом, – я сказал, что не знаю ее, и велел моим людям выставить эту женщину за дверь.
Я невольно отступил:
– Вы сделали это, отказались от своего ребенка, вы заставили лакеев выгнать его мать!..
– Что же мне оставалось делать?
– О! Это ужасно.
– Я знаю.
Мы оба вновь замолчали. Через минуту я встал и спросил его:
– Какое отношение имею я ко всему этому?
– Разве вы не видите, что меня мучают угрызения совести?
– Вижу, что вы струсили.
– Так вот, доктор… я хотел бы, чтобы вы увидели эту женщину.
– Я?
– Да, вы. Окажите мне эту услугу.
– А где я ее найду?
– После того как я ее выгнал, я отодвинул занавес на окне моей комнаты и увидел ее сидящей на каменной тумбе вместе с ребенком.
– И вы думаете, что она еще там?
– Да.
– Значит, вы ее видели еще раз?
– Нет, я вышел через заднюю дверь и прибежал к вам.
– А почему вы не вышли через главный вход и не приехали в карете?
– Я боялся, что она бросится под ноги лошадей.
Я вздрогнул.
– Чего вы хотите от меня? Чем я могу быть полезен?
– Доктор, окажите мне эту услугу, поговорите с ней, договоритесь, чтобы она вернулась в Трувиль с ребенком, я дам ей все, что она пожелает, десять тысяч, двадцать тысяч, пятьдесят тысяч франков.
– Но если она откажется?
– Если она откажется, если она откажется… ну что ж! Тогда… увидим.
Барон произнес эти последние слова таким ужасным тоном, что я испугался за эту женщину.
– Хорошо, сударь, я повидаюсь с ней.
– И добьетесь… чтобы она уехала?
– Я не могу поручиться за это; все, что я могу вам обещать, так это поговорить с ней на языке разума; от нее будет зависеть, увидит ли она разницу между собой и вами.
– Разницу?
– Да.
– Вы забываете, я же вам признался, что я не барон, я крестьянин, простой крестьянин, который своим умом… поднялся выше своего положения, только, умоляю вас, не говорите об этом никому. Вы понимаете, если господин де Макарти узнает, что я крестьянин, он не отдаст за меня свою дочь.
– Вы придаете такое большое значение этому браку?
– Я уже вам говорил, что это единственная возможность положить конец рискованным спекуляциям, которыми я вынужден заниматься.
– Я поговорю с этой девушкой.
– Сегодня вечером?
– Сегодня вечером. Где я ее найду?
– Там, где я ее видел.
– На каменной тумбе?
– Да.
– Вы полагаете, она все еще там?
– Уверен.
– Пойдемте.
Он живо поднялся и направился к двери; я пошел вслед за ним.
Мы вышли.
Я жил всего в пятистах шагах от него. Подойдя к пересечению улиц Тэбу и Эльдер, он остановился и показал пальцем на что-то бесформенное, с трудом различимое в темноте.
– Там, там, – сказал он.
– Что там?
– Она.
– Эта девушка?
– Да, я вернусь по улице Эльдер. Дом, как вы знаете, имеет два входа. Идите к ней.
– Иду.
– Подождите. Последняя услуга, прошу вас. Мне кажется, я схожу с ума; у меня головокружение: все кружится передо мной… Вашу руку, доктор, проводите меня до задней двери.
– Охотно.
Я взял его за руку – он действительно качался как пьяный – и довел до двери.
– Спасибо, доктор, спасибо, я вам очень признателен, клянусь, если бы вы были человеком, который требует соответствующей оплаты за свои услуги, я заплатил бы вам столько, сколько вы потребовали бы. Ну вот, мы пришли; вы ведь дадите мне завтра ответ, не так ли? Я обязательно приду к вам, но не днем: боюсь встретить ее.
– Я сам приду к вам.
– Прощайте, доктор.
Он позвонил; ему открыли.
– Минутку, – сказал я, задержав его, – имя этой женщины?
– Мари Гранже.
– Хорошо… До свидания.
Он вошел в дом, я же прошел снова по улице Эльдер, чтобы вернуться на улицу Тэбу.
Дойдя до пересечения двух улиц, где я видел эту женщину, я услышал шум и заметил довольно большую группу людей, суетившихся в темноте.
Я подбежал.
Проходивший мимо полицейский патруль заметил несчастную, а так как она не захотела ответить на вопрос, что ей нужно здесь в два часа ночи, ее повели в караульное помещение.
Бедная женщина шла в окружении национальных гвардейцев с плачущим ребенком на руках; сама она не проронила ни одной слезинки, ни одной жалобы.
Я быстро подошел к начальнику патруля.
– Извините, сударь, но я знаю эту женщину, – сказал я ему.
Она живо подняла голову и посмотрела на меня.
– Это не он, – сказала она и опустила голову.
– Вы знаете эту женщину, сударь? – спросил меня капрал.
– Да… ее зовут Мари Гранже, она из деревни Трувиль.
– Да, меня зовут именно так, и я из этой деревни. Кто вы такой, сударь? Небо праведное, кто вы?
– Я доктор Фабьен, я от него.
– От Габриеля?
– Да.
– Тогда, господа, позвольте мне уйти, умоляю вас, позвольте мне пойти с ним…
– Вы действительно доктор Фабьен? – спросил меня начальник патруля.
– Вот моя карточка, сударь.
– И вы отвечаете за эту женщину?
– Я отвечаю за нее.
– Тогда, сударь, вы можете ее увести.
– Спасибо.
Я подал руку бедной девушке, но она показала жестом на ребенка, которого ей надо было нести.
– Я пойду вслед за вами, сударь, – сказала она. – Куда мы идем?
– Ко мне.
Десять минут спустя она была в моем кабинете, на том же месте, где полчаса тому назад сидел так называемый барон де Фаверн. Ребенок спал в глубоком кресле в соседней комнате.
Мы оба долго молчали; наконец, она начала первой.
– Итак, сударь, вы хотите, чтобы я вам все рассказала? – спросила она.
– Все, что посчитаете необходимым, сударыня. Заметьте, я вас не допрашиваю, а жду, чтобы вы сами заговорили, вот и все.
– Увы! Все, что я могу вам рассказать, очень грустно, сударь, и к тому же это для вас совсем неинтересно.
– Мой долг лечить любую болезнь – и физическую и нравственную, – поэтому не бойтесь довериться мне, если вы считаете, что я могу облегчить ваши страдания.
– О! Облегчить их может только он, – сказала несчастная женщина.
– Что ж, так как он мне поручил повидаться с вами, надежда остается.
– Тогда слушайте, но не забывайте при этом, что я лишь бедная крестьянка.
– Поскольку вы говорите это, я вам верю, однако, судя по вашей речи, можно предположить, что вы более высокого социального положения.
– Я дочь сельского учителя, родилась в деревне, и это объяснит вам все. Я получила кое-какое образование, умею читать и писать немного лучше, чем другие крестьяне, и не более того.
– Значит, вы из той же деревни, что и Габриель?
– Да, только я на четыре или пять лет моложе его. Как ни давно это уже было, но я вижу, как он сидит вместе с двадцатью другими мальчиками из деревни – их собирал мой отец за длинным столом, изрезанным перочинными ножами, с именами и рисунками тех, кого мой отец учил писать, читать и считать. Габриель был сын порядочного человека – фермера, чье доброе имя было общеизвестно.
– Его отец еще жив?
– Да, сударь.
– Но он перестал видеться с сыном?
– Он не знает, где он, и думает, что сын уехал на Гваделупу. Но подождите, всему свое время. Извините меня за длинноты, но мне нужно рассказать вам все подробно, чтобы вы могли судить о нас обоих.
Габриель, хотя казался крупным для своего возраста, был слабым и болезненным, поэтому его всегда били, даже дети моложе его. Я помню также, что он боялся выходить из школы вместе с остальными, когда школьники шли домой, и почти всегда мой отец заставал его на лестнице, куда он убегал прятаться из страха быть побитым и где дети не осмеливались его искать.
Мой отец спрашивал у него, что он там делает, и бедный Габриель отвечал ему со слезами: он боится, что его побьют.
Мой отец тотчас же посылал за мной, и я отправлялась в качестве охраны с бедным беглецом. Под моим покровительством Габриель возвращался домой целым и невредимым, так как при дочери учителя никто не осмеливался его тронуть.
В результате он сильно привязался ко мне и мы были постоянно вместе, только с его стороны это был эгоизм, а с моей – жалость.
Габриель с трудом научился читать и считать, но был очень способным к чистописанию; у него был не только прекрасный почерк, но еще и способность подделывать почерки всех своих товарищей так, что подделку не мог отличить даже тот, кого копировали.
Дети смеялись, их забавлял такой редкий талант, но мой отец грустно покачивал головой и часто говорил:
"Поверь мне, Габриель, не надо делать такого… это плохо кончится".
"Ба! Что может случиться, господин Гранже? – говорил Габриель. – Я буду учителем чистописания, вместо того чтобы ходить за плугом".
"Это не профессия – быть учителем чистописания в деревне", – отвечал мой отец.
"Ну и что! Поеду в Париж", – отвечал Габриель.
Что же касается меня, то я не видела ничего плохого в том, что он копировал почерки других. Этот талант у Габриеля все больше и больше совершенствовался, и меня это очень забавляло.
Так как Габриель не ограничивался подделкой почерков, он копировал все.
Ему попала в руки гравюра, и с удивительным терпением он скопировал ее, линию за линией, с такой точностью, что если бы не разница в размере листа и в цвете чернил, то трудно было бы сказать, рассматривая оригинал и копию, где работало перо, а где – гравировальный резец. Бедный отец, увидевший в этой гравюре то, чем она была на самом деле, то есть шедевр, поручил деревенскому стекольщику вставить ее в рамку и всем показывал.
Мэр со своим помощником пришли посмотреть на нее, и мэр сказал помощнику: "Фортуна этого молодого человека находится на кончиках его пальцев".
Габриель услышал эти слова.
Мой отец научил его всему что мог; Габриель возвратился на ферму.
Так как он был старший сын в семье, а было еще двое детей и Тома Ламбер не был богат, мальчику надо было начинать трудиться.
Но ходить за плугом было для него невыносимо.
В противоположность крестьянам, Габриелю нравилось и ложиться спать и вставать поздно; самым большим счастьем было для него работать до полуночи и рисовать пером всевозможные буквы, рисунки, делать копии, поэтому зима была его любимым временем года, а вечерние часы – настоящим праздником.
С другой стороны, отвращение Габриеля к сельским работам приводило в отчаяние его отца. Тома Ламбер был не настолько богат, чтобы кормить лишний бесполезный рот. Он думал, что Габриель избавит его от необходимости нанимать работника. Но, к своему большому огорчению, он увидел, что ошибался.








