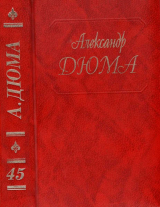
Текст книги "Жорж. Корсиканские братья. Габриел Ламбер. Метр Адам из Калабрии"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 52 страниц)
Отпущенная борода его росла во все стороны, была редкой и какого-то немыслимого цвета, однако она не придавала оригинальности его физиономии.
Его светло-серые глаза блуждали с одного предмета на другой, не оживляясь никаким выражением; руки и ноги были хрупкими и по своей природе казались не предназначенными для тяжелой работы; тело явно не обладало физической силой.
Наконец, из семи смертных грехов, вербующих на земле войско именем врага рода человеческого, он выбрал, очевидно, грех лени, чтобы вступить под его знамена.
Я тут же отвернулся бы от этого человека, уверенный в том, что для изучения он являл собой только тип заурядного преступника, если бы не какое-то смутное воспоминание, шевельнувшееся в моей памяти и подсказавшее, что я вижу этого человека не впервые.
К сожалению, как я уже говорил, у него было одно из тех невыразительных лиц, которые без особых причин не могут привлечь к себе внимания…
И все же я был уверен в том, что где-то уже встречал этого человека. Тот факт, что он избегал моего взгляда, еще больше убеждал в этом. Но где мне пришлось его видеть, совсем вылетело у меня из головы.
Я подошел к надсмотрщику и спросил имя того из моих гостей, кто уделил столь мало внимания предложенному мною угощению.
Его звали Габриель Ламбер.
Это имя мне ничего не говорило: я слышал его впервые.
Я подумал, что ошибся, и, увидев Жадена, появившегося на пороге нашего дома, пошел к нему навстречу.
Жаден нес два ружья: наша прогулка в этот день сводилась лишь к охоте на морских птиц.
Перекинувшись несколькими словами с Жаденом, я попросил его понаблюдать за предметом моего любопытства.
Жаден не помнил, чтобы он когда-нибудь видел этого человека, и, так же как и мне, имя Габриеля Ламбера было ему незнакомо.
В это время наши каторжники покончили с угощением и встали, чтобы занять свои места в лодке. Мы подошли к ним.
Добраться до лодки можно было только прыгая с камня на камень. Надсмотрщик сделал знак несчастным войти по колено в воду и помочь нам.
Тут я заметил одну странность – вместо того чтобы подать нам руку для опоры, как это сделали бы обыкновенные матросы, они подставляли нам свой локоть.
Что это было – заранее отданное приказание или покорное убеждение, что их рука недостойна касаться руки честного человека?
Что же касается Габриеля Ламбера, то он был со своим напарником уже в лодке, на своем обычном месте, и держал в руке весло.
II
АНРИ ДЕ ФАВЕРН
Мы отчалили; вокруг нас кружилось невероятное множество чаек, больших и маленьких, но мое внимание сосредоточилось лишь на одном предмете. Чем дольше я смотрел на этого человека, тем более крепла моя уверенность в том, что в недавнем прошлом наши пути каким-то образом пересеклись.
Где? Каким образом? Вот этого-то я не мог припомнить.
Два или три часа я настойчиво копался в своей памяти, но все было безрезультатно.
Каторжник же, казалось, настолько был озабочен тем, чтобы избежать моего взгляда, что меня стало утомлять то, как на него действует мое внимание, и поэтому я попытался думать о чем-нибудь другом.
Но известно, если внимание неотступно приковано к одному какому-то человеку, то переключить свой интерес на что-то иное бывает просто невозможно.
Каждый раз, когда я отводил глаза в другую сторону, а затем быстро поворачивался к этому каторжнику, я ловил его взгляд, обращенный на меня, и это еще больше укрепляло мою уверенность в том, что я не ошибся.
В течение дня мы два или три раза сходили на берег. В тот период я собирал сведения о последних событиях в жизни Мюрата, а часть их происходила в этих местах. И я то просил Жадена сделать для меня какой-нибудь рисунок, то сам прогуливался, чтобы просто осмотреть местность.
Подходя к надсмотрщику с намерением расспросить его, я каждый раз неизменно встречал взгляд Габриеля Ламбера, столь покорный и умоляющий, что мне приходилось откладывать расспросы.
Мы вернулись домой в пять часов пополудни.
Поскольку остаток дня должен был быть занят ужином и работой, я отпустил надсмотрщика с его командой, назначив ему свидание на следующий день в восемь утра.
Вопреки собственному желанию, я не смог думать ни о чем другом, кроме как об этом Человеке.
Всем нам случалось искать в памяти чье-то имя и не находить его, хотя когда-то мы это имя прекрасно знали. Оно ускользает из памяти; каждый миг ты готов его произнести, оно звучит в ушах, мелькает в уме, как мимолетный проблеск света, должно вот-вот сорваться с языка, а потом вдруг снова пропадает, еще глубже погружаясь в темноту, чтобы исчезнуть навсегда. Тогда задаешь себе вопрос, не во сне ли ты слышал это имя, и кажется, что, упорствуя в поисках его, рассудок сам начинает блуждать во мраке и доходит до грани безумия.
Так было со мной почти весь вечер и часть ночи.
Но еще более странным было то, что от меня ускользало не имя, то есть нечто неосязаемое, бесплотный звук, а человек, и он находился пять или шесть часов перед моими глазами, его можно было рассмотреть, до него можно было дотронуться рукой.
Тут у меня, по крайней мере, не было сомнений: это не было ни созданным мной сновидением, ни явившимся вдруг привидением.
Я был уверен в реальности увиденного и с нетерпением ждал утра.
С семи часов я был уже у окна, чтобы увидеть, как подойдет лодка.
Я заметил ее, когда она, похожая на черную точку, выходила из порта; затем по мере приближения ее очертания становились все более отчетливыми.
Сначала она напоминала большую рыбу, плывущую по поверхности моря; вскоре стали видны весла и казалось, что это шло по воде чудовище на двенадцати лапах.
Затем стали различимы отдельные люди, потом – черты их лиц.
Но напрасно я пытался разглядеть Габриеля Ламбера: его на борту не было, двое новых каторжников заменили его и его напарника.
Я бросился на берег.
Каторжники подумали, что я спешу сесть в лодку, поэтому они попрыгали в воду, чтобы образовать цепочку, но я знаком подозвал только надсмотрщика.
Когда он подошел, я спросил у него, почему нет Габриеля Ламбера.
Он ответил, что у Габриеля ночью начался сильный жар и он попросил освободить его от работы, что и было сделано на основании медицинского свидетельства.
Во время моего разговора с надсмотрщиком я мог видеть через его плечо лодку и ее экипаж и заметил, как один из каторжников вынул из своего кармана письмо и показал его мне.
Это был тот, кого называли Отмычка.
Я понял, что Габриель нашел способ написать мне, а Отмычка взялся передать его послание.
Жестом я ответил ему, что понял, а надзирателю выразил свою благодарность.
– Вам хотелось бы с ним поговорить? – спросил он меня. – В таком случае, больного или здорового, я заставлю его прибыть завтра.
– Нет, – ответил я ему, – меня поразило его лицо, и, не увидев этого человека сегодня среди остальных, я спросил о нем. Мне кажется, он выше тех, среди кого находится.
– Да, да, – сказал надсмотрщик, – это один из наших господ, и, как бы он ни скрывал это, такое видно сразу.
Я собирался спросить у моего славного стража, что он подразумевал под словами "один из наших господ", когда увидел, что Отмычка, тащивший за собой прикованного цепью напарника, поднял камень и спрятал под ним письмо, которое он показывал мне.
Тогда, как нетрудно понять, получить это письмо стало моим единственным желанием.
Кивком я отпустил надзирателя, показывая тем самым, что мне больше нечего ему сказать, и сел возле камня.
Он тотчас же вернулся на свое место в носовой части лодки.
Тем временем я поднял камень и схватил письмо, как ни странно, не без некоторого волнения.
Вернувшись к себе, я развернул его. Письмо было написано на грубой бумаге из школьной тетради, но сложено аккуратно и даже с некоторым изяществом.
Почерк был мелкий и такой отчетливый, что оказал бы честь профессиональному писцу.
Адресовано оно было так:
«Господину Александру Дюма».
Значит, этот человек тоже меня узнал.
Я быстро развернул письмо и прочитал следующее:
"Сударь,
я видел вчера Ваши усилия меня узнать, а Вы должны были заметить, как я старался не быть узнанным.
Вы понимаете, что среди всех унижений, которым мы подвергаемся, самое большое – это, опустившись столь низко, очутиться лицом к лицу с человеком, которого ты встречал в свете.
Я прекинулся больным, чтобы избежать сегодня этого унижения.
Поэтому, сударь, если у Вас осталась какая-то жалость к несчастному, который знает, что не имеет на нее права, не требуйте моего возвращения к Вам на службу, я осмелюсь даже просить Вас о большем: не расспрашивайте сейчас обо мне. В обмен на эту милость, о которой я Вас молю на коленях, даю Вам честное слово сообщить имя, под которым вы меня встречали, прежде чем Вы покините Тулон. Это имя даст Вам возможность узнать обо мне все, что Вы желаете знать.
Соблаговолите удовлетворить просьбу того, кто не осмеливается рассказать о себе.
Ваш покорный слуга
Габриель Ламбер".
Как адрес, так и письмо были написаны прекраснейшим почерком с наклоном вправо, что указывало на определенную привычку к перу, хотя три орфографические ошибки выдавали отсутствие всякого образования.
Подпись была украшена одним из тех сложных росчерков, какие теперь можно увидеть только у некоторых деревенских нотариусов.
Это была смесь врожденной вульгарности и приобретенной элегантности.
Письмо пока ни о чем не говорило, но обещало, что в будущем я узнаю все, о чем мне хотелось знать. Я почувствовал жалость к этому существу, более возвышенному или, если угодно, более униженному, чем остальные.
Не было ли остатков высокого положения в самом его унижении?
Я решил ответить согласием на его просьбу.
И я сказал надсмотрщику, что совсем не желаю, чтобы мне возвращали Габриеля Ламбера, напротив, прошу избавить меня от присутствия человека, чье лицо мне не нравится.
Больше об этом я не заговаривал и никто другой не обмолвился о нем ни словом.
Я пробыл в Тулоне еще две недели, и все это время лодка и ее экипаж оставались в моем распоряжении.
О своем отъезде я объявил заранее.
Мне хотелось, чтобы новость дошла до Габриеля Ламбера.
Хотелось также посмотреть, вспомнит ли он о данном мне честном слове.
Последний день прошел; ничто не говорило о том, что этот человек расположен сдержать слово. Признаюсь, я уже упрекал себя за доверчивость, однако, прощаясь с гребцами, увидел, как Отмычка бросил взгляд на тот камень, под которым раньше я нашел письмо.
Этот взгляд был таким многозначительным, что я тут же все понял и ответил на него утвердительным знаком.
Затем, когда эти несчастные, огорченные моим отъездом, так как две недели на службе у меня были для них праздником, удалились от дома на веслах, я поднял камень и под ним нашел визитную карточку.
Карточка была написана от руки, но так искусно, что можно было поклясться, будто она была выгравирована.
Я прочитал на ней:
«Виконт Анри де Фаверн».
III
ФОЙЕ ОПЕРЫ
Габриель Ламбер был прав: одно это имя помогло мне вспомнить если не все, то, по крайней мере, часть того, что я хотел знать.
– Ну, конечно же, Анри де Фаверн! – воскликнул я. – Анри де Фаверн, это он! Почему же, черт возьми, я его не узнал?!
По правде говоря, я видел человека, носящего это имя, только два раза, но при обстоятельствах, глубоко запечатлевшихся в моей памяти.
Это произошло на третьем представлении "Роберта-Дьявола". В антракте я прогуливался в фойе Оперы с бароном Оливье д’Орнуа, одним из моих друзей.
В этот вечер мы встретились после его трехлетнего отсутствия.
Выгодные коммерческие дела заставили моего друга уехать на Гваделупу, где его семья имела значительные владения, и только месяц назад он возвратился из колоний.
Я был рад вновь его увидеть, так как раньше мы были очень близки.
Прогуливаясь по фойе, мы дважды повстречались с человеком, который каждый раз смотрел на Оливье с поразившим меня возбуждением.
Когда мы встретились с ним в третий раз, Оливье мне сказал:
– Вы не будете возражать, если мы погуляем в коридоре, а не здесь?
– Конечно, нет, – ответил я ему, – но почему?
– Я сейчас вам скажу, – начал он.
Мы сделали несколько шагов и оказались в коридоре.
– Потому что, – продолжал Оливье, – мы два раза столкнулись с одним человеком.
– Он смотрел на вас как-то странно, я это заметил. Кто же он?
– Я не могу сказать точно, но уверен, что он ищет повода свести со мной счеты, а я не намерен способствовать ему в этом.
– А с каких это пор, мой дорогой Оливье, вы боитесь стычек? Раньше, как мне помнится, у вас была роковая известность человека, который искал их, а не избегал.
– Да, несомненно, я дерусь, когда это нужно, но, вы знаете, нельзя же драться со всеми на свете.
– Понимаю, этот человек – мошенник.
– Я не уверен, но боюсь, что это так.
– В таком случае вы совершенно правы, жизнь – это богатство, которым стоит рисковать лишь ради чего-то равноценного. Тот, кто поступает иначе, остается в дураках.
В эту минуту открылась дверь ложи и хорошенькая молодая женщина сделала рукой кокетливый знак Оливье, пригласив его поговорить с ней.
– Извините, дорогой мой, я должен вас оставить.
– Надолго?
– Нет, погуляйте в коридоре, через десять минут я вернусь к вам.
– Чудесно.
Некоторое время я прохаживался один и оказался в противоположной стороне от того места, где меня оставил Оливье, но вдруг услышал громкий шум и увидел, как другие прогуливающиеся по фойе люди устремились туда, где этот шум возник. Я последовал за ними и увидел Оливье, отделившегося от этой группы и бросившегося ко мне со словами:
– Пошли, дорогой мой, уйдем отсюда.
– Что случилось? – спросил я. – Почему вы так побледнели?
– Случилось то, что я предвидел. Этот человек оскорбил меня, и я должен с ним драться. Пойдемте же поскорее ко мне или к вам, и я вам все расскажу.
Мы стали быстро спускаться по одной из лестниц, а незнакомец шел по другой, прижимая к лицу носовой платок, испачканный кровью.
Оливье столкнулся с ним у двери.
– Не забудьте, сударь, – произнес незнакомец так громко, чтобы его слышали все, – я жду вас завтра в шесть часов в Булонском лесу, в аллее Ла-Мюэт.
– О да, сударь, – откликнулся Оливье, пожав плечами, – как условились.
И он пропустил вперед своего противника; тот вышел, кутаясь в плащ и явно пытаясь произвести впечатление на окружающих.
– О Боже мой, дорогой друг, – сказал я Оливье, – кто этот господин? И вы с таким будете драться?
– Это необходимо, черт возьми! Пусть!
– А почему это нужно?
– Потому что он поднял на меня руку, а я его ударил по лицу тростью.
– Даже так?
– Честное слово! Сцена получилась самая мерзкая, достойная грузчиков, и мне стыдно, но что вы хотите, так уж случилось.
– Но кто этот мужлан, считающий, что, для того чтобы заставить драться людей вроде нас с вами, им следует дать пощечину?
– Кто это? Это господин, называющий себя виконтом Анри де Фаверном.
– Анри де Фаверн? Не знаю такого.
– Я тоже не знаю.
– И что же? Как же вы будете драться с человеком, которого вы не знаете?
– Именно потому, что я его не знаю, я должен с ним драться; вам это кажется странным, не так ли?
– Признаюсь, это так.
– Я сейчас вам все расскажу. Стоит прекрасная погода, и, вместо того чтобы сидеть в четырех стенах, давайте-ка пройдемся до площади Мадлен.
– Куда хотите.
– Вот вся история. Этот господин Анри де Фаверн имеет прекрасных лошадей и играет напропалую, хотя никто не знает, есть ли у него какое-нибудь состояние. Более того, он оплачивает все, что покупает, и все, что проигрывает, тут ничего не скажешь. Но, кажется, сейчас он собрался жениться; у него потребовали объяснений по поводу состояния, которым он так разбрасывается. Он ответил, что принадлежит к семье богатых колонистов, имеющих значительные поместья на Гваделупе.
И вот, как раз когда я вернулся, ко мне обратились, не знаю ли я графа де Фаверна из Пуэнт-а-Питра.
А надо сказать, дорогой друг, что я знаю в Пуэнт-а-Питре всех, кто заслуживает этого, и что ни в одном уголке острова нет и в помине графа де Фаверна.
Вы понимаете, я рассказал все как есть, не придавая этому большого значения. А потом, в конце концов, это правда, и я повторил бы свой ответ в любом случае.
А между тем оказалось, что мой отказ признать этого господина стал препятствием в его женитьбе. Он громко кричал, что я клеветник и что он заставит меня раскаяться в клевете. Я не слишком волновался по этому поводу, но вот сегодня вечером, как вы видели, я его встретил и почувствовал, а такое чувствуешь, вы это знаете, что с этим человеком мне придется драться.
В остальном, дорогой друг, вы были свидетелем того, что я как мог пытался избежать этой дуэли, но что поделаешь, большего сделать было нельзя. Я покинул фойе, ушел в коридор, но, заметив, что он последовал за нами, вошел в ложу графини М. Графиня, как вам известно, сама креолка, но и она никогда не слышала ни об этом господине, ни о ком другом под этим именем.
Я подумал, что, наконец, избавился от преследования… Но он меня поджидал у дверей ложи, об остальном вы знаете: мы деремся завтра, вы сами слышали.
– Да, в шесть часов утра, но кто так назначил?
– Это еще раз доказывает, что я имею дело с каким-то деревенщиной.
– Разве противники сами должны решать все это? Что же остается тогда секундантам? А потом, драться в шесть часов утра! Подумать только! Кто встает в шесть часов?
– Этот господин в молодости, видимо, ходил за плутом; что же касается меня, то завтра утром у меня будет отвратительное настроение и я буду плохо драться.
– Как это вы будете плохо драться?
– Конечно, поединок, черт побери, это серьезное дело! Это в любви себе ни в чем не отказывают, а в том, что касается дуэли, нельзя позволить себе ни малейшей прихоти! Знаю одно: я всегда дрался в одиннадцать часов или в полдень и, как правило, чувствовал себя прекрасно. В шесть утра, посудите сами, в октябре! Умирать от холода и дрожать, не выспавшись…
– Ну, так что же? Возвращайтесь и ложитесь спать.
– Да, легко сказать, ложитесь. Накануне дуэли всегда есть какие-то дела: надо написать концовку завещания, письмо матери или любовнице – это до двух часов ночи. А потом спится плохо, так как, видите ли, сколько ни говоришь себе, что ты не робкого десятка, ночь перед дуэлью всегда скверная. И надо будет подняться в пять утра, чтобы быть в Булонском лесу в шесть, встать при свечах; вы знаете что-нибудь неприятнее этого? Так что пусть этот господин поостережется, я не собираюсь его щадить, ручаюсь вам. Кстати, я рассчитываю на вас в качестве секунданта.
– Еще бы!
– Принесите свои шпаги, я не хочу пользоваться моими, он может сказать, что они создают мне преимущество.
– Вы деретесь на шпагах?
– Да, я предпочитаю шпаги: они так же хорошо убивают, как и пистолет, но не калечат. Гадкая пуля пробивает вам руку, ее нужно отрезать – и вы однорукий. Принесите ваши шпаги.
– Хорошо, я буду у вас в пять часов.
– В пять часов! Как будто и для вас удовольствие вставать в пять часов!
– О! Для меня это почти не имеет значения: в это время я только ложусь.
– Как бы то ни было, когда все происходит между порядочными людьми и вы мой секундант, заставьте меня драться как вам угодно, но назначьте дуэль на одиннадцать часов или в полдень, и вы увидите, слово чести, тут и сравнивать нельзя, я одержу победу, уверен на сто процентов.
– Перестаньте, не сомневаюсь, вы и так будете великолепны.
– Я сделаю все возможное, но, честное слово, предпочел бы драться сегодня вечером под уличным фонарем, как караульный солдат, чем вставать завтра в такую рань. Вам, мой дорогой, не надо писать завещание, поэтому идите спать, идите и примите мои извинения за этого господина.
– Покидаю вас, дорогой Оливье, чтобы вы посвятили все свое время себе. У вас есть какие-нибудь другие указания для меня?
– Да, кстати, мне ведь нужны два секунданта, зайдите в клуб и предупредите Альфреда де Нерваля, что я рассчитываю на него. Это не будет ему очень в тягость: он играет как раз до этого времени, и этим все сказано. И потом нам будет нужен – честное слово, не знаю, как я это мог забыть? – доктор. Я не хочу, если нанесу этому господину удар шпагой, зализывать его рану – предпочитаю пустить ему кровь.
– Вы кому-нибудь отдаете предпочтение?
– В каком смысле?
– Я имею в виду доктора.
– Нет, я всех их одинаково опасаюсь.
– Возьмите Фабьена, это же ваш врач? И мой тоже, он с удовольствием окажет нам эту услугу.
– Пусть так. Лишь бы у него не было осложнений с королем, так как, знаете, его только что взяли ко двору как дежурного врача.
– Будьте спокойны, он об этом даже не подумает.
– Верю, это отличный малый, извинитесь перед ним за меня, ведь ему придется вставать так рано.
– Ба! Да он к этому привык.
– При родах, а не на дуэли. Надо же, я болтаю как сорока и держу вас на улице, на ногах, тогда как вы должны быть в постели. Идите спать, дорогой мой, идите спать.
– Ну что ж, до свидания, и будьте мужественны!
– Э! Слово чести, уверяю вас, я об этом и не думаю, – сказал Оливье, зевая во весь рот, – по правде говоря, вы даже не представляете, насколько мне противно драться с этим пройдохой.
И с этими словами Оливье ушел к себе, а я отправился в клуб и к Фабьену.
Подав Оливье руку при расставании, я почувствовал, как от нервного возбуждения дрожала его рука.
Я ничего не понимал: он едва ли не славился как дуэлянт, почему же эта дуэль так его беспокоит?
И все же моя уверенность в нем по поводу следующего дня не стала меньше.








