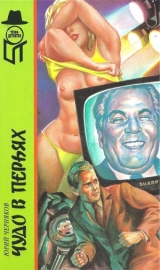
Текст книги "Чудо в перьях"
Автор книги: Юрий Черняков
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
10
С этого дня многое изменилось в нашем доме. Прежде всего поломался принятый распорядок. Хозяин много спал, вставал около часа дня, требовал меня, а если я был в это время в филармонии, Мария бросала все и занималась только им. Небритый, босой, в застиранных тренировочных шароварах, он появлялся в саду, зевал, чесал себе живот, отмахивался от мух и корреспондентов, пристававших к нему через забор с расспросами и наставлявших фотокамеры. Пару раз приезжала Елена Борисовна со своими операторами, совсем как в прежние времена – ее на работе никто не восстанавливал, она просто пришла на другой же день после возвращения Радимова на телестудию, и все приняли это как должное.
Потом, уже не обращая ни на кого внимания, он возился на грядках, брюзжал, что все не так, что не здесь надо было сажать редиску.
И репортеры записывали…
Мои родители принимались с ним спорить, мать наконец отмахивалась и уходила, а отец только раззадоривался, мол, начальник ни черта не понимает в сельском хозяйстве и потому в данной области у нас такие трудности, и шаг за шагом выводил Андрея Андреевича на глобальные проблемы, отчего тот сразу сникал, тоскливо оглядывался на дежуривших под забором: не слышат ли… И, посрамленный правдой-маткой, не выдерживал, уходил в дом: запирался у себя в кабинете. К торжеству противной стороны.
Вечером отец пытался продолжить диспут, но его не поддерживали, глядя, как Радимов возводит глаза к потолку, и обиженно смолкал.
– У нас теперь два ребенка, – говорила мне мать. – И не поймешь, кто капризнее. Хотя бы он делом каким занялся. Погулять с Сережей не допросишься. Все некогда. Сидит целыми днями в кабинете, бумагу переводит…
Между тем жизнь в Крае шла своим чередом. Те, кто проклинал правящий, хотя и призрачный триумвират за поворот Реки, теперь прославляли хозяина за мудрое решение сделать это, принятое еще раньше. Я все больше убеждался в правильности выбранной им новой формы правления. Ни во что не вмешивался, но везде незримо присутствовал.
– Я подумываю, не взять ли мне в будущей жизни руководство над какой-нибудь страной, – говорил он мне за поздним чаем, когда все в доме уже засыпали. – Думаю, что буду готов. Так, небольшая страна, хорошо где-нибудь в центре Европы. Не подвели бы только будущие фамилия, дата и место рождения.
– А я кем буду при вас? – спросил я. – Телохранителем?
– Так далеко мои планы еще не простирались, – раздраженно отмахнулся он. – Ты как твой отец. Вот почему я завалил сельское хозяйство! А я не могу заниматься тем, что мне не присуще! Что мне претит. Но меня заставляли! Но разве это кому объяснишь?
После этих ночных чаепитий я не мог долго заснуть, а утром надо было рано вставать. Но я постоянно должен был выслушивать его брюзжание по поводу происходящего в стране, пока он сам не захочет спать.
В филармонии я ходил сонный, со слипающимися глазами, путал партии, расписание, начинал на всех орать, отменял гастроли…
Хористы и музыканты удивленно поглядывали, но пока не роптали.
Но чаи с хозяином мы гоняли не просто так. Мы ждали звонка оттуда, откуда он сбежал. Но телефон отмалчивался.
– Они взяли на вооружение вашу тактику выжидания, – сказал я.
– Это лишний раз подтверждает мою правоту, – важно кивнул он. – Кто первым сделает ход, тот попадет в цугцванг. Они это понимают. Ты хоть знаешь, что такое цугцванг?
– А вы знаете, что такое сюрпляс? – парировал я. – То же самое, только хуже. Велосипедисты на треке стоят на месте, пропуская противника, чтобы потом вырваться из-за его спины.
– Скоро выборы… – вздохнул он и снова посмотрел на телефон. – Мне стоило стольких трудов пробить всеобщие выборы с альтернативными кандидатами. Что-то они там замышляют. Пора начинать предвыборную кампанию, а они не чешутся… Может, тебе следует туда смотаться? Проведи там разведку боем. Прощупай Рому, чем он может быть нам полезен. Но только ненадолго.
– Но у меня репетиции! – сказал я. – Мы репетируем каждый день Баха.
– Вот получишь срок за покушение на драгоценную жизнь Ромы… Там, в зоне, и порепетируешь.
– Но ведь я этого не хотел! – крикнул я. – Я только собирался кое о чем спросить. До того как он приедет на концерт! И все! И вы это знаете!
– Я тоже не хотел, – кивнул он. – Я думал, ты с ним просто переговоришь, а ты, как всегда, перестарался. И вот результат: Рома – канонизированный мученик за идею. Но мы это уже обсуждали… Утром и отправляйся с Богом. Если позвонят из филармонии, я сам возьму трубку. Скажу, что ты болен, не можешь подойти. Надеюсь, мне поверят.
Он знал, что говорил. Находясь у нас, он еще ни разу не подошел к телефону. Если звонили, а мои родители в это время копались в огороде, он кричал им в окно, чтобы подошли. И мать бежала, задыхаясь, поднималась на второй этаж, чтобы снять трубку с аппарата на его столе.
Он только говорил ей, не поворачивая головы: «Меня нет. Кто спрашивает?» Чем отучил названивать всех, кто домогался с ним встречи.
– Вы помните Пичугина? – спросил я.
– Пичугина? – сощурился он, припоминая.
– Он вас возил до меня. Вы еще его подставили с вашими любимыми глазированными сырками. Неужели забыли?
– А, вспомнил. Был очень исполнительный и знал чувство меры. В отличие от тебя, кстати говоря. Любые мои задания выполнял аккуратно, точно и в срок. Почему ты спрашиваешь?
– Он покаялся. Стал святым человеком. Служит Богу. Вот и я бы так хотел… Да, видно, не судьба.
– Он очень хороший человек, – согласился хозяин. – И мне было жаль с ним расставаться. Самые деликатные просьбы он выполнял без подсказок, – повторил он с нажимом. – И после него ничего не приходилось доделывать…
– Что? – надвинулся я к нему поближе. – Что вы хотите этим сказать?
– Что ему есть в чем каяться! И что мне не нравится твой тон!
– Ах тон! – Я оглянулся в поисках чего потяжелее. – Ах ты, мразь! Ты как пиявка ко мне присосался! Никак отделаться не могу!.. Тон тебе не нравится? Да ты его ногтя не стоишь!
– Паша! – крикнула сзади Мария. – Ты что!
– Пусть… – спокойно сказал хозяин, бледнея. – Пусть наконец выскажется… Знаешь, Маша, под какой кличкой он фигурирует в органах? Я ведь листал его досье, пока это было возможно. Шакал! По-моему, очень точно… Ну продолжай, что замолчал? Выскажи при своей жене, при сыне, при родителях, что ты думаешь обо мне. И скажи потом людям! Всем скажи.
– И скажу! Что ты врешь! Пичугин не такой. Он не мог!
– Все, – сказал хозяин, собирая со стола свои бумаги, складывая их в папку. – Ничего я тебе не говорил, ни о чем не просил. Все, говорю! Свободен.
– Свободен? – Я снова рванулся к нему, но Мария обхватила меня сзади, а Сережа закричал и заплакал. – Да я ж твой раб! Ты разве отпустишь от себя? Хоть на миллиметр! Я без тебя вздохнуть не имею права… С чем бы я поехал к Цаплину? Что он выиграл наш спор! Что он победил! Что я был рабом и остался! Никакого Павла Сергеевича, знаменитого дирижера – нет! Видимость одна!
Внезапно я почувствовал удушье. Закружилась голова, потемнело в глазах, я рухнул в кресло.
– Воды! – крикнул Радимов. – Откройте окно… Где там, посмотрите, у меня в тумбочке корвалол…
Он склонился надо мной. В его глазах блеснули слезы…
– Пашенька, родной ты мой… прости меня! Ну как ты мог такое про меня подумать. Ну соврал я, соврал. Святой он… И никуда тебе ехать не надо! Забудь про Рому, прошу тебя… Выпей, вот. Мне помогает.
Я оттолкнул его руку и выпрямился. Минутная слабость прошла.
– Нет уж… Андрей Андреевич. Хватит. Наслушался я вас. Сам теперь хочу все узнать. Досконально! И пока не разберусь…
– Да-да, конечно! Поезжай и узнай… Ты же теперь другой человек, Паша. Сильный, независимый. Мы все тобой гордимся!
– Бросьте! – отмахнулся я. – Сами думаете: до сих пор в домино зашибал бы в своем гараже, если бы не ваша милость… Что, не так? Я тоже ваши мысли читать научился.
– Так, Пашенька, так. То есть я хотел сказать, что лучше мне от вас… – он оглянулся на моих стариков, – уехать. Надоел я вам своими капризами и взбалмошностью. Я же вижу. Я из тех людей, кто лучше воспринимается на расстоянии, чем рядом. Со мной всегда так было, Паша! Мне это все говорили.
– Живите! – сказал я, вставая. – Никто вас не гонит… Да и попробовали бы мы. Весь Край сразу на уши…
– Это ваш дом, – сказала мать. – Вам неприятно видеть в нем посторонних? Вы не можете это сказать вслух, но мы-то понимаем. Вы сердитесь, почему не приучаем внука плясать чечетку, а мы видеть не можем, что наш сын у вас в лакеях. Поэтому уедем мы. А вы оставайтесь.
Он застыл на месте, заморгав глазами.
– Мария! Что они говорят… – Казалось, он вот-вот заплачет. – Вы же мне как родные стали! Ну испортила меня власть, испортила! А кого она портит?
– Не знаю… – сказала Мария. Она только что вернулась снизу, из детской, куда отвела Сережу. – Не получается у нас что-то, Андрей Андреевич! И Паша сам не свой… Хоть бы какое занятие себе нашли. Ну любят вас все, это мы понимаем… А достались вы только нам!
– Мария… – пролепетал он в ужасе. – Ты что говоришь! Ты самое дорогое, самое близкое мне существо!
– Которой вы всегда жертвовали ради своего призвания… – Она усмехнулась. – И отдавали кому попало!
Она буквально взвизгнула, когда произнесла последние слова. Мать взяла отца под руку, чтобы увести, но тот вырвался.
– Почему ты меня тащишь? Я тоже сказать хочу! Мой Пашка – не кто попало, ясно вам? Вы, Андрей Андреевич, заслуженный человек, а ведете себя…
– Довольно, хватит! – сказал я. – Завели бодягу.
– Нет уж, нет уж… – заинтересованно сказал Радимов и сел, нога на ногу. – Говорите, что накипело. Все говорите. А я послушаю. И вас, Авдотья Никифоровна, и вас, Сергей Афанасьевич!
– Я уже все сказала… – тихо произнесла мать и вышла из его кабинета.
– А я скажу! – выпятил грудь отец, заводя себя. – Вы почему Сережку нашего по-тихому вашим танцам обучаете? Вас просил кто? А у него родители есть. Дед с бабкой!
– Прекрати! – сказала снизу мать. – Нашел о чем говорить.
– Так ведь один я… – со слезой в голосе сказал Радимов. – Неужели понять не можешь, дорогой ты мой, чистый и справедливый человек! Совсем один. При всей моей популярности помашут флагами, и куда они? Правильно, к детям, женам. Домой! А я куда? Я к кому? Хотел тут к вам, к Марии, к Паше… чтобы почувствовать себя в семье. Но, выходит, – никому я на самом деле не нужен!
Радимов знал, чем их взять. И ту же Марию. Она накричит на него, поплачет, а все равно, куда от него денешься.
– Хватит! – сказал я отцу. – Слышишь? Да, твой сын такой! Готов убить по приказу. Что еще? Что ты хотел узнать? Почему твоего внука чечетке обучают? Для его же пользы. Это я тебе говорю…
– Нет, но почему тайком? Почему по-тихому? – попятился отец, отступая к двери.
– Тебе уже объяснили, батя! – сказал я, положив руку на его плечо. – Потому что Андрей Андреевич не чувствует себя с нами своим человеком. И оттого ведет себя как господин. А я, твой сын, за которого сейчас вдруг испереживался, веду себя как умею. Поскольку душу ему свою продал, ясно тебе?
Отец вздрогнул, лицо посерело, и я уже пожалел о сказанном. Он со страхом посмотрел на сидящего в тени лампы Радимова, и я тоже невольно проследил за его взглядом.
На лице Радимова лежали какие-то отсветы, и потому казалось, что он демонически усмехается. Я подтолкнул отца, и он беспрекословно вышел.
– Одни мы с тобой остались, Пашенька! – сладко сказал Радимов. – Одни, как всегда. Но ты можешь отправляться с ними, я не стану возражать.
– Это куда вы меня гоните? – не понял я.
– А куда захочешь… – Он зевнул. – Ты, кажется, куда-то собирался? Или я ошибаюсь?
– К Пичугину, – кивнул я. – Я хочу знать правду. Использовали вы его, как меня, или…
– Рабом он не был, – серьезно сказал хозяин. – Исполнял, да, был предупредителен, да, но не роптал. И знал свое место. А теперь иди, Паша, спать. Я всем доволен. До сих пор ваши семейные сцены проходили без моего участия, вполголоса, а сегодня я был приобщен! Почувствовал себя не лидером сверхдержавы, не народным любимцем, а куда больше – семейным человеком. Которому действительно есть что терять. Ну все, иди, сегодня ты меня утомил, как никогда.
11
Той же ночью я поехал к Пичугину, рассчитывая днем вернуться в филармонию.
После возвращения блудного вождя дороги везде подсохли, поскольку кончились наконец дожди, и потому доехал я на этот раз довольно быстро. Даже раньше, чем собирался. Село еще спало. Кричали петухи, ревели в своих хлевах коровы, только в доме отца Никодима по-прежнему не светились окна. Несколько удивившись, потому что знал о привычке хозяина вставать раньше других, к восходу, я решил никого не будить.
И уснул в машине. Проснулся от того, что на меня кто-то пристально смотрел. Это была голенькая светленькая, синеглазая девочка, настоящий херувимчик, только без крыльев и мальчишеской пиписки, приоткрывшая ротик, как только мы встретились с ней глазами.
Она засмеялась и отбежала в сторону, туда, где копался на грядке ее братишка. Он посмотрел в мою сторону, потом снова принялся за свое занятие.
«Наверно, собирает червей для рыбалки, – подумал я. – Пичугин мне говорил как-то… Где же он сам?»
Я коротко нажал на клаксон. Дети снова посмотрели на меня, подошли поближе. Теперь я мог их рассмотреть как следует… Позавидуешь отцу Никодиму, вот кому счастье подвалило! За все его муки, за искреннее раскаяние Бог простил ему невольное убийство, самозванство во имя добра и все прочее, на что намекал хозяин… А было ли? А если и было, имеет ли теперь значение? Словом, зря приехал. Зачем будоражить, беспокоить… Посмотришь на этих детей… Неужели тот папаша мог покуситься? Значит, правильно все сделал отец Никодим, поскольку он – настоящий отец! А тот – самозванец. Переставший быть отцом и пастырем… Ради такого открытия можно было не приезжать…
Но и уезжать не стоит. Вон уже вышла женщина в открытом сарафане, да, это ее я видел в прошлый раз, когда она спала с детьми…
– Вы к кому? – спросила она.
Почему-то хмурится, лицо недовольное, озабоченное… черт меня принес.
– Я к отцу Никодиму, – сказал я.
– К кому? – спросила у матери девочка.
– К папе, не мешай… – нахмурилась еще больше мать.
– А папа умер! – сказала девочка. – Вы разве не знаете?
Умер? Ну да, она про того, погибшего, уже знает, Пичугин не мог не рассказать… Но почему так сказала и так смотрит?
– Я знаю вас, – сказала она. – Вы ведь Павел Сергеевич? Он возил меня на ваше выступление… Хотели подойти, но он сказал, что не стоит, будем мешать. Вы проходите, проходите, он вам просил передать…
Я вылез из машины, вдруг почувствовав все кости своего лица. Тело стало ватным, малоподвижным. Я боялся, что она еще что-нибудь скажет.
В доме, полутемном и прохладном, в глаза бросился большой портрет отца Никодима – увеличенная любительская фотография в самодельной раме… Я остановился. Закрыл глаза, почувствовав знакомое уже удушье, перенесенное вчера вечером.
И сел без приглашения.
– Когда это произошло? – спросил я и прокашлялся, почувствовав сухость во рту.
– Сорок дней отмечали на прошлой неделе, – спокойно сказала она. – А вам он просил перед смертью передать этот конверт.
Она достала из-за иконы большой серый конверт. Я машинально взял его и погладил, словно пытаясь ощутить тепло его пальцев.
– Как он умер? Отчего?
Она помедлила, посмотрела в окно, откуда доносились голоса ее детей.
– Он принял яд, – сказала она.
– Яд? – Я не верил своим ушам. – Да что случилось?
Она не ответила, только тихо заплакала, отвернувшись.
– Простите, а… как вас зовут? – спросил я.
– Ирина Андреевна, – сказала она, вытерев глаза и вздохнув. – Все спрашивают: как? Думаете, легко? Как да почему… Откуда я знаю. Нарядный был, веселый, даже выпил чуть. Я прямо не узнавала его. А он мне говорит: «Хочу поговорить с твоими детьми без тебя». Муж мой ведь умер, не знаю, говорил он вам… – Она вскользь посмотрела на меня, потом опустила глаза. – Ну вот. Пошел к ним. Играли, смеялись, я думала: «Чего они там? И почему мне нельзя? Я ведь тоже хочу». А они вдруг затихли… Мне бы подойти, как собиралась, нет, думаю, раз он просил так… И тут ко мне моя Динка бежит, плачет… – Она и сама заплакала, махнула рукой, отвернулась.
– Ирина Андреевна… – начал я, желая сказать, что больше не надо ничего, все, достаточно, я, пожалуй, пойду…
– Вот всегда так, – вздохнула она. – Начну рассказывать, и сразу глаза на мокром месте… Вы чаю не желаете?
– Пожалуй, – кивнул я.
И посмотрел ей вслед. Потеряла за короткое время двух мужей. Дьявола и святого. Ей-то за что?
– Вы-то как? – спросил я, когда она вернулась с небольшим, плохо чищенным самоваром. – Все-таки остались дети, как справляетесь, может, вам помочь?
– Ой, да что вы… Все только и помогают. Не оставим, говорят, детей твоих, поднимем всем нашим приходом. И целыми днями таскают – кто что. Ну так о чем я? Значит, Дина подбегает…
– Может, не надо? – тихо спросил я. – Какое это теперь имеет значение?
– Как хотите… В общем, сначала я не поняла, что у них там. А она кричит: «Мама, где наш папа, он умер?» – Она всхлипнула. – «Вон, – говорю, – ваш папа!» – продолжила она, успокоившись, сдавленным голосом. – И указываю на отца Никодима. А она как затрясется! «Нет, – кричит, – это не мой папа! Он обманывает нас. Он – нехороший!» Я как услышала это… А тут еще бабки пришли из церкви, все слыхали Ужас!.. Потом смотрим: где он? Никак найти не можем. Я у Гены спрашиваю: «Не видал отца?» – «Видал, – говорит. – А он нам разве отец?» И опять при всех! А потом показал, куда он пошел… От греха и позора… Когда нашли, его уже рвало вовсю, его на руках до больницы наши мужики донесли, всю ночь народ у дверей стоял, врачей не выпускали… Толку-то. Большая доза, говорят. Специально, что ли, держал? Так и помер. Хоронить хотели, а новый наш батюшка, отец Николай, на кладбище не разрешает. Самоубийство, говорит, великий грех, тем паче для посвященного в сан. Но народ разве поймет? У меня самой отец архиерей, нельзя, значит, нельзя… Ну вот, хороним, значит, а Дина вдруг спрашивает: «Это папа мой?» Народ удивляется: «А то кто ж? Поплакала бы, девонька». А она ни в какую. Насупилась, разупрямилась… А бабки, гляжу, перешептываются. Уж все слыхали. Но Дина так и зовет его с тех пор папой. Уж не знаю почему. И всем рассказывает, как он умер. А того даже не вспоминает. Ну да, этот добрый был, голос на них не поднимал…
Ее голос снова дрогнул, но она удержалась. По-видимому, не впервые рассказывала.
Я поблагодарил за чай.
– Вы мне покажете его могилу? – спросил я.
Она махнула рукой, явно обессилев.
– Дети проводят… Диночка, иди оденься, покажи дяде могилку, где папа лежит.
Меня проводили на кладбище брат и сестра. Могила нашлась сразу. Да и не велико сельское кладбище, чтобы подолгу на нем разыскивать.
Она была расположена у самой ограды, по-видимому, таков был достигнутый компромисс.
Ничего, кроме креста да множества цветов.
– Памятник обещали поставить, – сказал Гена, посуровев. – С надписью. Только мама возражает.
– Почему? – спросил я.
– Не знаю, – пожал он плечами. – Он ведь записку оставил. Чтобы и крест стоял, и памятник. И на них было написано: «Отец Никодим». А зачем, никто не, знает.
«Я знаю», – чуть не сказал я, глядя на могилу. Везет же мне. Второй раз стою над могилой, где, по сути, похоронены двое.
Но здесь хотя бы имена обоих будут написаны…
– Его похоронили за изгородью, – сказал Гена сурово. – А ночью наши мужики пришли и изгородь перенесли. Днем батюшка ругался, велел на место поставить, а никто не захотел. Так и оставили.
– Ген, пойдем… – захныкала сестренка, полусогнувшись. – Я писать хочу.
– Потерпишь, – сказал брат, зло посмотрев на нее.
Я подумал, что он теперь будет смотреть на нее как на убийцу их отца. Скажет он когда-нибудь ей об этом или нет, не суть важно.
Мы оба смотрели ей вслед, как она нашла дырку в изгороди, уселась там за кустиком и тоже смотрела оттуда на нас, лукаво улыбаясь, потом, пританцовывая, подбежала, взяла брата за руку.
– Ну давай, пойдем!
Я пожалел, что ничего не захватил с собой для них.
12
Дома я сразу бросился к роялю. Это была причудливая смесь совершенно разных композиций, некое беспорядочное попурри, точное выражение того, что творилось у меня на душе…
Когда я наконец перестал играть, я услыхал знакомый, до зубной боли, плаксивый голос Радимова: «Паша…»
Я поднялся. Некому подойти, кроме меня? В доме было тихо. Я прошел по комнатам, выглянул в сад. Никого.
– Да уехали они, уехали… – услышал я. – Собрались и, не говоря ни слова, уехали. Хоть бы попрощались! – Он вошел в затрапезном виде. Прислонился к косяку.
– Куда? – не понял я.
– Куда… К себе в деревню. Так и велено передать. Не могут со мной жить под одной крышей, видишь ли. Забрали Сережу, к шалостям которого я успел привыкнуть, и уехали! Представляешь?
Он сел на стул и потер себе грудь.
– И вот я один сижу, захотел поесть, у меня режим, это все знают, но мне никто ничего не оставил…
– Что-нибудь придумаем, – сказал я, заглядывая в холодильник.
– Что тут придумаешь! – вздохнул он. – Если меня можно терпеть только при большом стечении народа. А чуть меньше десяти – уже разбегаются.
– Вы масштабная личность, – кивнул я, доставая яйца и масло.
– Но мне нельзя яичницу, Паша… – напомнил он. – Это же сплошной холестерин!
– А кто сказал, что это вам? – обернулся я. – Хватит, Андрей Андреевич, попили кровушки. Извольте себя обслуживать сами.
– Но я не умею! – чуть не заплакал он. – Мне что, в гостиницу переезжать? Так у меня денег нет.
– Ладно… – сказал я, подумав. – Делать нечего. Поедем с нами на гастроли. К Роману Романовичу. Вы ведь без него жить не можете. И потому убить хотите.
– Да уж таковы мы, перевоплощенные, перепутавшие жизнь и смерть! – завздыхал он. – Но ты ничего не сказал про Пичугина. Как он там?
– Нормально, – сказал я, открывая морозилку. – Баранину вам тоже нельзя?
– Нормально, это как? – спросил он. – Что-нибудь про меня рассказывал? Ну говори же, говори! Что он про меня сказал?
– Нормально – это значит лежит себе в сырой земле и никому уже не опасен. Не проболтается. Вот только письмо мне передал. Прощальное.
Признаться, я о нем забыл. Помнил только, что осталось в машине. Кажется, на заднем сиденье…
– А мне можно будет прочесть? – спросил он.
– Валяйте! – сказал я. – Оно адресовано не вам, но что это изменит?
Я чувствовал полную опустошенность. На все было наплевать. И была обида на уехавших. Могли бы дождаться… Хотя я сам умчался в ночь, никому не сказав ни слова. И оставив их тут с этим…
Но вот чем Радимов хорош – на него невозможно долго злиться! И совершенно забывается, что он только недавно был лидером мировой державы. Этакий босяк, неряшливый, занудливый, которого ничуть не заботит, как его воспринимают…
Он спустился вниз, пока я жарил яичницу на спиртовке, на которой обычно мы кипятим по ночам чай.
Странно, что чем больше он ждет смерти, тем сильнее хлопочет о своем здоровье. О холестерине постоянно говорит, как выживающий из ума пенсионер, собирающийся пережить всех партнеров по домино.
Как это в нем сочетается – цепляние за уходящую жизнь с прикидками на жизнь последующую. Столь специфической раздвоенности я в нем прежде не замечал.
Яичница была готова. Я вышел на лестничную площадку и нагнулся, чтобы увидеть его внизу. Он читал письмо Пичугина, стоя ко мне спиной напротив горящего камина. Мне это не очень понравилось.
– Андрей Андреевич! – позвал я. – Давайте несите сюда. Ваш холестерин остывает.
Он поднял голову, но ко мне не повернулся. Я только услышал, как он рвет бумагу.
– Вы что делаете? – крикнул я и скатился вниз, но он бросил обрывки в огонь и повернулся ко мне, спрятав руки за спину.
– Тебе это нельзя читать, Паша!
Я ударил его по лицу, он покачнулся, глаза его наполнились слезами.
– Убей меня. Но читать такое тебе нельзя.
Я махнул рукой, сел в кресло. Мы с минуту смотрели друг на друга.
– Что там было, что? Вы можете мне объяснить?
– Делай со мной, что хочешь… Но я тебе ничего не скажу, даже под пыткой.
Я смотрел на его дрожащие губы и чувствовал очередной приступ безразличия. Или он мне его внушал?
– Идите… – Я махнул в сторону лестницы. – Кушать подано.
Я смотрел на догорающие обрывки бумаги, разглядел в последний момент торопливым почерком написанную строчку… Да пропади оно все!
Ничего и никуда не хотелось. Все уже было. Мы только все время повторяемся!
– Ну что стоите? – сказал я. – Извините, конечно. Хотите, встану на колени?
– Нет, Паша, нет! – мотнул он головой и встал на колени сам. В глазах стояли, как это случается теперь постоянно, слезы. – Ты мой, Паша, только мой. Забудь о нем! Забудь все, что у вас с ним было!
– А что – было? – сказал я, тяжело поднимаясь. – Ничего не было. Уже забыл… Вы есть будете или нет?
Он пропустил меня на лестнице вперед, будто опасаясь оставить одного возле догорающего в камине письма.
Я ничего не ел. Не хотелось. Он жалобно смотрел на меня, уплетая со сковороды.
– Сыграли бы что-нибудь, а? – попросил он. – Рахманинова. Или Скрябина.
– Не хочу, – сказал я. – Так, может, поедете с нами вместе, Андрей Андреевич? На прерванные вами гастроли. Как вы тут будете один?
– Ну да, – кивнул он, жуя. – И тебе будет спокойнее. Я бы с удовольствием, а Край? Могу я его оставить? Одно мое присутствие способствует стабилизации и прогрессу. Народ меня любит. И хочет, чтобы я был с ним. А уеду? Сразу возродятся нездоровые традиции, опять придет к власти не поймешь кто…
Он был прав. Пока он здесь, над Краем светит солнце, осадки только по ночам, утром все подсыхает, в небе одну радугу сменяет другая…
– Никто не узнает, – сказал я. – Вывезу вас ночью, с приклеенной бородой и в парике. Всего-то на пару деньков. И начнем с того, чем закончили, вернее, на чем вы нас прервали.
Я уехал в филармонию, был до самого вечера, злился на всех, опять ничего не шло…
Вечером решил заехать к Наталье. Просто подкатил к их конторе, которую теперь даже никто не охранял за ненадобностью.
Мой приход всполошил там всех. По-моему, они приняли меня за парламентера, пришедшего с ультиматумом. А так они там сидели и ждали, кому бы сдаться и отдать ключи от кабинетов. Сбежались буквально все.
Еще бы! Давно не было такого внимания к властям, которым давно уже никто не подчинялся… Искательно смотрели в рот и тянулись пожать руку… Бедная Наталья оторвалась от своей машинки. Приоткрыла ротик.
– Собирайся! – сказал я. – Поедем продолжать гастроли. Приказ Андрея Андреевича. Поезд сегодня ночью. Выезжаем прежним составом.
– Наталья Владимировна составляет списки избирателей! – пискнул кто-то сзади. – Она никак не может.
– Радимов есть среди кандидатов? – спросил я.
– Нет, до него невозможно добраться! Он не отвечает на наши звонки… Хотя его выдвигают буквально все! Как и вас.
– Тогда закрывайте вашу лавочку, – пожал я плечами. – Зачем нам выборы, когда все равно править будет Радимов?
– Но вам не кажется… – спросила Людмила Константиновна, которую я едва узнал – исхудавшую и уже совершенно седую, – что это как раз противоречит принципам демократии, которые пытался у нас насадить Андрей Андреевич?
Она не утратила в отличие от прочих ни командирского тона, ни директорской выправки. В отличие от того же Бодрова, опасливо поглядывавшего с задних рядов.
– Зачем нам демократия, когда у нас уже есть Радимов? – повторил я. – Это когда нет властителя дум и настроений, приходится одного льва заменять сотней кроликов, хотя это бесполезно… Ну выберут вас, все равно будете смотреть в рот ему, как сейчас мне, чтобы угадать мнение по каждому вопросу. А он будет отмалчиваться, как сейчас. И это будет весомее вашей болтовни. Знаете, как сказал Цицерон о крике молчания?
Я обвел их взглядом. Откуда им знать. Гимназиев, как и я, в отличие от Радимова не заканчивали. Я-то сам услышал это от него, как и многое другое.
– Не знаете, – сказал я, после минутной паузы. – Вот сейчас ваше молчание кричит о вашем невежестве и неумении управлять. А беретесь… В общем, – обернулся я снова к Наталье, спешно складывающей бумаги, – два часа на сборы!
– Простите, Павел Сергеевич! – встала на моем пути Людмила Константиновна. – А в каком все-таки качестве она вам там нужна? И знает ли об этом Андрей Андреевич?
– Ему это знать не обязательно, как и вам, – сказал я. – Но так и быть. От меня жена ушла, если кто еще не знает. А Наташа мне нужна в качестве официальной любовницы. И немного как стенографистка. А в общем, собираюсь из нее выбить стервозный дух, которым ее тут заразили. И она знает, как я это проделаю… Видите, у нее даже руки затряслись, не знает, что куда положить.
На нее действительно было жалко смотреть… Растерялась девка от такой перспективы. Головка закружилась, ноженьки подкосились…
– Ну и жеребец же вы, Павел Сергеевич! – с чувством сказала бывшая директриса ипподрома.
– Есть немного, – согласился я. – Но в целом я выдающийся музыкант и оригинальный аранжировщик. Читайте зарубежную прессу.








