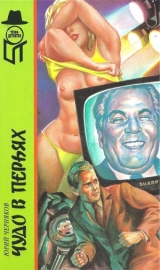
Текст книги "Чудо в перьях"
Автор книги: Юрий Черняков
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
34
В крайцентр мы приехали уже утром. Отец Никодим вошел в наш кафедральный собор, о чем-то договорился с церковным сторожем, потом со звонарем, и полез с ним на звонницу.
Ударили колокола. Люди останавливались, узнавали меня, спрашивали, в чем дело.
– А разве ничего не случилось? – отвечал я. – Разве не наши дети в плену у фанатичек, грозящих их уничтожить?
Стала собираться толпа. В основном мужчины. Среди них, судя по репликам, были отцы тех, кого удерживали в горах силой. Они угрюмо смотрели на меня и отца Никодима.
– Не надо никакого оружия! – сказал он. – Позовите своих жен. Пусть принесут сюда теплые вещи, одеяла и еду. Соберите своих родственников и знакомых, всех, кто готов рискнуть своей жизнью ради спасения ваших детей. Я пойду впереди, Павел Сергеевич сзади. Пойдем туда, к ним, и скажем, что хотим быть вместе с нашими гибнущими детьми. У нас нет оружия, мы желаем к ним присоединиться. Остальное я беру на себя!
Потом говорил я. Мы стояли с ним рядом на паперти собора и были видны и слышны всей площади, которая заполнялась.
– Разбейтесь на сотни! – сказал я. – Только быстро. Вы же слышали, что завтра ударят морозы. И выберите командиров. Даю на это полчаса. Пока придут женщины с продовольствием и одеждой, пока соберутся все желающие, кому не безразлична судьба будущего нашего Края… – Я посмотрел на часы. – Через полтора часа мы должны будем пойти к ним! Там опасно, знаете это сами, но ждать больше нельзя.
Собрались на удивление быстро. Впереди пошел отец Никодим, опираясь на посох, следом женщины со своими набитыми сумками, дальше шли мужчины с пустыми руками. На что мы надеялись, зная, с кем имеем дело? Скорее, на случай. И на известность отца Никодима.
Первые милицейские посты остановили нас в километре от постов инсургентов. Я и отец Никодим объяснили, в чем дело и чего мы хотим. Хорошо, что дежурил полковник Анатольев, тот самый, что вызволил меня из отделения, будучи почитателем моего таланта.
– Они там озверели! – покачал он головой. – Слышен плач, кое-кто пытался бежать… По-моему, они собираются прорваться. Оружие у них есть. Думаете, у них только хлысты? Здесь в горах бандиты, которые к ним присоединились. Вряд ли вам поверят.
– Может, нам инсценировать, как мы к ним прорываемся через милицейские кордоны? – спросил я. – Поднимем шум, сомнем вас, будем орать, немного постреляете…
– А чего! – загалдели женщины. – И покричим, повизжим, сколько надо! Что нас к детям не пускаете! Вы встаньте цепью, сделайте вид…
Полковник Анатольев не успел даже подумать, а они закричали, завизжали, размахивая своими кошелками, так что в пылу сбили с него фуражку…
Я взглянул в сторону их постов. И точно. Мелькнул отблеск бинокля. Увидели.
– Давайте, бабоньки, побольше реализма! – закричал я.
– Ведь следят за нами! А надо, чтоб поверили.
Слава Богу, нашлись две-три профессиональные кликуши. Думаю, горное эхо донесло их визг куда надо. У меня, во всяком случае, заложило в ушах. Милиционеры пару раз пальнули в сторону кустов и вверх.
– Убедительней! – кричал я, носясь между наступающими. – Мужики, не вижу драки! Драку давай.
Мелькали кулаки, слышался мат. В некоторых местах дрались уже не на шутку. Отца Никодима отбросили в сторону, так что он свалился под ноги толпы. Побоище грозило стать всамделишным.
– Хорош! – орал я, растаскивая и разнимая. – Вы что? Забыли, зачем пришли! Отца Никодима затопчете, сукины дети! Осторожней!
И прорвали мы цепь вполне достоверно. Мужики оборачивались назад, грозили кулаками избитым милиционерам. Те шарили между камней, подбирая фуражки. Грозили пистолетами.
– Ну попадешься мне, когда назад пойдешь!
– В городе встретимся!
Мы с отцом Никодимом переглянулись. Меня трясло от смеха, а он был суров и печален, подобно пророку, выводящему свой народ из пустыни.
По его щеке струилась кровь.
– Не трогай! – крикнул я какой-то бабке, попытавшейся его перевязать. – Так достоверней!
Посты инсургентов встретили нас с любопытством.
– От Радимова сбежали? Правильно!
– Бабка, дай чего пожрать!
– Мы нашим детям несем!
– Да ладно, а мы чьи! Давай, а то не пропустим!
– Давайте, давайте! – подталкивал я женщин. – Отвлеките их.
И вот повстанцы откладывают дробовики и автоматы, принимаются рыться в сумках…
– А ну прекратите! – послышался сверху голос их повелительницы. – Возьмите оружие и отгоните их! Вас хотят обмануть, чтобы проникнуть в наш лагерь!
Она и впрямь была неплохой наездницей, директриса ипподрома. Конь, молодой, горячий, ходил под ней ходуном, но сдерживался властной рукой. Волосы развевались из-под ковбойской шляпы. Загляденье, а не женщина. Совсем другое дело, когда на коне. Когда лежала на столе в кабинете, раздвинув ноги, – глаза бы не видели.
Она осеклась, увидев отца Никодима.
– Отец Никодим! – сказала она. – Это вы привели сюда этих людей?
– Это матери и отцы подростков, которых вы удерживаете! – сказал он. – Они принесли одежду и еду для вас. Они хотят видеть своих детей. У нас нет оружия, вы это видите.
– Вижу, вижу…
Повелительница гор, амазонка и инсургентша, проехала вдоль толпы, цепко высматривая мужиков.
– А что здесь делает У роев? – Она указала на меня плетью.
– Он хотел убить Романа Романовича, вы знаете это? Вы, святой, справедливый человек, о вас идет слава, вы знаете, вы понимаете, что вас хотят использовать? А в каких целях? Кому это нужно, отец Никодим? Только не вашей пастве! Поэтому уходите отсюда по-хорошему!
– Это почему мы должны уходить? – загалдели бабы. – Ты наших детей отняла, запугала, домой не пускаешь! А мы их покормить не можем?
– Хорошо! – Она подняла над толпой плеть, ее приспешники передернули затворы.
– Да на, стреляй! – разъярились не на шутку бабы, и я испугался, что сейчас начнется стрельба, и потому придвинулся поближе к единственному в ее свите автоматчику, похоже, бывшему десантнику покойного маршала, зайдя со стороны хвоста его лошади.
– Остановитесь! – закричал отец Никодим, становясь между стволами и толпой. – Прекратите сейчас же! Прокляну, кто сдвинется с места!
– Отец Никодим! – сказала директриса, поигрывая плетью. – Я не верю в Бога, и потому мне глубоко наплевать на ваши проклятия и на ваш сан. Но я знаю вас как честного человека. Человека слова. Поэтому сделаем так. Мы пропустим в наш лагерь только женщин, только матерей с едой и одеждой, и вы будете там с ними. Все мужчины останутся здесь. И отойдут на пару десятков шагов от моих ребят. Чтобы не возникло никаких недоразумений и случайностей, отчего оружие начинает само стрелять. Но сначала поклянитесь, что не замышляете ничего против нас. Готовы ли вы, отец Никодим, целовать крест?
– Да, – сказал он. – Готов. Если вы готовы сделать то же самое. Если обещаете, что наших женщин никто там не оскорбит и не обидит. А их дети будут к ним допущены.
И медленно поднес крест к своим губам. После чего искоса и быстро взглянул в мою сторону.
– Ну хорошо… – Она снова внимательно посмотрела на него. – Тогда я тоже обещаю. Пусть женщины выйдут вперед, а мужчины отойдут.
Я с сожалением отошел от дезертира, хотя уже чувствовал тяжесть его автомата в своих руках.
Женщины двинулись за ней наверх, растерянно оглядываясь на нас. Отец Никодим шел впереди, держа руку на кресте. Инсургенты перед ним расступались.
Мы остались перед постом – один автомат и пара дробовиков, набежать всем разом, и даже не успеют передернуть, тем более о двадцати шагах не могло быть и речи. Ну как о девяти метрах от стенки до мяча при пробитии штрафного.
Чтобы все обдумать, я закурил… И увидел быстрый и жадный взгляд дезертира, которого я уже считал своим. Я посмотрел на мужиков – заметили или нет? И увидел, как еще некоторые стали усаживаться, не спеша закуривая. Ветер порывом отнес табачный дым в сторону поста.
Сейчас главное – не торопить события. Надо дать отцу Никодиму и нашим женщинам поглубже туда втянуться. Он должен понять, где примерно находятся канистры с бензином. Дальше – сообразят. А другого шанса, кроме как с обильным пролитием крови, просто не существует.
Я как следует затянулся. И посмотрел на дезертира. Он уже забыл про автомат. И ничего, кроме моей «Явы», не видит и не чувствует.
– Будешь? – Я протянул окурок. (Не дай Бог, если тут окажется хоть один некурящий. Но нет. Навострили уши все пятеро. Или сколько их там?) Я мельком глянул на соседей. Те не спеша потягивали, глядя в небо. Грамотно, ничего не скажешь. Не все сразу.
Я протянул дезертиру окурок, поднявшись с камня. Его загорелое, небритое который месяц лицо покрылось каплями пота. Он оглянулся на товарищей. Потом протянул руку. Я сделал шаг навстречу, потом еще.
И когда наши руки почти встретились – ах досада, окурок выпал из моих пальцев, и он непроизвольно дернулся вниз, чтобы подхватить.
Плохо их все-таки готовили. Он лежал под моей ногой, его автомат был направлен на его товарищей. Лицо дезертира морщилось от боли. Но он старался не шевелиться – одно движение, и его горло будет раздавлено. Мужики деловито разоружали остальных.
Часть осталась с обезоруженными, остальные за мной следом поспешили наверх, пока клятвопреступление отца Никодима не открылось.
Мы ползли, бежали, цепляясь за кусты и камни, стараясь держаться вне тропы, ведущей наверх, чтобы нас не заметили.
Мелкие и крупные камни осыпались из-под ног, и я боялся, что нас услышат…
Потом вдруг услыхал голос повелительницы совсем близко. Они с отцом Никодимом отошли в сторону и негромко беседовали.
– Вы говорите, что многие из пришедших собираются к нам присоединиться?
– Да. Чтобы быть со своими детьми.
– Но их слишком много, отец Никодим. Больше, чем нас. И это внушает сомнение.
– Поверив мне с самого начала, Людмила Константиновна, имеет ли смысл не доверять в дальнейшем?
Конечно же! Ее зовут Людмилой Константиновной. Она еще выступала на бюро мэрии, где высказала обиду: мол, Андрей Андреевич слишком много внимания уделяет футболу и хоть бы раз пришел на рысистые испытания. А у нее даже лошади танцуют чечетку, не говоря о конюхах и жокеях. «Хоть бы раз зашли и посмотрели!» – так и сказала… Хозяин обещал, прижав руки к груди, сказал, что придет обязательно и даже знает, на кого поставить… Но так ни разу там не появился. Я, во всяком случае, его туда не привозил.
Впрочем, пару раз он собирался, но когда подъезжали, начинал морщить нос. «Да ну ее! Мерзкая баба. От нее конским потом воняет».
И мы сворачивали в другое место. Теперь это отыгралось. Я подумал, что надо бы ее сейчас схватить, приставить автомат к спине, и пусть отпускают детей. Но эта фанатичка начнет орать, чтобы меня не слушали, а делали, как договорились. Она готова на костер, как Жанна Д’Арк, при условии, что за ней пойдут остальные.
Я раздвинул кусты и увидел картину, напоминающую пионерлагерь в родительский день. Женщины разбились на кучки, и каждая кормит свое чадо, торопливо запихивая в рот куски, как если бы знали, что вот-вот загремят фанфары и гоны Страшного Суда.
Все разрознены, никто не блокирует разгуливающих и присматривающих жокеев, как договорились.
Я переглянулся с мужиками. Было ясно, что надо рывком прорваться в самый центр лагеря, где со своими милиционерами нес службу у палатки с бензином и оружием Вася Нечипорук. Иметь дело с Васей мне было не впервой, а вот как остальные? Справятся? Главное, самим не поднимать стрельбы и не дать этого делать жокеям.
Я посмотрел на отца Никодима, прогуливающегося с повелительницей. Ни дать ни взять мирная беседа на богоспасаемые темы. Того гляди, попросит у него благословения…
Но наши бабы оказались умнее меня. Накормив своих детей, они предложили свои припасы, вернее, что осталось, повстанцам. Мол, жалко их, сволочей! Что может быть безобиднее воина с тарелкой в руках? И вот они уселись в кружок и стали опорожнять содержимое судков и термосов. И вести мирные разговоры о предстоящей зиме, с ее холодами и метелями.
Главное, продержаться! Запастись одеялами! До того как падет преступный режим Радимова. Бабоньки сочувственно кивали, обещали, гладили по головкам расслабившихся воинов. Да так естественно, так органично и правдоподобно… Нельзя было терять больше ни минуты. Я оглянулся на своих парней. Они кивнули все разом. И – рванулись за мной следом на приступ. Повстанцы вскочили, побросали миски и ложки, но было поздно. Бабоньки вцепились, повисли на них, хватая за руки и подняв оглушительный визг.
– Бегите, ребята! Бегите! – орали женщины, борясь с инсургентами, стараясь продержаться до подхода основных сил.
Людмила Константиновна вырвалась из их цепких рук и стала отбиваться хлыстом.
– Отец Никодим! – кричала она. – Где ваше слово? Вы крест целовали!
Но на нее не обращали внимания. Сначала нам помешали подростки, бросившиеся бежать нам навстречу, что придержало наш рывок, но потом многие из них к нам присоединились и сами стали хватать жокеев, несмотря на обжигающие удары хлыстов. Главное, чтобы не было стрельбы, думал я, разбрасывая милиционеров, преграждавших дорогу к палатке.
Я успел заметить, как наши женщины снова вцепились в повелительницу, пытаясь ее свалить, а кто-то даже впился зубами в ее руку, державшую хлыст.
– Отец Никодим! – кричала она. – Вы клятвопреступник!
Но ее уже сбили с ног, потащили за волосы, как и других ее приспешниц, пытавшихся бежать. Даже мужики остановились, глядя на подобные зверства. Отец Никодим попытался освободить окровавленную-.Людмилу Константиновну, но его самого чуть не избили.
– Надо их остановить! – крикнул он мне. – Они ее убьют!
Мы бросились разнимать и оттаскивать, но нам досталось и самим… Потом у многих началась истерика, грозившая стать всеобщей. Они обнимали освобожденных детей, смеялись и голосили…
Бедный отец Никодим, сам весь исцарапанный, снял с себя крест.
– Разве вы совершили не богоугодное дело? – спросил я, положив руку на его плечо.
– Она права, – сказал он. – Я клялся на кресте.
– Воля ваша, – сказал я, оглядывая окружающих, – но для меня вы так и останетесь пастырем. Даже без креста. Разве может быть священным целование креста перед теми, кто сам нарушил Божеские законы?
Меня поддержали, особенно женщины, внезапно присмиревшие и притихшие. Они всхлипывали, прижимали к себе детей, будто боясь их отпустить.
– Наденьте ваш крест, батюшка, – говорили они. – Никто ничего не узнает и не скажет.
– Доверьтесь Божьему суду, – говорили другие. – Не людям определять и взвешивать вашу вину. Да и в чем она?
– А где Бодров? – вспомнил отец Никодим. – Где они его держат?
– Он в той палатке! – закричали подростки, указывая на малоприметную палатку на окраине лагеря. – Как буза началась, они его сразу связали и грозили сжечь!
Бодров лежал в палатке, связанный, с кляпом во рту, среди канистр с бензином. Он замотал головой, увидев нас, по его щекам текли слезы… Окруженный женщинами, которые его особенно почему-то жалели, он вышел из палатки, щурясь после пребывания в темноте, разглядывал то, что осталось от лагеря, потом подошел к связанным повстанцам.
И внезапно с силой, сжав челюсти, ударил ногой Васю Нечипорука. Тот вскрикнул, ткнулся носом в землю. Бодров прикрыл глаза, прошел дальше. Между тем на поляну уже поднимались милиционеры во главе с полковником Анатольевым.
– Всем сдать оружие! – крикнул он в мегафон. – Даю десять секунд! Оружие сложить вот здесь, у моих ног. Неподчинившиеся будут арестованы!
Мужики посмотрели на меня.
– К чему такая категоричность, полковник! – сказал я. – Оружие мы сдадим, но не забывайте, у кого мы его отняли, выполняя свой долг и ваши функции.
– Они освободили детей! – крикнул Бодров. – Пока вы там выжидали. И я требую объяснений!
– Неподчинившиеся через пять секунд будут привлечены за незаконное хранение огнестрельного и холодного оружия, – продолжал выкрикивать полковник Анатольев, не обращая внимания.
Все смотрели на меня, поэтому следовало подчиниться. Я поставил автомат на предохранитель, положил его к ногам милиционеров.
И демонстративно заложил руки за спину.
– Что они делают! – изумился отец Никодим, глядя, как милиционеры грубо подталкивают прикладами наших мужиков, разоружая их, хотя те, пусть неохотно, делали это сами. Особенно доставалось тем, кто слишком усердно изображал драку с милицейскими постами там, внизу.
Даже мятежники приободрились, глядя, как обращаются с ними – подчеркнуто вежливо, не применяя силы.
– Построиться всем в одну колонну! – гремел над горами голос Анатольева. – Всем без исключения! Маршрут следования – до Управления внутренних дел! Никому не выходить из строя, если не хотите для себя неприятностей.
– Но здесь дети! – крикнул отец Никодим. – Здесь их родители! Они пришли их освободить от тех, кто их удерживал!
– Там разберемся! – непреклонно отвечал Анатольев. – Все получат свое.
– Не вам это говорить, отец Никодим, – прошамкала разбитым ртом директриса ипподрома. – Вы потеряли честь и стыд, нарушив свою клятву.
Милиционеры бережно помогали ей сесть на лошадь. Наши женщины смотрели с ужасом и страхом на происходящее.
– Что хоть произошло? – спросил я у ближайшего молоденького милиционера, безуспешно старавшегося придать своему лицу свирепое выражение. Хотя я начинал догадываться, но не может быть, чтобы он не проговорился. Его мысли и чувства были у меня как на ладони. Так и подмывало его что-то сказать…
– Кончилась ваша власть! – сказал злорадно. – Только что передали! Радимов ваш отправлен на пенсию. Со всех постов удален. Вот так вот! Доигрался.
– Наденьте ваш крест, отец Никодим, – сказал я. – Тут клятвопреступление почище вашего.
И тут же получил удар дубинкой по голове, от чего потерял сознание.
Очнулся, когда мы вошли уже в город. Меня поддерживали под руки, помогая идти, а я буквально обвис на чужих плечах.
Мы шли, вернее, нас вели посреди главной улицы, и толпы народа молча смотрели, стоя на тротуарах.
Когда мы стали переходить центральную площадь, случилось что-то непонятное: вдруг на глазах у всех раздался оглушительный грохот и обрушилось здание мэрии. В воздух поднялись тучи пыли, взлетели, тревожно каркая, с ближайших деревьев вороны и галки.
Не чувствовалось никакого толчка, не слышалось, как в прошлый раз, подземного гула.
Для меня это было знаком – хозяин низвергнут, как и предполагалось. В прошлый раз, когда половины здания соединились, его власть упрочилась, а ныне вовсе рухнула.
Я переглянулся с ближайшими ко мне мужиками. Посмотрел на потрясенного всем увиденным Бодрова, которого тут же не преминули подтолкнуть сзади прикладом автомата.
Отец Никодим видел все это. И надел без просьб и напоминаний свой крест, готовый нести его до конца своей жизни. И размашисто перекрестился.
35
Нас держали на узкой улочке перед зданием УВД до самого вечера, не зная, что с нами делать. Похоже, они ждали инструкций, и слышно было, как Анатольев кричит по телефону, пытаясь дозвониться.
С наступлением темноты стало ясно, что удерживать огромную толпу, окруженную редкой цепью милиции, уже не имело смысла. Толпа саморазогревалась, бродила и глухо роптала, готовая опрокинуть стражей порядка, в резерве которых был лишь один взвод конной милиции, только что освобожденный и снова посаженный – теперь на жеребцов.
Анатольев надрывался по междугородному, но, по-видимому, в столице было не до него, ибо не знали еще реакции Запада и Востока, влюбленных в Главного реформатора.
– Тише! – крикнул я, услышав через открытое окно, как интеллигентный Анатольев швырнул в сердцах трубку и крикнул, чтобы его больше ни с кем не соединяли. Он подошел к окну. Встретился со мной взглядом. Я не увидел в нем недавней уверенности. Что-то не так… И подумал, что вот так же ситуацию сейчас зондируют по всей стране, не зная, как вести себя дальше, пока не определятся новые властители…
Полковник Анатольев вздохнул и принял мудрое решение.
– Всех отпустить! И правых и виноватых. Потом разберемся. Кто насколько прав или виноват. Зачинщики, те и другие, никуда от нас не денутся. Мы знаем их адреса, как и адреса их любовниц. Словом, пока обстановка не ясна, все свободны, но не избавлены от ответственности за содеянное. Это всем ясно? Тогда – по домам! И скажите спасибо.
Я привез отца Никодима к нам домой уже среди ночи. Пока нашли машину, пока ее завели… Мы оба едва держались на ногах.
Дома уже все знали всё. О происшедшем сообщила по телевидению Елена Борисовна. В том числе и о том, что мы арестованы. Сначала держалась, только губы дрожали, потом разревелась. Вполне могут уволить за неприкрытое выражение неподдельных чувств к преступному режиму. Она так и сказала. И даже успела попрощаться со своими любимыми телезрителями, что, впрочем, делала уже не в первый раз.
– Будете дожидаться здесь, пока новая власть определится, что хорошо, что плохо, что нравственно, что безнравственно, или, не дожидаясь репрессий, вернетесь к семье и пастве? – спросил я отца Никодима.
– Я должен быть с ними, – сказал он. – Завтра, Павел, отвези меня. Притом оставаться здесь небезопасно, в том числе для тебя. Поэтому милости просим ко мне.
– Как хотите, а я останусь здесь! – сказал батя. – Буду я бегать! Нам человек свой дом доверил, жили в нем, жили, амортизировали, понимаешь, за милую душу… И теперь бросить все? Вы как хотите, а я останусь.
– Все останемся, – сказала Мария. – Они того и ждут, что побежим. Чтоб дом забрать. Тем более что дарственной до сих пор не прислал…
Она прервала свою речь, ибо в калитку постучали. Я вышел во двор. За калиткой стоял офицер в странной, я такой еще не видел, форме.
– Вы Уроев Павел Сергеевич? – спросил он.
– Он самый, – сказал я. – А в чем дело?
– Вы откройте, – сказал он, оглянувшись. – Я прибыл от Радимова, третий день как добираюсь до вас…
Мы вошли с ним в дом. Я показал ему свой паспорт, он мне свое удостоверение фельдъегеря.
– Просил передать этот пакет… – Он достал из своей сумки пакет из вощеной бумаги, опечатанный сургучом.
– Ой! – подскочила Мария. – Неужели дарственная?
– Не знаю, – сказал капитан. – Вы же слышали, что случилось? Он предвидел это и спешил отдать последние распоряжения и долги. Вы уже третьи, у кого я вчера и сегодня побывал. Одних карточных долгов он велел передать на десять тысяч. А вам этот пакет.
Мария рванула его из моих рук, поднесла ближе к свету.
– Дарственная! – прошептала она. – Дом теперь наш!
И поцеловала капитана, кинувшись ему на шею, отчего он пошатнулся.
– Чаю с дорожки, – засуетился отец. – Или чего покрепче?
– Не могу, – замотал головой капитан, упав из объятий Марии в кресло. – Мне еще по двум адресам, куда велено передать последнее прости.
Он откинул голову и захрапел.
– Вот ведь человек! – сказал отец. – Не то что… – И погрозил пальцем кому-то вверх. – Помнит долги-то. Не отдает, а и не забывает! Счас таких нету. И не будет! – уверенно заключил он.
Мы смотрели на спящего капитана. Мать встала перед ним на колени и стала снимать с него сапоги.
– Носки-то все мокрые! – сказала она. – Не стой, отец, найди сухие портянки. Вон как измаялся. И ты не стой! – прикрикнула она на Марию. – Хватит на бумажку-то любоваться. Твой дом, твой… Куда денется. Иди постели наверху. А вы, батюшка, сели бы и чаю с малиной. Сырость одна на дворе. Простыть можно. Завтра Паша вас отвезет, встанете пораньше… Куда ж теперь на ночь глядя?
Ночью я не спал. Пару раз вставал, подходил к роялю, полагая, что музыка даст успокоение, но никак не мог сосредоточиться.
Как будто не заводился мотор. Чихал, вяло схватывал… И замолкал. Тогда я вышел на террасу, полную лунного света, включил радиоприемник.
– …не перестал оставаться последней надеждой на возвращение этой великой державы в лоно цивилизованных народов. Последние события позволяют предположить, что по-прежнему в стране сильны тенденции возврата к старой системе, хотя она уже зарекомендовала себя отжившей и мертворожденной. Младенческий возраст демократии не позволил беспрепятственно…
Я приглушил приемник, услыхав чьи-то шаги. Это был отец Никодим.
– Не спится? – спросил я. – Я вот тоже. Устал как собака, а все равно… Как подумаю, что будет завтра, кому достанется власть…
– Я думаю о другом, – вздохнул отец Никодим. – Признают ли меня дети убитого мной? Ведь придется когда-нибудь все им сказать, до того, как узнают сами от посторонних людей.
– Думаете – откроется? – спросил я первое, что пришло в голову.
– Я убил их отца, человека, когда-то заразившего меня постоянным поиском соотношения зла и добра, позволяющего творить благо для его детей. Он будто мне мстит! Ведь если бы он успел до своей гибели совершить достаточно зла по отношению к собственным детям, так что они не могли вспоминать его без содрогания и ужаса, я смог бы в полной мере одарить их всем, на что способна моя душа, чувствующая вину перед ними. И у них был бы я, любящий отец, с кем они забыли бы отца настоящего. Но когда зла недостаточно, то люди, а дети тем более, легко забывают его. И потому не способны воспринять добро в полной мере. И потому остаются в несчастье, постоянно колеблясь между злом и добром, не всегда различая их. Разве не познали многие народы истинную ценность согласия и братской любви, лишь выбравшись из кровавой купели братоубийства преображенными?
– Мы бывали, отец Никодим, не раз в этой купели… Или забыли нашу историю? Я подумал о другом. Вот мы работали с вами шоферами. Часто на морозе мотор никак не заводился. Чихал, с трудом проворачивался, потом глох. Не это ли происходит с тем, что затеял Радимов? Какой такой мороз не позволяет раскрутиться? Вечная мерзлота в душах?
– Этого я не знаю… – сказал отец Никодим. – Могу лишь предположить, что каждому народу или человеку отведена своя мера страданий или своя цена, которую он должен заплатить за истину…
– Уже поздно, отец Никодим, – сказал я. – Утром встанем пораньше.
Утром я отвез его домой. Дорогой он молчал, глядя прямо на дорогу. Я думал о том, что предстоит. О том, что происходит. И о том, что следует сделать.
Когда мы подъехали к его дому, женщина с двумя детьми вышла к нам, держа их за руки. Она обняла отца Никодима, припала лицом к его груди. Дети стояли рядом и смотрели исподлобья.








