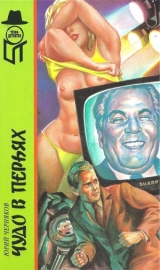
Текст книги "Чудо в перьях"
Автор книги: Юрий Черняков
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
32
Спал я долго, без снов. Проснулся, лишь почувствовав чей-то взгляд. Я вскочил, еще не понимая, где нахожусь. Передо мной стояли Мария и Лена Цаплина.
– Что? – спросил я. – Что-нибудь случилось с Романом Романовичем?
– Это – парламентарий, – сказала Мария. – Прибыла, чтобы вручить тебе письмо Бодрова из его заточения. Хоть оденься.
Я смотрел на Лену, плохо соображая. Она протянула мне конверт, я взял его, не в силах отвести от нее взгляд. Очень уж исхудала и потемнела лицом. И отводила грустные глаза.
– Как ты там? – спросил я. – Может, отправить тебя к дяде?
– Да какой там дядя! – сказала Мария. – В реанимации лежит до сих пор! Отнялось, говорят, все. Надо ж, сволочь какая-то подставила грузовик посреди дороги!
Я развернул письмо, набросив простыню на тело. Ну ясно. Излагаются требования повстанцев. Просят разобраться в их насущных нуждах и принять возможные меры.
– Я тут при чем? – спросил я, возвращая письмо. – Для этого существуют его заместители, соответствующие органы.
– Но письмо адресовано тебе, ты же видишь! – сказала Мария, не уходя. – Человек в трудном положении, какой бы он ни был…
– Выйди! – сказал я. – Мне надо поговорить… Что, тяжко? – спросил я, когда Мария, хмыкнув, вышла.
– Ведь совсем уже холодно. Тем более в горах.
Она молчала, опустив глаза.
– Ну да, я помню, твой ребенок у вашей родственницы… Но у остальных? – Я понизил голос. – Им надо помочь?
Она кивнула, не поднимая головы. Потом всхлипнула.
– Они всем грозят. Никого не отпускают… Лагерь стал тренировочным. Готовят ребят к рукопашной. Хотят прорваться к телецентру. И начать все сначала!
– Тогда им не следовало захватывать Бодрова, – сказал я. – Это тактическая ошибка. Без него уже все наладилось, и недовольство масс его политикой, я слышал, переросло в жалость к его участи… Но я тебе это рассказываю не для распространения там… – Я неопределенно мотнул головой куда-то вверх…
Она кивнула. Потом заплакала, села рядом, ее плечи дрожали.
– Они требуют, чтобы девчонки докладывали, кто с кем спит. А жокеи к нам пристают… Истязают, если кто нарушит распорядок.
– Оставайся, – сказал я. – Хочешь, я устрою тебя к себе в филармонию? У меня тебя никто не обидит.
– А что я там буду делать? – спросила она.
– Петь в хоре, – сказал я. – Неважно, если не умеешь. Хор большой, никто не заметит. Еще для Бодрова место там же держу. Встанете на пару, когда его отовсюду скинут, будете рот разевать.
Она по-детски улыбнулась.
– Я серьезно, – сказал я строго. – Думаешь, шучу? Как он там, кстати говоря? Не обижают?
– Держат в отдельной палатке. С нами бегает кроссы, занимается каратэ. Вчера дежурил по кухне вместе с нами. Картошку чистил. Такой серьезный, обо всем интересовался. Ему выговор влепили за толстые очистки. Сказали, что в следующий раз накажут. Он на гнилой тренировался срезать потоньше…
– Плохо с продовольствием? – спросил я.
– Не то слово, – вздохнула она. – После его похищения милиция нас окружила, никого не пропускает. Меня вот с письмом пропустили… Но если пойду назад, обыщут. Все отнимают – лекарства, еду…
– Никуда ты не пойдешь! – сказал я. – Будешь с нами сегодня ужинать.
– Я не могу, – тихо сказала она, снова опустив глаза. – Мне надо вернуться до вечера.
– А то что будет? – спросил я. – Будут искать? Накажут? Пусть попробуют! Будешь жить у нас. Места тебе хватит. Понятно?
– Если не приду, они накажут моего парня, – тихо сказала она.
– За что? – не понял я.
– Они всегда так делают, – снова заплакала Лена. – Если уходит парень, наказывают его девушку. Ставят на тяжелые работы, морят голодом. Бьют хлыстами за все… Ну, не так посмотришь или не то скажешь.
Она тяжело вздохнула.
– Одним словом, лагерь, – сказал я. – Летний, трудовой, спортивный, тренировочный, концентрационный… Все равно – лагерь.
– Они Игорю Николаевичу есть не давали сначала. Мы, девчонки, ему совали куски. А одна, Аня, попалась. Избили ее так, что еле до палатки добралась.
– Что ж вы терпите… – покачал я головой. – Хотя… Что я спрашиваю!..
– Чем холоднее, тем они злее. Молодежь к ним приходила и уходила, когда тепло было. Тусовались, на гитарах играли, пели. А потом нас перестали выпускать. Только по одному. И то если в списке есть – с кем дружишь или живешь. И без продуктов не приходи. Им говорят, что милиция отнимает, а они не верят…
– Так, что милиция! – вскочил я и стал мерить шагами комнату. – Что? Чем она занимается! Почему этих стерв с их прихвостнями не повяжут?
– Директрисы наши обещали всех бензином облить. И сжечь. И сами также. Загонят в одну палатку и подожгут. Так, говорят, все согреемся…
– Но чего они хотят, ты можешь мне объяснить? – остановился я перед ней. – Что им надо? Власть? Чепуха! Поезд ушел. Или что другое?
– Я откуда знаю! – опять заплакала она. – У них спросите!
– Ну, не плачь… – Я не находил слов. – Извини, я не хотел.
– Они каждый вечер сжигают портреты Радимова, а портрет моего дяди во всех палатках расклеили. И мне в глаза тычут! «Твой дядя, – говорят, – святой, а ты должна быть его достойна!»
– Да уж, святой…
– Вы что-то о нем знаете? – спросила она, по-видимому, уловив что-то в том, как я это сказал. – Говорят, вы там были, когда случилось.
– Что я знаю… – Я старался прямо смотреть ей в глаза. – Ничего. Что и ты… Ты мне другое скажи. Он ведь добрый был, твой дядя Роман?
– Почему был? – спросила она настороженно.
Я никак не мог разобраться в ее мыслях. Что-то ее угнетало. По-видимому, участь ее парня, который там остался. Отчего мысли были разрознены и возникали лишь как реакция на мои реплики.
– Я разве сказал «был»? – удивился я, причем достаточно фальшиво, что она, конечно же, заметила.
– Наверное, показалось, – сказала она и снова по-детски вздохнула. Неизбывна в ней вера, что взрослые не могут соврать. – Он добрый, – сказала она. – Когда моя мама, его сестра, умерла, сам за мной приехал, мне только пять лет было. Нет, больше. Он мне все покупал, все время угощал. Ни разу не накричал… Ему все говорили, что он ко мне даже лучше относится, чем к своим. Они меня ненавидели за это. Били меня, а он заступался всегда. Говорил, что меня грех обижать. В школу ходил на собрания. Говорил всем, что я сирота. Зря, наверно. На меня так и смотрели… Вот только ругал – сначала только, после разрешил – за конкурс красоты. Стыдил, а сам потом разрешил. Сказал, что раз так, такое теперь время, то надо выкладывать у кого какой капитал. А Диму чуть не убил, когда узнал… Ну, что я в положении от него.
– Дима сейчас там? – спросил я.
– Да. Он меня отговаривал, отговаривал… А потом сам за мной пришел и там остался. И его записали как моею парня. Он там на хорошем счету. Его сколько раз посылали, он все время чего-нибудь приносил. И милиция его поймать не могла. А меня послали, потому что я племянница Романа Романовича. Меня, мол, не тронут и не задержат. «А если, – говорят, – задержат, значит, на Романа Романовича было специальное покушение». Нам говорили, что миллион заплатили тому, кто это подстроил! Это правда?
– А почему ты меня спрашиваешь? – Мне стало не по себе.
– Да так… – замкнулась она. – Вы же там были в это время.
– Был? – пожал я плечами. – А разве из этого что-нибудь следует? Про миллион впервые слышу. Что еще… Радимов очень переживал. Ты же знаешь, как он относился к твоему дяде. Ценил, взял даже с собой. Хотя они разного, скажем так, мнения о том, что происходит.
– Ну ладно, мне пора. – Она поднялась. – Мне пора… – повторила она, будто уговаривая меня или свыкаясь с мыслью, что придется возвращаться.
– Я тебя никуда не отпущу, пока не поешь! – вскочил я. – И давай вместе что-нибудь придумаем, как тебя оттуда вытащить с твоим Димой.
– Меня с Димой? – Она обернулась ко мне от самых дверей. – А я думала… Вы всех постараетесь освободить.
– Это само собой, это обязательно! – сказал я. – Сделаем что сможем.
– Только с хором больше, как тогда, не приходите, хорошо? – попросила она.
– А кому мы помешали? – спросил я. – Я хотел, чтобы мы вспомнили, что все мы люди, понимаешь? Что в этом такого? Почему об этом просишь ты? Я понял бы – ваши начальницы…
– Ну… не надо, – сказала она. – Только не обижайтесь, ладно?
– Понятно, – кивнул я. – Не придем. Раз так просишь.
– Просто мы с девочками всю ночь не спали, и нам попало. А потом утром встали зареванными. Ну, я пойду? Вы ничего не хотите Игорю Николаевичу передать?
– Обязательно! Сейчас же напишу ответ. А ты пока поужинай.
Она замотала головой.
– Что, и это нельзя! – воскликнул я. – Да кто узнает?
На ее глазах выступили слезы, она зарыдала, припав к косяку двери.
– У нас одна девочка отпросилась домой… Сказала, что принесет… У нее милиция отняла… А ее выследили.
– Что значит выследили? – не понял я. – Подглядывали, когда ела?
– Нет, наоборот… – Она отняла голову от косяка и посмотрела на меня. – Ну неужели не понимаете! – воскликнула в отчаянии. – Неужели это надо объяснять?
Я чувствовал себя сбитым с толку. Казалось, удивляться в этой истории уже нечему. Изобретательности и жестокости этих мегер, казалось, не было предела. Вон как привлекли к себе молодежь… Так что, это не предел?
– Ну когда я пойду оправляться! По большому! – истерично крикнула она. – Со мной пойдет дежурный!.. Чтобы проследить… И доложить!
Снизу прибежали Мария и мать.
– Что, что случилось? – Мария обняла Лену, истерика которой разрасталась, отчего начались конвульсии, а губы посинели. – Ты что с ней сделал! – закричала Мария. – Негодяй, мерзавец!
– Да не я… – Махнув рукой, я сел снова на кровать.
– Что? Что он хотел сделать? – трясла ее Мария.
– Прекрати! – крикнула мать с такой силой, что обе замолчали. – Ты что говоришь! – сказала мать тише. – Не знаешь, откуда она пришла? И куда ей возвращаться. Одно только на уме…
И, оттолкнув Марию, обняла притихшую, всхлипывающую Лену и повела ее с собой вниз.
– Идиотка! – сказал я Марии. – Шоколад у нас есть?
– А что? – не поняла она. – При чем тут шоколад? Ты можешь объяснить членораздельно?
– Вот матери, – я показал на дверь, – ничего объяснять не надо! А ты как Бодров! Тебе разжуй и растолкуй. Есть шоколад или нет?
– Был, я посмотрю, дед на пенсию Сереже купил…
– Еще купит! – сказал я, надвигаясь. – Побыстрее, ей еще возвращаться туда, откуда ты не хотела уходить! И где тебе самое место!
– Зачем? – открыла она рот, ничего не соображая. – Пусть остается.
– Я тебе все – потом – объясню, – сказал я с расстановкой. – Я сам – сначала – ничего – не – мог – понять. А теперь – найди шоколад, умоляю, не стой и не смотри так!
Потом мы напоили ее чаем. Пока она пила, разламывали шоколад, засовывая его в разные сборки и уголки ее комбинезона.
– Надеюсь, они не делают спектральный анализ кала, – бормотал я.
У меня тряслись руки. За эту девочку я готов был разогнать весь их лагерь и перевешать этих стервоз. За ноги! И чтоб ветром раскачивало скелеты, когда сожрут их птицы. В моем воображении вспыхивали картины расправы, одна страшнее другой.
Но была еще одна мысль, как всегда, тем более настойчивая, чем сильнее я ее отгонял: как бы я повел себя, если бы не устроил эту катастрофу ее любимому дяде Роме? Вон как признательна ему, позавидуешь! Значит, из чувства вины?
– Так вы напишете Игорю Николаевичу? – спросила она.
– Непременно! – мотнул я головой, лихорадочно соображая. В конце концов, в городе полно людей, чьих детей увели эти крысы… Что-то надо придумать. Значит, загоняют детей в палатку и обливают бензином, если увидят опасность… – Где они держат бензин? – спросил я. – К нему можно добраться?
– Мы уже думали. Они держат его в отдельных канистрах. У каждого жокея по канистре. Уничтожишь одну, остальные уцелеют. Мы подглядели: они клятву приняли на самосожжение вместе со всеми…
– Ну хоть съешь что-нибудь! – взмолилась Мария. – Успеешь. Тебя на машине подвезем.
– Лучше не надо, – сказала Лена. – Если увидят, скажут, что предала. Я должна была только письмо передать… – Она снова заплакала. – Противно, знаете как?
Сначала милиционеры обыскивают, везде лезут, противные, сальные, подмигивают. Одну девочку до утра не отпускали… А потом жокеи обыщут, точно так же. И на глазах у ребят. Может, поэтому мальчишек больше не отпускают.
Она встала из-за стола.
– Спасибо. Я пойду. Шоколад не найдут?
– Не найдут, не найдут! – сказала мать. – Ночью распорешь, где зашили, и покушайте.
– Что ты сидишь? – спросила жена. – Что смотришь? Неужели так и отпустишь?
– Что ты мелешь… – простонал я, хватаясь за голову. – Ну невозможно, понимаешь? Пока невозможно!
– Только ничего не делайте! – испугалась Лена. – Только хуже будет! Даже не вздумайте! Вы их не знаете…
– Не будем, – сказал я, провожая ее до двери. – Но что-нибудь придумаем. Значит, бензин они держат в своих палатках?
Потом смотрел ей вслед. Как только она отошла метров на сто, послышался приглушенный стук копыт. Значит, следили? Ехали за ней, и, может, даже подслушивали?
Я вернулся в дом. Минут десять ходил, не находя себе места. Потом стал быстро одеваться.
– Ты куда на ночь глядя? – всполошилась Мария.
– Надо… – Я поискал глазами куртку. – Всю ночь буду ехать, налей в термос, покрепче.
– К отцу Никодиму? – спросила мать, не поднимая глаз от вязания. Как если бы я собирался сходить в булочную. Я остановился, посмотрел ей в глаза, как только она оторвалась от шарфа для внука.
– Да, – сказал я. – Давно собирался. А откуда ты знаешь?
33
Я гнал машину по знакомой дороге, как если бы уходил от погони. К счастью, подморозило, отчего проселок стал более твердым, но пока не скользким. Впрочем, как и ухабы. Пару раз машину встряхнуло, что показалось все, сейчас развалится… Вокруг шумел лес, негодуя на ветер, пытающийся подмять под себя вековые ели. Все в природе сопротивляется насилию. Согнутое дерево распрямляется сразу. Человек через какое-то время. В той или другой форме, но распрямляется. Даже оставаясь согнутым. То есть раб и свободный человек мстят по-разному. Эти мегеры, захватившие детей, мстят нам всем. Быть может, за недостаток внимания, проявленный к ним в детстве. Затем – в молодости. Они не сумели сполна утвердиться в своей карьере, теперь утверждаются в полной мере, заставив тех, кто унизил своим невниманием, содрогнуться перед их гнусностью.
У отца Никодима в, окне горел свет. Я подъехал поближе на своей замызганной «четверке», от которой шел пар из радиатора, и поставил ее нос к носу с «Москвичом» святого отца. «Вот так и будем с ним сидеть до утра», – подумал я, глядя на машины.
Пичугин вышел на крыльцо. Длинная белая рубаха, небольшой крест на груди. Внимательно посмотрел, ничего не сказал, только отступил на шаг в сторону, приложил палец к губам. У его преподобия дама?
– Благослови, святой отец! – Я шутовски склонил голову.
Он снова приложил палец к губам, только теперь к моим.
– Они спят, – сказал он. – Потише.
Я вошел вслед за ним. Кто – они? На широкой постели спала женщина средних лет, к которой прижались двое детей. В широкой печи потрескивал огонь.
– Ты ждал меня? – шепотом спросил я.
Он кивнул, показал глазами на дверь. Там была небольшая горенка, одной из стен которой служила печь. И потому было даже жарко.
Я скинул куртку, прижал руки к горячему беленому кирпичу.
– Приехал к тебе каяться. Или исповедоваться. Сам не знаю. И просить совета.
Он кивнул. Указал мне на табурет. Только после этого сел сам напротив. Достал бутылку водки из тумбочки.
– Ого! – сказал я. – Потребляешь? Как же сан? Раньше, помнится, ни капли. А тут запил?
– Это для тебя, – сказал отец Никодим. – Рюмку, не больше. Специально держу для таких, как ты. Чтобы свободно себя чувствовал.
Я выпил. Он убрал и бутылку и рюмку.
– А теперь меня выслушай, – негромко сказал он, подавшись лицом ко мне. – Я ждал тебя, Павел. Чтобы самому исповедаться.
– Ты? Исповедаться? Почему мне?
– Раз есть у тебя такая надобность, значит, сможешь меня понять. А когда выслушаешь меня, сам решишь: стоит ли мне рассказывать или нет. Гожусь ли тебе в исповедники? Впрочем, это я сам еще не решил…
– Так ты что, сначала сам перед всеми каешься, потом только выслушиваешь?
– С другими – я священник, чей сан сомнений не вызывает. У тебя, я вижу, не сомнения даже, а подозрения. И скажу сразу, что они правомерные.
– М-да… – сказал я. Тепло от выпитой водки растекалось по телу, расслабляя язык и мозги. Что-то не с того мы начинаем. – Валяй, – сказал я. – Выкладывай. Что у тебя на душе.
– Я уже говорил тебе, что учился в семинарии, – начал он, будто заранее подготовившись к своему рассказу. – Но меня оттуда выгнали.
– Это за что? – не понял я. – Согрешил, что ли?
– Напротив, – сказал он бесстрастно, как и начал. – Не позволил совершиться содомскому греху.
И перекрестился на икону, возле которой теплилась крохотная малиновая лампадка. Я только сейчас ее заметил и подумал: может, и мне перекреститься? Сейчас модно…
– К сожалению, этот грех был распространен среди семинаристов. Молодых они склоняли к гнусному сожительству, подступили и ко мне. Я не дался. При разбирательстве они поставили мне в вину, что я затеял драку. Это происходило ночью, когда все легли спать. До сих пор вспоминаю… Не знаю, откуда во мне взялась такая сила. Раскидал, растолкал, выскочил в коридор… Беда в том, что я узнал среди них одного нашего молодого преподавателя. Его оставили за усердие и набожность в нашей семинарии. Ко мне он был особенно ласков. Часто старался оставаться наедине, гладил меня по рукам и по щекам, говорил, что они у меня как у девушки. Я не мог отказаться, когда он вызывал меня к себе. У нас была прекрасная библиотека. Я впервые заметил именно там, как во время разбора текста отец Никодим…
– Так он твой тезка? – полюбопытствовал я.
– Имей терпение, скоро все узнаешь. Так вот, я обратил внимание, как он во время разбора священных текстов с отстающим учащимся из нашего курса тискал его под столом и прижимался, отчего тот оробел и беспомощно смотрел по сторонам, не в силах возмутиться или оттолкнуть… Отец Никодим был превосходным богословом и полемистом.
Я считался одним из лучших на курсе, и со мной он тоже занимался отдельно, поначалу не из низменных побуждений, а поскольку ему было интересно со мной спорить. Особенно много мы спорили с ним о запретном Евангелии от Филиппа, которое святая церковь не признала каноническим. Почему он не боялся, что я могу его выдать? Быть может, он видел мой интерес к запретному.
В том Евангелии есть слова: «Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое – братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие – не хороши, и плохие – не плохи, и жизнь – не жизнь, и смерть – не смерть. Поэтому каждый разорван в своей основе от начала…» Как видишь, я запомнил это наизусть. Так вот, спрашивал он меня, нельзя ли к этому добавить: зло и добро, грех и святость? Быть может, они точно так же не раздельны?
Я был поражен его дерзостью и увлечен его поиском истины вне канонов. А он продолжал: разве не прав был Фома, разве не кажется достоверной версия, будто Христос сказав: «Воздайте Богу богово, кесарю – кесарево», добавил: «А мне – мое».
Он давал мне читать на ночь неканонические апокрифы, с тем чтобы утром я возвращал их. Потом он стал приходить ко мне сам, в мою келью. И как-то, в предутренние часы, остался, забрав рукопись, сел рядом на мою постель и стал гладить. Я оттолкнул его руку.
«Разве ты не хотел испытать неразделимость греха и воздержания?» – спросил он, склоняясь ко мне ближе. Он был огромен, тяжел и очень силен. Думаю, что тогда он бы со мной справился. Но я сказал ему: «Разве насилие и самоотречение тоже неразделимы?»
Он озадачился, посмотрел на меня просветленными глазами, стал плакать, просить прощения. Но вскоре все началось сначала. Иногда он отзывал меня с уроков, но с ним невозможно было уже разговаривать, поскольку он был полностью отравлен похотью и не мог думать ни о чем другом. Однажды, когда я оттолкнул его особенно грубо, он собрал всех, кого повязал содомским грехом, и они ворвались ко мне ночью, о чем я уже рассказывал…
Меня исключили. Потом я долгие годы не находил себе места. Я скрывал, что я глубоко верующий. И как ни странно, именно среди грубых людей, занятых тяжелой работой, это проще всего было скрывать… Ведь ты не догадывался?
– Даже разговора не было, – сказал я. – Говорили, что ты с чудинкой.
– Я потому и выучился на шофера, чтобы можно было оправдать свою трезвость, – продолжал он. – Но вот я посмел позавидовать тебе и твоему положению. К тому же я был возмущен, что твою будущую жену почитали как святую. Но Радимов, я это видел, желал по-своему добра, иной раз творя зло и используя ложь. И я подумал, что только человек, прошедший через зло, но желающий творить добро, знает им истинную цену. Разве мало было святых, прошедших через грех? Творящих добро, после того как содеяли зло? Вот почему я полюбил его, и он, неверующий, погрязший в обмане и пустословии, стал для меня более христианином, чем многие истово верующие. А когда ты оставил меня на ночной дороге…
– Выбросил! – сказал я. – Из машины, как разгневанный барин.
– Не казни себя, – сказал он. – Ты сделал, как ты сделал. Ты не притворялся и не скрывал наподобие меня, что служишь Господу, а это великий грех! И поскольку не желал больше скрывать свою веру, решил начать жизнь сначала… Я приехал в свою семинарию, откуда был исключен. Просил, чтобы восстановили. Там я встретил и отца Никодима. Оказывается, его отстранили от преподавания из-за жалоб супруги, что он стал избивать ее и детей, обзывая дьявольским семенем.
– Это они там спят? – вдруг догадался я.
– Они. – Он прикрыл глаза, и кадык передернулся на его жилистой шее.
– Прости, отец… – Я выговорил это с трудом. Еще трудно было не помнить Пичугина, коллегу по гаражу. Но Пичугиным для меня он уже не был.
– Его назначили в этот приход, – негромко сказал отец Никодим. – Когда мне отказали, я вызвался сопроводить его до места будущего служения Господу нашему. В поезде он безобразно напился. И снова стал ко мне приставать. С ним нелегко было справиться, поверь…
– Верю, – сказал я, обратив внимание, как дрогнул его ровный голос. – Я верю тебе, продолжай.
– Я применил приемы, о которых старался забыть, уйдя из армии. Он ударился затылком об угол столика. Он умер сразу, без мучений. И без покаяния, как зверь. Он поддался греху, полностью вытеснившему в нем воздержание. И ему воздалось. Было это ночью, похоже, никто ничего не слыхал, и я сначала подумал, что скрыть совершившееся – непростительная слабость. Но все равно упорно думал, что скоро мост через реку и я мог бы его сбросить через окно. Не узнали бы люди. Но пусть знает Бог. Ты понимаешь, к чему я клоню. Потом я был наказан таким же образом. Бог твоими руками сбросил меня с моста.
– Бог или дьявол? – спросил я. – Я говорю о Радимове.
– Возможно, и то и другое, – пожал он плечами. – Иногда я думаю, что какие-то вещи они делают вместе. Иногда мне кажется, что в Радимове совместились оба начала – божественное и дьявольское…
Сначала я принял это за соблазн. И все доводы в пользу этого казались соблазном. Потом подумал, что я должен был избавить его будущий приход от такого пастыря. Но когда мост приблизился, я подумал, что буду прощен, если возьму его паству на себя. И покрою грех убийства грехом самозванства. Я знал, что следом за ним должна приехать его семья, над которой он издевался. Значит, и его семью должен я взять на себя. И, таким образом, елико возможно исправить содеянное – сначала им, потом мной.
Я открыл окно, подтащил его туловище и столкнул его вниз, через пролеты. Я оставил себе только его документы и обрядовую одежду… Я не знал еще, как отнесется к этому его жена. Поэтому написал ей и просил приехать сначала без детей. Она поверила мне, когда я все рассказал. Она плакала, рассказывая о его буйстве. Сказала, что была не нужна ему как жена, поскольку теперь он стал совращать уже мальчиков. И даже, будучи пьяным, покусился на сына.
И еще сказала, что я понравился ей. Что готова стать моей супругой. Что дети примут меня, поскольку отец отвратил их от себя своим грехопадением.
И вот сегодня она привезла их. Я не знаю, что будет завтра. Дети есть дети. Возможно, мой обман раскроется. Если это случится, значит, содеянное неугодно Господу нашему. Я со страхом жду, когда они проснутся. Мальчик ничего не сказал, а девочка уже спрашивала про отца…
«Нет ничего тайного, – говорил Господь, – что не стало бы явным» – и я отдаю себе отчет, что мое самозванство откроется.
Но знаю и другое: до этого времени я должен сделать много добра, насколько возможно это, до того как это произойдет. Теперь ты это знаешь. Ты первый…
Я сам не знаю, как это получилось. Встал на колени и поцеловал ему руку. С наколкой «Не забуду мать родную».
Он явно смутился, но не вскочил, не стал меня поднимать. Просто замер, сидя на месте. И неловко убрал руку, когда я поднял голову. С минуту мы молчали.
– Рассказывай… – сказал он. – Вижу, ты мне поверил.
Он сидел передо мной неподвижно, без лица, поскольку луна светила сзади ему в спину, и трудно было разобрать его выражение.
– Я покушался на жизнь Цаплина, – начал я. – Быть может, ты слыхал…
– Да, – кивнул он. – Передавали, но ведь он жив?
– Ты рассказывал, а я думал, что живем мы с тобой параллельными жизнями. Ты не хотел убивать, но убил. Я тоже не хотел, хотя он тоже заслуживал. Ты угадал, что сын не мой, потому что сам подменил родного отца, как подменил его я… Поэтому я верю тебе, ибо мои грехи тебе близки.
– Я понял, – сказал он. – И знаю, в чем ты повинен. И знаю, почему совпадают наши поступки, но не наши прегрешения. Я совершал их сознательно, ты позволял управлять собой.
– Ты веришь, что я не хотел его убивать? – спросил я.
– Да. Но не думаю, что откажешься сделать это в будущем.
Мы опять замолчали, стараясь осмыслить сказанное.
– Похоже, ты нуждаешься больше в моей помощи, чем я в твоей? – спросил я.
– Похоже, – согласился он. – Прежде чем дети встанут и спросят меня, где их отец, которого я убил, я должен сделать что-то для тебя. По-моему, тебя что-то сильно озаботило. Таким ты не был, когда приезжал крестить не своего сына.
«Боже правый, как все запуталось! – подумал я. – Он спешит совершить добро, и я должен ему в этом помочь, позволив оказать мне помощь…»
– Есть тут одна история… – начал я. – Не знаю, будет ли у тебя время. Хотя теперь понимаю, что, кроме тебя, ее никто не осилит.
– У меня есть время до того, как я с ними встречусь. – Он кивнул на дверь.
И я рассказал ему все о заговоре феминисток и о том, как они заманили, а теперь издеваются над подростками.
Отец Никодим выслушал, меняясь в лице от сдерживаемого волнения. Потом встал. Прошелся по горенке, едва не касаясь головой покатого потолка.
– Мы должны туда поехать! – сказал он. – У вас же там есть священники! Как они могут стоять в стороне?
– Но кто и что может сделать? – спросил я. – Они грозят их облить бензином и поджечь.
– Но они там и так погибнут! – сказал он. – Я слышал про этот горный лагерь, но у нас говорили о нем совсем по-другому… Мы должны туда ехать сию минуту!
Я предложил сесть ему в мою машину. Он коротко взглянул и согласился. Думаю, он понял, что надо мной довлеет вина за тот случай, когда я выбросил его ночью из его «Волги».








