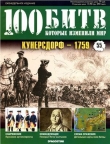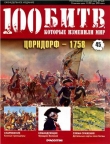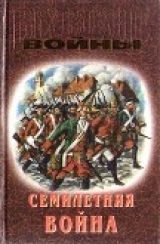
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 37 страниц)
– А мне на них плевать! И накладки европейские за образец держать не намерен! Впрочем, как и достижения, – добавлял он, остывая. – Своей головой жить пора! – вновь горячился.
А время шло. Только в сентябре утвердили командующего русской армии – генерал-фельдмаршала Степана Фёдоровича Апраксина. Тут уж возмущался не один Румянцев. Все – от солдата до генерала – знали, чего реально стоит их новый фельдмаршал, любитель хорошего стола и гардероба, личный обоз которого даже в районе боевых действий, случалось, состоял более чем из пятисот лошадей.
– Ну, что, господа, – злорадствовал Румянцев, – а каково теперь ваше мнение, что должно оставлять, а что ломать в порядках наших?
– Не ехидствуйте, генерал, – отвечали ему те, кто имел ещё слабый запал поспорить, – вы ведь тоже с нами совместно, под командой сего стратега воевать пойдёте!
– Пойду, – соглашался Румянцев. – но когда мне оторвёт голову ядром – случайно, разумеется, – просто командующий поставит всю свою армию от большого ума под пушки Фридриха, я буду спокоен – вслед за моей отлетят и ваши головы, столь боящиеся задуматься!
– Ну, хорошо, задумаемся мы. А дальше что? Плетью обуха не перешибёшь! Фельдмаршал наш ставлен самим канцлером Бестужевым-Рюминым! Вы что-нибудь имеете сказать канцлеру? Или персонам – членам Конференции? Так что сидите, ваше превосходительство, и не чирикайте! И вообще – побоку все серьёзные разговоры и вопросы, от невозможности решения которых бишь болит голова! Пусть она лучше болит от другого! Где ваш стакан, генерал?
Король Прусский Фридрих II разговоров сих не слыхал, иначе бы – как человек по-европейски воспитанный и вежливый – поспешил бы с ними согласиться. Но и не слыша их, он поступал так, как будто был их участником, то есть особого внимания на русскую армию не обращал.
Он считал, что основные события развернутся в Силезии, Богемии, Саксонии. Восточная же Пруссия может особо не опасаться нашествия восточных варваров: как по их слабости, так и благодаря тому, что, выведя лучшие войска на основные театры военных действий, он всё же оставил губернатору Пруссии фельдмаршалу Гансу фон Левальду порядка тридцати тысяч во главе с блестящими офицерами – Манштейном, Мантейфелем, Доной, кавалеристами Платтеном, Платтенбергом и Рюшем. Фридрих всё рассчитал ещё в самом начале войны – в 1756 году.
А теперь шёл уже следующий, 1757 год. В июне, согласно планам «Конференции», военные действия наконец начались – генерал-аншеф Фермер взял Мемель. Тогда же русская армия начала медленное движение к Кёнигсбергу. Одна из ночёвок в пути пришлась на местность на западном берегу реки Прегель, невдалеке от забытой Богом и людьми деревушки Гросс-Егерсдорф.
... Уже народ наш оскорблённый
В печальнейшей нощи сидел.
Но Бог, смотря в концы вселенны,
В полночный край свой взор возвёл,
Взглянул в Россию грозным оком
И, видя в мраке ту глубоком.
Со властью рек: «Да будет свет».
И быть! О твари Обладатель!
Ты паки света нам Создатель,
Что взвёл на трон Елисавет.
Шёл 1746 год. Физик, химик, ритор и многое, многое другое Ломоносов читал свою оду на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Каждый год этот день отмечался одами и другими поздравлениями словесными – в стихах и прозе. Это – традиция. «Дщери Петровой» Ломоносов польстил ещё в момент её восшествия, напомнив ей о её родителе и прямо требуя быть продолжательницей дел его державных. Елизавета, вспоминая эти строки, всегда умилялась. Именно благодаря своему поэтическому дару Михайло Ломоносов был поначалу известен верховной власти и даже иногда пользовался её покровительством.
На следующий год была ещё одна ода. Но каждая последующая декларировалась создателем со всё меньшим энтузиазмом. Ибо ничего не менялось. Засилье иноземное в делах академических продолжалось, несмотря на нового её президента – брата Алексея Разумовского – Кириллы. Гот, недавно дебютируя на этом посту, произнёс речь вроде бы и дельную – разумеется, не им составленную. Куда ему до таких мыслей в восемнадцать-то лет! Но всё равно – значит, советчики хорошие. А говорил Кирилл:
– Господа профессора, как ни прискорбно мне сие констатировать, но вынужден: думаете вы, учёные почтенные, токмо о прибавлении жалования и получении новых чинов. Под предлогом же несовместимости науки с принуждением – бездельничаете!
Академики заёрзали.
Год миновал с тех пор, а впору удивляться: как ничего не делали – так и не делают, хотя и есть нововведение. Старая лиса Шумахер, советник академической канцелярии, фактический заправитель дел Академии, умудрявшийся сидеть на своём месте при всех переменах державной власти, усидел и на этот раз и настоял на новом регламенте, коий обязывал членов астрономической и космографической секций расширять границы империи открытием новых стран, физиков – эксплуатировать новые рудники, математиков же – основывать новые мануфактуры. Торжественные заседания Академии с его же лёгкой руки посвящались рассуждениям на странные темы, такие как, например, о глазном клавесине аббата Кистель, которого Вольтер и Руссо дружно признавали безумцем.
Ломоносов допытывался:
– Господин Шумахер, как всё сие это назвать?
– То есть, господин Ломоносов?
– А то и есть, что тут делом занимаешься, ночей не спишь, а вы...
– Что мы?
– Жалование да харчи переводите!
– Сии мысли у вас от общей невоспитанности, господин Ломоносов, извольте прекратить!
Разговор этот не забывался. И уже позднее оного жаловался он своему приятелю – одному из немногих в Академии – Степану Петровичу Крашенинникову:
– Конечно, всякая власть – от бога. Существовать без неё никак нельзя. Но ведь она же не просто так дана нам! Иначе сказать: сие есть необходимое зло, признание которого и падение ей же даёт возможность заниматься настоящим делом...
– А в чём же оно?
– Будто и сам не знаешь... Множество проявлений его суммировать можно кратко – служение Отчизне. Или не во имя этого ты по Камчатке на карачках ползал?
– Ну, ладно, ладно, не гневись попусту-то. Побереги гнев свой для других.
– Что ж, продолжу. Когда сие зло упорядочено и, стало быть, терпимо, с властью мирятся. Когда же оно чрезмерно, когда забывают стоящие над тобой для чего они, в общем-то, назначены и рвут всё токмо под себя – тогда нельзя молчать и бездействовать.
– Да немцы сии все Академию обсели. Как мухи мёд, право слово.
– Не в этом суть. Человека оценивать следует по служению делу его. И Рихман мне дороже любого русака – ленивого да бездельного. Он науке, сей немец, служит, а стало быть – России. А среди русских есть такие, что жизнь свою мыслят – как бы век на печи пролежать да за старину рассуждать!
– Таких во всяком народе хватает.
– А я ничего и не говорю. Вестимо – в любой семье не без урода.
– Вот-вот, Михайло Васильевич, а насчёт дельных немцев я так тебе скажу: их у нас по пальцам пересчитать можно, большая же часть урвать поболее и побыстрее к нам слетелась.
– Это – иное. Таковых трутней гнать поганой метлой, потому – и своих с избытком хватает.
– Ох, с избытком. Один Теплов Григорий Николаевич чего стоит!
– Ну, ты его не трогай. Наш, русский он.
– Смотря что под сим понимать. Русские испокон веку трудниками были – иначе бы не выжить. А он всё норовит палки в колеса вставлять, чтоб его неспособность научная да леность мысли не вопияли. Он у нас политик! Когда тут о деле думать!
– Быть сего не может!
– Может. Ты хоть на каком-никаком, а верху в наших чинах академических, а мне-то снизу лучше видно. Он себя ещё покажет!
И действительно: Теплов со своего назначения в 1746 году, асессором Академической канцелярии вместе с Шумахером, а затем с его зятем и преемником Таубертом немало сделали, дабы «приращения наук в России» было как можно меньше.
Ломоносов долго не желал смириться с сей мыслью: Теплов, природный русак и бывший наставник Кирилла Разумовского, понемногу становился ключевой фигурой в Академии, от помощи или противодействия которой зависело много. И Теплов оказывал. Противодействие. Противодействие всему: исследованиям в естественных и иных науках, созданию преемственной школы русской науки – гимназии и университету.
Учёный всё же не терял надежду найти общий язык с дельцом – писал письма, вёл разговоры, взывая к тщеславию, чести, долгу. Одно из общений расставило, наконец, все знаки препинания – от запятых и многоточий до восклицательных знаков. Начали вроде бы о нейтральном, понемногу разговор оживлялся – начали вспоминать старину, дела и события минувшие, и тут Ломоносов возьми и спроси:
– Григорий Николаевич, как лицо, вхожее наверх, скажи, а какова участь брауншвейгцев: Ивана – младенца, матери его, отца, сестёр. Неужто и ты не знаешь? Ведь они сразу тогда как в воду канули!
– Не тем интересуешься и не по чину выспрашиваешь, но отвечу: велика Сибирь!
– Но ведь это жестоко! Ладно регентшу с мужем-сопровителем, но детей-то!
– Жестоко? Тут суть политика, а в ней добро и зло – понятия неприемлемые. Польза и выгода – вот её краеугольные камни: если полезно – значит сие действие суть добро, ежели нет – зло.
– Безнравственно.
– Опять ты заповедь Христову во главу угла тянешь! А разум тебе на что ладен? Тот же учёный! Для тебя же должен быть наиглавнейшим разум! Или ты только в своих учёных бдениях им пользуешься, а в жизни нашей многогрешной предпочитаешь обходиться без вмешательства сей хрупкой субстанции?
– Ирония ваша, господин Теплов, в данном случае неуместна.
Разум без добродетельных чувств слеп, и даже не только слеп, а и – опасен. Только одухотворённый добром, красотой, каждой истины в силах преодолеть он все преграды и открыть человеку то, к чему тот стремится. Ежели же он, разум, будет одинок в этой своей деятельности – то наградой за все его искания будет лишь мертвящая схема достижения шкурного благополучия и догма, призванная и, действительно, могущая объяснить и оправдать что угодно.
– Вы ошибаетесь, господин Ломоносов. В данном случае софистикой и радением догматов занимаетесь вы. Что ж, отбросим единый разум, который – по моему глубокому убеждению – единый руководит нами. Поговорим о столь любезном для вас разуме пополам с добром. Итак, что есть добро?
– Добро всегда едино суть.
– То, что хорошо всем...
– Положим.
– Даже не всем, а многим, так вернее. А разве плохо сейчас народу при матушке нашей императрице? Или вы, требуя словами своими отпустить Ивана Антоновича, хотите новых смут, заговоров, крови и смертей?
– Ну, что ж, мы здесь одни: иначе бы я подумал, что ваша цель – передать меня в руки палачу. Отвечу вам: вы говорите так, как будто народ творец и участник всех этих смут и заговоров. Вы вытаскиваете ваши доводы из замшелой шкатулки предшествующих столетий. Сейчас не времена первых Романовых, не времена Минина и Пожарского. И там, действительно, стоял вопрос о судьбе России – вот откуда смута, вся кровь и все смерти. И тогда, действительно, народ сказал своё слово – ополчение, освобождавшее Москву, было народом. А сейчас... Говорить о всеобщем кровавом поносе для страны лишь потому, что выпустят свергнутого мальчика-императора? Извините, сие смешно. Напрягите столь любезный вам разум: Анну Иоанновну пригласила кучка верховников, Бирона свергало несколько десятков преображенцев-дворян, Миниха просто оттолкнули как лакея. За императрицей Елизаветой опять-таки триста преображенцев... Вы не пробовали купаться в море в сильную волну?
– Нет...
– Я просто к тому, что на поверхности – волны, ветер, а внизу – обычная тишина. И привычное спокойствие. Так и здесь. Народу всё равно. Конечно, хорошо, когда снимают 17 копеек подушного налога, но когда люди знают, что любой, кому приглянется твоё имущество – и твой барин, и любое начальство – в силах и праве его отнять, радости мало.
– Тут я с вами, Михайло Васильевич, полностью согласен. Жалкие подачки Бирона были не нужны российскому люду! Мы, как патриоты, понимаем это – ведь не в деньгах же счастье!
– Не ловите так мелко, господин Теплов. Вы прекрасно понимаете, о чём я. Да и потом, что же вы эдак уничижительно о деньгах-то? Ведь польза же какая, выгода их иметь! Ну а коли вы патриот, то должны согласиться, что остальные не дали даже этого.
– Так, так! Это что же, вам не по нраву нынешнее правление? Вы что же – не испытываете священного трепета и священной и чистой любви к её Императорскому Величеству?
– А, теперь вы заговорили о любви! А где же ваш разум и лишь разум? Разумеется – испытываю! Об этом-то, собственно, я и толкую вам всё это время, что разум должен осеняться любовью. Мы любим нашу государыню, любим бескорыстно и приемлем её сердцем и умом. И поэтому нам не нужны никакие браунгшвейцы! А вот вы, столь страстный поклонник разума... Значит, вы рассудили, что выгоднее – и поэтому против Ивана Антоновича и за Елизавету Петровну? Сие весьма предосудительно, сударь, если не сказать более...
– Не передёргивайте, господин Ломоносов. Я всем сердцем...
– Так что, признаете тогда, что наряду с разумом человек должен иметь и чувства, кои должны быть с разумом в гармонии?
– Это демагогия! Софистика.
– Вы занимаетесь сей демагогией весь разговор. Почему же вы не желаете кушать сами того, что для других готовите с охотой и в больших количествах, а потом столь усилено навязываете? Или вы признаете право на отуманивание голов лишь за собой, поскольку вы сверху? Нет уж, сударь, коли начали играть в эти игры, то не грех бы запомнить накрепко: мне отмщение, и аз воздам. Аз воздам! Слышите? А теперь честь имею кланяться, господин патриот. И поскольку, я думаю, вы слабы в греческом, то я на прощанье позволю себе маленькое словоизыскание и – перевод. Патрио, господин Теплов, это – родина, а отнюдь не та персона, коя правит ею. Так что впредь более точно употребляйте незнакомые вам слова. Почему бы вам не взять на вооружение слово «клеврет»? Чудесное слово! Я дарю его вам. Равно остерегайтесь употреблять и различного рода теории – если не боитесь, что их могут обернуть против вас. Шапка, Господин Теплов, должна быть по голове, равно как и голова по шапке! Не считайте себя на будущее единственным умным человеком. Сие далеко не так. Жизнь вам ещё докажет данное не раз. Нам больше не о чем с вами говорить. И помощи больше у вас я просить не буду. Я живу для России, и укусы её недоброхотов, в какие бы яркие одежды они ни рядились и какие бы красивые и правильные словеса ни произносили при этом, меня не испугают. Я знаю свой путь и знаю его конец. Он, возможно, будет ранним, но я сделаю всё, что смогу. А это для каждого уже немало. Прощайте!
Болело сердце. И опять вспоминались разговоры с Крашенинниковым, как бились они над вопросом о добре и зле и как вспомнилось ему старинное – вербовка, а вернее, похищение в прусский великанский полк.
– Вот он, пример-то зла истинного, всамделишного, неприкрытого и гордого в своей силе единомнения и наплевательства на судьбы других...
– Ну, коли это за зло почитать, Михайло Васильевич, тогда для нашего-то природного и пальцев не хватит – только успевай загибать.
– Это точно. Поэтому и жизнь кладём, с ними борючись... Подо все копают, всё размыть хотят. Видал, как море берег гложет? Поначалу тот не поддаётся, а потом, ежели не укрепить, то и рухнуть может.
– Да, что свои, что чужие – не знаешь кто и хуже!
– Хуже тот, кто активнее в злобе своей, алчности, желании властвовать над нами, как над тварями бессловесными. Всё одно с одним связано. Замечал, как к истории нашей подбираются? Пока Байер с Миллером, а там и другие, я уверен, будут и не только иноземцы – и своих избыток будет! Недаром это, недаром! Ведают, что без корней человек – ничто, пыль на ветру, носимая по чужой воле. И ведь как пишут-то! Всё, по-ихнему, способны державы свои создавать, лишь россы – нет! Чем же мы так пред Создателем-то провинились, за что такая духовная немощь наша? А всё оттого, что чуют все эти иноземцы, с России сосущие, но обрусеть не хотящие да наши подголоски, что держава наша ежели развернётся, то весь мир изумлён застынет! Токмо из-под ига вылезли, всю Европу спася, и вот уже Русь – до окияна, в дверь Америки стучится! Пётр Великий лишь верхушки жизни тронул – а уже Европе всей должно на Россию оглядываться при решении дел своих. Ещё от крымцев отбиваемся, а султан уже начинает трепетать за Константинополь, враз прозвание его старое припомня. Поэтому и хотят нас обеспамятить, в покорстве воспитать, дабы сидели мы тихо все по щелям, кормили бы всех паразитов, сидящих у нас на шее, и их же бы и благодарили за науку и за то, что не забывают нас, бедных. Вот их мечта! Но этому не бывать! Покуда жив – не отступлюсь. Многим можно поступиться, но всего страшнее честь потерять, данную тебе предками для дел во благо своего народа и своей страны.
Под барабанную дробь, выбивающую генеральный марш, началось построение в ротные походные колонны. Раннее утро окутало землю белёсым непроницаемым пологом влажного тумана, в который ныряли со своими командирами невыспавшиеся и оттого настроенные весьма мрачно солдаты.
Узкая дорога была со всех сторон окружена густым Норкинтенским лесом, получившим своё название от деревни, где и проходил ночлег русской армии.
В силу своей достаточно большой численности – до 55 тысяч человек – армия вместе с командующим фельдмаршалом графом Апраксиным уверенно смотрела на возможность предстоящих сражений с пруссаками. Уверенность эта опиралась и ещё на одно немаловажное обстоятельство – пруссаки пока избегали столкновений с русской армией, позволяя ей беспрепятственно разгуливать по своим владениям.
Согласно решению Апраксина, армия, снявшаяся с ночлега около четырёх часов утра 19 августа 1757 года, осуществляла марш в общем направлении на Алленбург. Движение предполагалось осуществлять двумя колоннами: правой – в составе 1-й дивизии Фермора и части 3-й дивизии Броуна и левой, состоящей из 2-й дивизии Лопухина и части 3-й дивизии. Впереди – исходя из плана – предусматривалось следование авангарда Сибильского в составе 10 тысяч пехоты и конницы, усиленных бригадой артиллерии.
Плохо поставленная русская разведка так до самого боя и не узнала, что Левальд, ещё к вечеру 17 августа расположивший свою армию южнее Норкинтенского леса, решил атаковать Апраксина по флангам: главный удар от д. Улербален через прогалину, ведущую к русскому лагерю, вспомогательный – по правому флангу русских вдоль дорог, ведущих к д. Норкитен с северо-запада и запада. На рассвете 19-го Левальд занял исходную позицию и внезапно на русские колонны авангарда и дивизии Лопухина, уже начавшие движение, обрушился жестокий артиллерийский огонь. Туман и наша разведка – вернее, её практическое отсутствие – позволили пруссакам бить залпами с весьма выгодных позиций, почти вплотную.
Дивизии Фермора и Броуна также собирались в ближайшее время выступить, поэтому их обозы уже тронулись в путь. По диспозиции Апраксина предполагался общий марш через единственно возможный узкий прогал. И теперь обозы армии свалились к этому месту и создали толчею, пробку, сопровождающуюся массовыми истерическими ругательствами скучившихся людей. Залпы, начавшие доноситься всё более и более близко, усугубили толчею, могущую легко перейти в панику. По ходу движения оказался и неизвестно откуда взявшийся ручей, своим присутствием накалявший обстановку.
Основной удар Левальд нанёс по дивизии Лопухина. Массированный огонь артиллерии и густые порядки наступающей прусской армии вызвали поначалу замешательство:
– Сюда, сюда артиллерию!
– Сюда кавалерию!
– Пришлите как можно скорее каватерию!
– К чёрту обоз!
– Назад, назад!
Паника, однако, фактически не начавшись, утихла. От злополучного ручья и многострадального обоза – через лес, топь и фуры начали пробиваться к опушке отдельные солдаты и небольшие отряды под командой наиболее инициативных начальников. Выбираясь на открытое пространство, они, не обращая внимания на канонаду, выстраивались в боевые порядки. Таким образом намерение Левальда уничтожить русскую армию, не дав ей построиться для боя и тем самым вызвать при своём наступлении панику, провалилось. Это было первым звоночком прусскому фельдмаршалу, имевшему в своём распоряжении всего 24 тысячи солдат и намеревавшегося с их помощью просто разогнать и затем добивать, гоня этот русский сброд.
Но всё же управление войсками было нарушено – впрочем, общего командования со стороны Апраксина трудно было и ожидать, – большая часть армии не была задействована в силу крайне неудачных маршевых манёвров, поэтому вся тяжесть принятия оперативных решений выпала на долю генерала-аншефа Лопухина. Без тяжёлой артиллерии – эти бригады находились при первой и третьей дивизиях, – но под кромсающим огнём вражеской, без возможности наиболее оптимального построения своих войск, но под давлением приближающихся правильных порядков Левельда, в численном меньшинстве, поскольку пруссаки ввели в дело всю свою армию, что не могли сделать русские – таково было положение командира второй дивизии, при котором он должен был сделать всё, чтобы не допустить разгрома всей армии.
Только что вернувшийся от Апраксина, весьма путано наметившего общую диспозицию армии, и с первого взгляда понявший, что умом фельдмаршала здесь не прожить, Лопухин первым делом приказал себе не торопиться и внимательно осмотреть прусские позиции, потом перевёл взгляд на свои.
– Иван Ефимович, – обратился он к своему заместителю генерал-поручику Зыбину, – прикажите прекратить огонь: подпустим неприятеля ближе. Всё равно для пуль пока слишком далеко.
– Слушаюсь, ваше превосходительство!
– И распорядитесь насчёт раненых. Пусть отнесут в тыл.
– Хорошо, Василий Абрамович. А много их у нас?
– Да, многовато. Вот она – дозорная конница! Это надо же суметь – целую армию не увидеть! А нам теперь за это кровью приходится расплачиваться.
– Нам не привыкать.
– Да, это мы умеем. Ну, что ж, сделаем всё, что в наших силах.
И, повернувшись, пошёл к переминающимся солдатским шеренгам. Переминались солдаты и от чужой артиллерии, и в ожидании неминуемого – рукопашного боя.
– Ребята, – звонко крикнул им Лопухин, – наше дело – не робеть. Пусть пруссак робеет!
И вместе с Зыбиным, также выхватившим шпагу и ставшим во главе уже почти прямых боевых линий, быстрым шагом, постепенно всё ускоряя его и переходя на бег, направился в сторону прусской пехоты. Солдаты обогнали его, уже не слишком молодого человека, и ударили в штыки. Штык сошёлся со штыком – прусская пехота, пережив русский залп, почти в упор, который был по ним произведён по приказу Лопухина перед самой контратакой, не потеряла наступательного задора и твёрдо надеялась сломить в открытом рукопашном поединке русских. И это им начало удаваться. Нарвский и второй гренадерский полки, понёсшие значительные потери ещё при прусском артобстреле, сейчас таяли прямо на глазах. А к наступающим пруссакам линия за линией подходили подкрепления, наплывая на захлебывающихся под их множеством русских. Продолжала фатально сказываться и невозможность отвечать залпами артиллерии на залпы, а пруссаки продолжали косить выходящие из леса на подкрепление русские отряды огнём пушек.
Лопухин принял первый штык на основание шпаги, и когда он скользнул к эфесу, ударил неприятельского солдата рукоятью пистолета, зажатого в левой руке, в основание переносицы. Тот сразу закатил глаза и беззвучным мешком осел на землю.
Перепрыгнув через него, генерал поспешил на помощь к своему любимцу – поручику Попову, отбивавшемуся уже не шпагой, валявшейся сломанной пополам в нескольких шагах от него, а наскоро подобранным ружьём. Хороший фехтовальщик Дмитрий Попов отбил выпад одного из нападавших, тут же прыгнул в сторону второго и заколол его, успев ударом ноги опрокинуть третьего. Но ещё несколько оставшихся упорно старались взять Попова в кольцо. Русских пехотинцев рядом оказалось всего несколько человек – остальные в горячке боя проскочили дальше и немного в сторону, кто-то уже полёг на поле брани – так что в данный момент под началом генерала Лопухина оказалось меньше солдат, чем положено табельному капралу. Пруссаки, увидев подбегавшего к ним русского генерала, несмотря на отчаянные крики кучки набегавшей русской пехоты и на опасность оставления в своём тылу Попова, несколько из них развернулись и дали залп по Лопухину. Тот почувствовал внезапный толчок и инстинктивно схватился за сразу ставший липким левый бок. Пистолет выпал у него из руки, он пошатнулся и был подхвачен успевшим подбежать к нему офицером. Теперь группа русских потеряла свободу манёвра – она окружила раненого генерала и начала пятиться к своим тылам, сдерживая сразу после этого удвоившуюся ярость пруссаков. Кроме непрекращающихся штыковых наскоков противник начал и лихорадочно обстреливать маленькое каре русских. Один за другим падали, успевая пронести раненого генерала буквально несколько шагов. Последним упал получивший сразу несколько штыковых ран Попов. Подбежавшие к Лопухину прусские пехотинцы увидев, что он лежит недвижим, не растратив наступательного запала, устремились дальше. К этому времени уже всё поле было за пруссаками. Они глубоко охватили правый фланг дивизии Лопухина, смяли его и оттесняли дивизию к лесу, грозя зайти ей в тыл.
Генерал-поручик Зыбин был убит ещё в самом начале рукопашного боя. Заступивший на его место бригадир Племянников приказал полкам, – а вернее, тому, что от них осталось, – отступать на первоначальные позиции на опушке леса. В это время раздались крики – сразу с нескольких сторон:
– Братцы! Ребята, смотри! Жив наш генерал-то! И правда, живой!
Лопухин, откатившийся на поле боя и бывший до этого без сознания от ещё нескольких огнестрельных ранений и беспрерывной тряски, сейчас пришёл к себя и как-то неумело старался привстать. Заметив это его движение, к нему бросились несколько пруссаков.
– А-а-а! – раздалось со стороны русской позиции. – Не отдадим! Ребята, что же мы?
Племянников приказал контратаку и первым с криком «Вперёд!» побежал по только что оставленному русскими полю, обильно политому их и вражеской кровью. Единый порыв вмиг подхватил солдат второй дивизии; он был так силён, что не ожидавшие его неприятельские солдаты даже начали было понемногу очищать с таким трудом завоёванное ими пространство, но бригадир, твёрдо решивший не увлекаться и понимавший, что опомнившиеся пруссаки именно здесь в состоянии уничтожить его потрёпанные порядки, сразу после того, как Лопухина отбили, распорядился об общем отступлении к лесу.
Там уже были установлены полковые батареи, заблудившиеся поначалу неведомо где и наконец благополучно отыскавшиеся, так что Племянников на вопрос раненого генерала, заданный тихим прерывающимся голосом: «Ну как?» – имел полное основание ответить:
– Ещё подержимся, ваше превосходительство. Хоть и жмёт пруссак.
– Главное – не допустить паники, Пётр Григорьевич. Если нас опрокинут, Левельд пройдётся железной метлой по всему пути до нашего ночлега, и армия перестанет существовать. Так что держитесь. Помощь должна быть!
– Слушаюсь, Василий Абрамович! Будем держаться.
Он распрямился от лежавшего на разостланных плащах Лопухина и только собрался тихо от него отойти, как насторожился и стал пристально вглядываться вдаль – в тылы пруссакам. Там начинался шум, свидетельствующий всегда о бое. Но кто сейчас ввязывается там в бой? Насколько знал Племянников, русских сил там было не много.
Но это были именно русские и именно силы. В тыл прусской пехоте, всё более и более окружавшей дивизию Лопухина ружейным и артогнём, уже и со стороны леса, внезапно вышли четыре свежих русских полка: Воронежский, Новгородский и Троицкий пехотные и Сводный гренадерский. Это были полки бригады генерал-майора Румянцева.
С начала боя его бригада располагалась на месте ранним утром завершившегося ночлега на северной опушке леса. Бригада числилась в резерве и никаких приказаний о дальнейших действиях не получала. Начавшийся внезапно бой, внёсший сумятицу в действия высшего командования и полностью расстроивший управление армией, позволил командирам Румянцева о его бригаде, по-видимому, забыть.
Командир бригады по собственным разумению и инициативе построил свою бригаду в каре – на случай отражения кавалерийских атак пруссаков и организовал разведку – через лес, к месту боя – с требованием подробно извещать обо всём там происходящем. Через некоторое время поручик, возглавлявший разведывательную группу, докладывал:
– Ваше превосходительство, неприятель атакует нашу армию.
Основной удар – по центру, по дивизии генерал-аншефа Лопухина.
Правый фланг – там недалеко какой-то фольверк – держится.
– А, фольверк Вейнотен!
– На левом фланге кавалерия пруссаков, ваше превосходительство, заманена под огонь артиллерии и пехоты авангарда на высотах западнее Зитерфельде.
– Хорошо, хорошо, что со второй дивизией, поручик?
– Главная атака ведётся против её правого фланга.
Положение опасное: большие потери, артиллерии я не видел, прусская пехота отжимает их от леса и окружает...
– Окружает или окружила?
– Окружает, ваше превосходительство. Дивизия держится стойко, но потери и отсутствие артиллерии...
– Достаточно, поручик, я сам знаю достоинства дивизии. Скажите лучше, как лес, через который вы сейчас изволили прогуляться туда и обратно? Его ширина, проходимость?
– Около полверсты, ваше превосходительство. Лес болотистый, но пройти можно.
– Спасибо, поручик. Свободны.
Проводив глазами отошедшего офицера, Румянцев задумался.
Потом резко тряхнул головой и направился к каре. При его приближении тихий шёпот, стоявший в шеренгах, сразу замолк.
– Солдаты! – поднявшись на повозку, начал командир бригады. – Вы слышите, – он махнул рукой за лес, – там идёт бой. Наши братья сражаются там. Им трудно, и долг наш – прийти к ним на помощь. И мы пойдём к ним на помощь, пойдём сквозь этот лес. Пойдём быстро – от этого зависит жизнь наших товарищей там. Поэтому обозы, артиллерию, патронные повозки, мешки, шанцы – всё оставить здесь. Только ружья! Только штыки. Без дела не стрелять – а залпом, по моей команде. И молча. «Ура» крикнем, когда победим! Идти полковыми колоннами. Всё!
Полки шли через лес, проваливались в глубокие выбоины, наполненные застоявшейся водой, и мелкие болотца, цепляясь за острые сучья и проваливаясь в лиственную и хвойную труху, сплошным тёмно-рыжим ковром покрывавшую землю. Шли, по пути присоединяя многочисленные разрозненные группы солдат, отброшенных превосходящими силами противника в лес, но бывшими не прочь ещё раз попытать военного счастья в открытой сшибке с врагом.