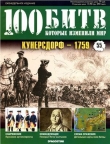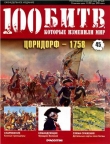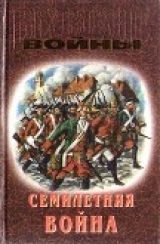
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц)
Ночной разговор
Ехать не хотелось, но делать было нечего. Эстафета, которую он вёз, была срочная и деликатного свойства. Воронцов лично вручил ему её и приказал вернуться с обстоятельным ответом. И теперь, сидя в раскачивающейся от быстрой езды лёгкой бричке, Ивонин старался не думать о Катерине и с усердием поддерживал разговор с молодым поручиком, напросившимся к нему в спутники.
– Вы, господин Щупак, для поручений были при графе Воронцове. Следственно, про многое наслышаны. Не скажете ли, что за предложение король Людовик недавно правительству нашему делал?
– Король французский в декабре прошлого года декларацию произвёл, что дольше воевать, мол, незачем, ибо могущество Пруссии до крайней степени ослаблено.
– А Конференция каково об этом судила?
– Российское правительство в ноте своей уведомило, что, понимая желание союзников своих, зело ослабленных войною, но напротиву того находя необходимым…
– Степан Андреич! Голубчик! Покороче! – взмолился Ивонин. – Этак до завтра не расскажете.
Щупак покраснел.
– Привычка-с! Единым словом: правительство наше ответствовало, что согласно мириться на той, однако, кондиции, чтоб король прусский существенно был ослаблен в своих силах.
– Значит, в Петербурге мыслят, что Фридерик ещё недостаточно ослаблен? Так ли я вас понял, Степан Андреич?
– Именно так, Борис Феоктистыч! В ноте нашей прямо сказано было, что уменьшение сил короля прусского есть только кратковременное и такое, что если им не воспользоваться, то он усилится более прежнего.
– Здраво! Весьма здраво! – задумчиво сказал Ивонин.
Щупак котёл было продолжать рассказ, но, покосившись на сосредоточенное лицо Ивонина, осёкся и замолчал. Кони, казалось, без всякого усилия неслись вперёд. Ямщик, ухарски держа в одной руке вожжи, напевал песню, сперва тихо, а потом, заметив, что господа прервали беседу, всё громче.
Как и нынче вино
По копейке ведро.
Калина моя, малина моя!
Как старуха пила,
Старика пропила.
Свово мужа пропила.
Калина моя, малина моя!
– Дозвольте и мне, в свою очередь, спросить вас, – робко проговорил Щупак: – каковы в нынешнем году военные действия в Пруссии происходили? Я в Петербурге про то мало наслышан. А, верно, что ни день, то новое предприятие.
– Побудете в армии, узнаете – усмехнулся Ивонин. – Для солдата день на день похож. А, впрочем, извольте, расскажу… В июле выступила наша армия из Познани под Бреславль. Фридерик остановился лагерем у Бунцельвица, откуда он мог как осаде Швейдница, так и Бреславля препятствовать. Лагерь был весьма укреплён: вокруг валы с глубокими рвами, перед валами палисад и рогатки, а перед ними ещё три ряда волчьих ям. На валах – двадцать четыре батареи, перед каждой фугасы в землю вкопаны. К тому же местность в окружности была затоплена и преграждена засеками.
– И взяли сей лагерь? – не утерпел Щупак.
– Столь сильные укрепления решено было не штурмовать, а взамен того в сентябре нечаянным нападением был взят Швейдниц. Фридерик отправил в наш тыл кавалерийский отряд графа Платена. Прорвавшись к Познани, этот отряд разорил наши запасы. Для борьбы с Платеном выслана лёгкая кавалерия под начальством генерала Берга, а более его помощника, подполковника Суворова.
– Это не родственник ли Василью Иванычу?
– Сын… Он Платена вспять обратил и тем позволил графу Румянцеву повести методическую осаду города Кольберга. Этот же город есть главная цель нынешней кампании. Заняв его, мы обеспечим свой фланг и сможем вновь на Берлин наступать – уже не для налёта, а чтобы надолго завладеть им. Потому Фридерик весьма сильную крепость в Кольберге устроил, двенадцать тысяч гарнизону там держит и беспрестанно в помощь ему диверсии предпринимает.
– А как же осада протекает? – Щупак даже подался вперёд от нетерпения.
– Граф Румянцев действует с большим искусством. На Кольбергский рейд вошли наши корабли, обстреляли прибрежные батареи и высадили две тысячи матросов. Тем же часом с суши войска подступили к крепости и заняли окрестные высоты. Румянцев надвигает свой корпус медлительно, осторожно, но неуклонно. Пруссаки выслали отряд Вернера для действий у нас в тылу, однако наши разбили его, взяли в плен самого Вернера и с ним шестьсот человек, понеся потерю только в полсотню людей.
Бричка, замедлив движение, покатилась по обочине дороги, огибая длинные громадные возы, на которых были уставлены жестяные понтоны, свежеокрашенные красной краской.
– Ишь, какие! – сказал ямщик, полуоборачиваясь и называя кнутовищем на понтоны. – Хучь в карусель ставь.
– Мост хорош выйдет, – улыбнулся Ивонин.
– Значит, взятие сей крепости очень для нас важно? – сказал Щупак.
– Нам досталось через конфидентов письмо Фридерика принцу Вюртембергскому. Он пишет: «Я не могу потерять сей город, который мне слишком важен; это было бы для меня величайшим несчастьем».
– А мы всё-таки возьмём?
– Бог даст, возьмём. В военном деле мы уже искусились, солдаты наши не в пример лучше прусских, а Румянцев охулки на руку не положит.
Он замолчал, прислушиваясь к нескончаемой, однообразной песне колокольчика и рассеянно смотря вверх, где мелькали две птицы, распластываясь, падая камнем вниз и снова взмывая до самых туч.
Ямщик, нахлёстывая уже запаренных лошадей, всё пел:
От села до села бежит сваха весела,
От ворот до ворот чёрт за ногу волок.
Ивонин рассмеялся:
– Ну и песня! Весёлая, а несуразная.
Щупак пренебрежительно выпятил губу.
– Что же мужику надобно! Его эсфетические представления мы знаем: что сладко, то вкусно, что красно, то красиво, а что громко да складно, то и ладно.
Ивонин пристально оглядел его, точно впервые видя.
– Недаром, знать, вы весь век провели во дворце, – сказал он, кривя губы. – Песни русской не чувствуете – значит, и души народной не поймёте. Ну, да ничего: поживёте с солдатушками, тогда многое…
Он не договорил и откинулся на спинку сиденья, явно показывая, что не расположен более вести беседу.
«Василий Иванович Суворов уведомил меня по требованию моему, что с нашей стороны поступается с пруссами пленными весьма другим образом и что как офицеры, так и рядовые получают вседневно определённое число денег, почему и надлежало вы с нашей стороны сделать равномерное „с королём прусским постановление, дабы взаимные пленники с обеих сторон условием могли иметь своё пропитание“».
– Знатно! – Румянцев повертел в руках бумагу, задумчиво посмотрел на подпись канцлера Воронцова и обратился к стоявшему навытяжку Ивонину: – Рескрипт, что вы мне привезли, весьма правилен; узнаю государственную мудрость Михаила Илларионыча. Да вот в чём заковыка. Как с таким противником кондиции о пропитании пленников делать? Всё равно обманут. Мы ихних кормим и денег даём, а Фридерик – даром что просвещённейшим государем себя именует – военнопленных, словно скотов, содержит.
Он помолчал и вдруг с силой произнёс:
– В этой войне мы не токмо с силой прусской боремся, но и с подлостью ихней. Силе мы свою противопоставили. А подлости учиться не будем. – Он поднялся. – Рескрипт приму к исполнению. Ступайте, подполковник.
У выхода Ивонина поджидал Шатилов. Они пошли, перебрасываясь беглыми фразами.
– Как осада протекает? – спросил Ивонин и невольно усмехнулся, вспомнив, что точно такими словами его спрашивал в дороге Щупак.
– Я полковнику Гейду, коменданту кольбергскому, не завидую. Теперь видно, сколь сильны российские войска, когда ими достойный командир управляет: все ухищрения неприятелей в ноль сводятся. Но, впрочем, не всё удачно: на левом крыле подполковник Шульц сбился с дороги, задержался и был с превеликим уроном отброшен. Пётр Александрович его немедленно отдал под суд. Словом сказать, взять Кольберг ещё не просто: укрепления там весьма сильные, и к тому же флот наш ныне из-за непогоды в Ревель ушёл.
– А как подполковник Суворов действует? – словно невзначай спросил Ивонин.
– Преотлично. Везде поспевает, и Платена в страхе держит. Чуден он больно: с ребятами в бабки играет, с солдатами на штыках бьётся. Намедни ему генерал Яковлев пошутил: «У вас чин по делам, да не по персоне». А он ему в ответ: «Порожний колос выше стоит». Острый язык у него, да и ум, видать, таков.
«Только-то? Плохо же ты знаешь Суворова», подумал Ивонин, но вслух ничего не сказал.
Они обменялись крепким рукопожатием и расстались. Ивонин не спеша пошёл дальше. Одна мысль, нежданно пришедшая в голову, не давала ему покоя. Несколько раз он замедлял шаги, снова продолжал путь и наконец решительна свернул в сторону. Быстро пройдя между палатками, он подошёл к маленькому бревенчатому домику. Видимо, домик был только что выстроен, и притом на скорую руку. Брёвна ещё хранили запах свежести, краска на узкой двери ещё не совсем высохла.
Ивонин негромко постучал. Почти сейчас же послышались быстрые шаги, дверь распахнулась, и на пороге показался со свечой в руке офицер в застёгнутом мундире, но без сабли.
– Господин Суворов! – сказал Ивонин напряжённым и оттого чужим голосом. – Когда мы виделись с вами, вы дали мне разрешение притти к вам. Могу ли я сейчас сим приглашением воспользоваться?
– Рад… рад… Входите, Борис Феоктистович, – проговорил Суворов, отодвигаясь, чтобы пропустить его.
– Неужто имя помните?
– Э, сударь! Я, почитай, полтыщи солдатушек по именам помню… Прошенька! – зычно крикнул он. – Али спать уже лёг? Устрой-ка нам чайку, да поскорее! Стриженая девка косу не заплетёт, а у нас уже чтоб чай был! Так вас, господин Ивонин, я перво-наперво поблагодарить хочу.
– За что? – удивился Ивонин.
– За Березовчука… Алефана… Не солдат – золото. Скоро ефрейтором будет… Садитесь, сударь, вон на тот стул; а я – на табуреточке, поближе к камельку.
Он чуть плеснул из флакона оделавану, потёр руки.
– Таких солдат, господин подполковник, нигде не сыщешь, окромя как в нашей стране, что от белых медведей до Ненасытецких порогов простёрлась. Горжусь, что ими командую, горжусь, что я – россиянин!
– Не с того ли воины наши хороши, что во всё время приходилось с врагами биться? Надо было свергнуть иго монголов, покорить татарские царства, обеспечить границы на востоке, вернуть утраченные области на Западе и, вдобавок, восстановить направление к Понту, которое ещё с варягов искони создалось. Война русских людей никогда не пугала.
– Здраво судите, господин Ивонин. Однако всё же и другие народы вели много войн, а воинственными не стали. Ан речь о другом: хорошему генералу нужны славные солдаты, но и хорошим солдатам великий генерал нужен. Русское войско, – он наклонился вперёд и поднял палец, – должно сражаться по-другому, по-новому. Что другим армиям невмоготу, то наша осилит.
– А как по-другому? – затаив дыхание, спросил Ивонин.
– Помилуй бог, сразу скажи ему! Мне по моей степени ещё о том судить трудно. Но, однако ж, тринадцать лет о том думаю, и буря мыслей в голове моей.
Ивонин слушал, боясь шелохнуться.
– Граф Салтыков и Пётр Александрович Румянцев под Пальцигом и Кунерсдорфом показали, сколь русские войска сильны в дефензиве и сколь легко они к наступлению обращаются. Но пора и другое показать: сколь сильны войска наши в атаке. Зачем ждать неприятельского наступления? Кто стремглавней, храбрее, спокойней, чем наши солдатушки? У кого твёрже и тяжелей рука? Российская армия созрела для того, чтобы стать грозою всякого супостата, чтобы враги и в самой столице своей дрожали перед её десницей.
Заспанный Прошка внёс кипящий самовар и, сердито гремя посудой, принялся расставлять закуску.
– У, какой сердитый! – шутливо поёжился Суворов. – Вот, сударь мой, кого мне опасаться приходится: господина Дубасова.
– Уж вы всегда… – пробормотал ординарец. – Хучь бы господина подполковника постеснялись, – и он, покачав головой, вышел за дверь.
Суворов хитро посмотрел ему вслед и наполнил рюмки.
– Доводилось ли вам, сударь, забивать гвоздь? – сказал он, снова переходя на серьёзный тон. – У кого крепкая длань, тот голым кулаком, без молотка, его в стену вобьёт. Но, заметьте, кулаком, а не пальцами растопыренными. Тако же и на войне: должно все силы к месту боя подвести и там сокрушительной лавиной в намеченном пункте тонкие линии неприятеля порвать.
– И тогда одним ударом неприятель к отступлению обречён будет?
Суворов прищурил левый глаз.
– А зачем неприятелю отступать? Если он отступил – неудача. Истребить его должно, в плен взять, уничтожить, тогда шармицель удачною почитать можно.
– Значит, по-вашему, недостаточно, если неприятель очистит территорию?
– Не в территории дело. Помилуй бог! Иной раз за территорию и каплю крови пролить бесполезно. Уничтожь вражеское войско – и вся земля твоя будет.
Он вдруг схватил Ивонина за руку.
– Не берите соль ножом, со времён солдатства не люблю того: всегда к ссоре ведёт. Так вот каковы задачи перед армией российской стоят. Да кому решать-то их? Тотлебена нету, да Тотлебенов вдосталь, и про них солдаты верно говорят: «Ворон ворону глаз не выклюет». Хотя б Пётр Александрыч на себя крест принял.
– А вы примите, – сказал вдруг Ивонин, и сам смутился, но делать уже было нечего, и он повторил: – Вы крест сей на себя возьмите и, надо быть, лучше всякого всё свершите.
Суворов зорко посмотрел на него, потом глотнул чаю и сказал простовато:
– Где же мне! Меня кавалерийским начальником сделали.
Ивонин усмехнулся краешком губ:
– Мне одна притча вспомнилась: одного философа на пиру посадили не с именитыми гостями, а в краю стола, среди музыкантов; философ на то произнёс: «Вот лучшее средство сделать последнее место первым».
– Остро… Однако ж, ежели без клокотни разобраться. Как вернее всего неприятельское войско уничтожить? Надо подступить к нему нечаянно и атаковать с фурией. В том весь секрет. К сему и надо готовить войска. Фридерик в сутки по семнадцати вёрст делает, наши – и того меньше; под Берлином, правда, Панин по тридцать пять отмахал, но то не правило. А надо, чтоб войска всегда так ходили. Читайте Цезаря: римляне того быстрее передвигались. Ежели обстоятельства требуют, надлежит смело от магазинов отрываться. Фридерик на четыреста пятьдесят вёрст от них отходит, а мы должны – на тысячу.
Теперь лицо его было серьёзно, даже торжественно. Голубые глаза его пронзительно смотрели вдаль, поверх головы Ивонина.
– Командовать с умом нужно, а тогда и невозможное для солдата возможно делается, – резко проговорил он.
Невольно для себя Ивонин встал.
– Вы годами моложе меня, Александр Васильевич, – сказал он, стараясь говорить спокойно, – но в вас вижу славнейшего из мне известных военачальников наших и дивлюсь военной мудрости вашей.
– Что вы, государь мой, – кротко ответил Суворов. – Загляните в историю: вы увидите там меня мальчиком.
Он, в свою очередь, поднялся.
– Прощайте, – и опять Ивонин ощутил в своей руке его маленькую твёрдую руку с нервными, сухими пальцами.
Взяв свечу, он пошёл вперёд.
– Прошку будить не стану. Завтра на заре выезжаем, пусть отоспится… Да хранит вас бог, сударь. Авось, скоро в Кольберге встретимся.
Он остался стоять в дверях, заслоняя рукою свечу от ветра, и, уже отойдя на изрядное расстояние, Ивонин, обернувшись, увидал мерцающий жёлтый огонёк, будто маленькую яркую звёздочку среди густой тьмы ночи.
Глава третьяИмператор и императрица
В середине зимы Ивонин вернулся, наконец, в Петербург. Сердечно поздоровался с Ольгой, крепко, до боли сжал руку Катерине.
– Сейчас схожу с докладом в Военную коллегию, испрошу на неделю отпуск, а завтра пойдём балаганы смотреть…
Весёлый, оживлённый, он ушёл из дому. По дороге в коллегию он обогнал одного офицера, с которым в начале войны служил в главной квартире.
– Если не ошибаюсь, капитан Щербинов?
– Борис Феоктистович! Да вы уже подполковник! Давно ли?
– Нет, всего несколько месяцев. Далече ли идёте?
– В коллегию. О прошлом годе был ранен, служить невмоготу стало и прошусь в отставку, на покой. Дадут ли, нет ли…
– А вам как написали в армии? Я эти дела знаю: ежели в Военную коллегию посылают со словами «на рассмотрение», там увольняют в отставку, а ежели пишут «в рассмотрение», то возвращают в полк.
– У меня, кажись, на пакете «на рассмотрение» стоит… Поверите, цельный год в лазарете провалялся. Слыхивал я, что в войсках перемен много. А толком никто не рассказал.
– Перемен много, сие вам верно говорили. Очень сокращён вагенбург[45]45
Вагенбург – обоз.
[Закрыть]: число повозок на каждый пехотный полк уменьшили до девяноста шести, на кавалерийский же – до пятидесяти пяти. Число зарядов увеличено до ста каждому солдату, а коннику – сорок. Легче стало и с провиантом, потому новый губернатор Пруссии, Василий Иваныч Суворов, сменивший Корфа, создал постоянные перевозочные парки для подвоза продовольствия и возложил на местных крестьян обязанность содержать две тысячи подвод для той же цели. Вещевого довольствия и обмундирования ныне достаточно. Снарядов для артиллерии вдосталь.
– А кавалерия? Я в последнее время там служил.
– Передовая лёгкая кавалерия себя очень полезной показала, и число её ещё при графе Салтыкове до десяти тысяч доведено.
– Потери велики ли?
– За весь прошедший год, несмотря, что мы берлинскую экспедицию провели, потери менее трёх тысяч человек составили, да и те главным образом от болезней умерли. Убитых же всего сто тридцать человек было. Понеже в армии излишек против штата, Военная коллегия решила нового набора не учинять.
Они подошли к зданию, в котором помещалась коллегия, и в изумлении остановились. По широким ступенькам сбегали и поднимались офицеры, суетились ординарцы. На всех лицах было написано волнение – особая, торжественная серьёзность, какая бывает только в моменты значительных событий.
– Борис Феоктистович! Чуете, что произошло?
– Сейчас узнаем.
Быстрыми шагами он приблизился к подъезду и остановил пробегавшего мимо молоденького поручика.
– Не удивляйтесь моему вопросу, поручик. Я только что приехал в Петербург. Что означает сия общая ажитация?
Офицер вытянулся по всей форме.
– Её императорское величество, государыня Елизавета Петровна скончалась.
– Скончалась? Как же? Как? Говорите, поручик!
– Лейб-медики её Манзе, Шиллинг и Крус уже неделю назад оставили надежды на выздоровление. Вчера она приобщалась святых тайн, а сегодня в три с половиной часа дня почила в бозе.
Поручик отдал честь, щегольски повернулся на каблуках и умчался.
– Пойдёмте обратно, – обратился Ивонин к своему спутнику: – сегодня в коллегии ни моего, ни вашего дела слушать не будут.
Весть о смерти императрицы быстро облетела город. Улицы заполнились народом. Почти все жалели о ней. Дочь Петра, двадцать лёг носившая скипетр, она теперь казалась воплощением русской государственности. Ей прощали и нескончаемые балы, и двадцать тысяч платьев в её гардеробе, – всё это было пустяком в сравнении с той неуверенностью, которою внушал новый самодержец. Петра Фёдоровича не любили, не понимали и боялись. А он будто нарочно множил эти чувства.
На похоронах императрицы Пётр сперва шёл чинно, потом стал отставать. Когда катафалк удалился от него на большое расстояние, он вдруг бегом пустился догонять его. Вельможи, державшие у него траурный шлейф в шесть аршин длиной, не поспевали за ним; раздуваемый ветром шлейф взвился в воздух, точно крыло гигантской чёрной птицы. Оторопевшая свита еле сумела снова схватить его. Государю, видимо, понравилась забава, и он повторял её во всю дорогу до усыпальницы. Стоявшие шпалерами гвардейцы хмурились; Шуваловы кривили губы в злой усмешке.
Но то были цветочки. Как громом, поразила страну весть: новый император заключает мир с Пруссией. Мириться с заклятым врагом – и когда же? Накануне полной победы, накануне совершенного его разгрома! Сперва никто не верил. Но весть подтвердилась. Андрей Гудович повёз Фридриху письмо нового императора, в котором изъявлялось намерение установить вечную дружбу с Пруссией.
Прусский король ликовал: вот оно, чудо Бранденбургского дома, вот результаты многолетних интриг и дорогостоящих подкупов! Он срочно отрядил в Петербург камергера Гольца для ведения мирных переговоров. В инструкции Гольцу говорилось: «Они предложат… возвратить нам Померанию, но захотят удержать Пруссию или навсегда, или до заключения общего мира. На последнее вы соглашайтесь. Если же они захотят оставить за собою Пруссию навсегда, то пусть они вознаградят меня с другой стороны».
Приезд Гольца взбудоражил Петербург. Пётр видел общее возбуждение, но с тупым упорством вёл свою линию.
Гольц вручил императору прусский орден и объявил о возведении его в чин генерал-майора прусской армии. Пётр пришёл в восторг;
– Радость какая! Вот не ждал!
Канцлер Воронцов не сдержался:
– Ваше величество может с лихвою отплатить прусскому королю, произведя его в русские фельдмаршалы.
Пётр не понял язвительной горечи этих слов. Он суетился, бегал по комнате.
– Вели, пожалуйста, по городу сообщить о радостном известии. Пусть из осадных пушек палят.
– Помилуйте, ваше величество! Как же можно из осадной артиллерии в городе палить? Этак половину Петербурга порушим.
– Ты думаешь? Ин, не надо палить. Тогда вот что: узнай у посла прусского, какая дама ему любезна, пригласи оную в мой кабинет и запри вместе с послом.
Воронцов только плечами пожал. Видя, как легко может Гольц обвести вокруг пальца императора, министры принимали все меры, чтобы переговоры велись при их участии.
Но прусский посол обошёл их – улучив момент, он наедине с Петром рассмотрел проект мирного договора, по которому Россия возвращала все завоёванные прусские области, к притом без всякой компенсации. Гольц с торжеством препроводил мирный трактат министрам, поставив на вид, что он одобрен во всех артикулах императором. В петербургском обществе нарастало глухое волнение, министры негодовали, но что было делать? Только открытое возмущение могло изменить обстановку; но не так-то легко свергать государей; иные ж надеялись ещё, что Пётр сам поймёт и остановится.
Надежды были тщетны. Император никого не слушал. Кроме Гольца, он взял в советники пленного шведа Гордта, ранее служившего в прусской армии. Из русских приблизил более других Льва Нарышкина и генерала Мельгунова. Оба были людьми без убеждений, прожжёнными циниками и низкопоклонными царедворцами. За какую-то провинность император велел их в Ораниенбауме высечь: обоих отстегали розгами, но это мало подействовало на них: ни гордости, ни достоинства в них уже не было. Нарышкин вечно ходил пьяный, грубил императрице Екатерине, отпуская бесстыдные шуточки по поводу её фрейлин. Однажды Екатерина застала его в своём будуаре: разлёгшись в сапогах на канапе, он крепко спал пьяным сном. Екатерина велела принести пучок крапивы и с помощью двух дам так отхлестала Нарышкина, что у него вспухло лицо и руки, и он два дня пролежал в постели. Впрочем, он не обиделся и на это.
С каждым днём усиливалось недовольство Петром. Вспомнили случай, происшедший после Цорндорфа. Слуга полковника Розена, привёзшего известие о сражении, начал рассказывать, что русские проиграли это сражение. Его тотчас арестовали; Пётр же призвал его к себе, внимательно выслушал и заявил, что и без того знает: русским пруссаков не одолеть.
Вспоминали, как в один из первых дней по вступлении на престол Пётр расхвастался, что, будучи великим князем, переслал Фридриху много рескриптов Конференции по армии, о которых его уведомлял постоянный секретарь Конференции – Волков.
– И потому сии рескрипты не имели никакого успеха, – заключил он с грубым смехом.
Волков сидел ни жив, ни мёртв.
Захар Чернышёв получил приказ соединиться во главе 16-тысячного корпуса с прусскими войсками и в случае нужды помочь им против недавних союзников – австрийцев. В самом Петербурге велись усиленные приготовления к войне с Данией. России эта война была не нужна, цель её состояла в том, чтобы вернуть Голштинскому герцогству Шлезвиг. Готовясь к этой кампании, Пётр отправил уже в море десять кораблей под командой Свиридова. Ещё шесть кораблей и десять фрегатов стояли на Кронштадтском рейде.
Воевать за Голштинию никто не хотел. Гвардия роптала. Пётр, узнав об этом, пригрозил раскассировать её. Это уже вызвало целую бурю. В гвардейских казармах всю ночь шумели, спать никто не ложился.
В канун этой ночи в Петербург приехал Шатилов. Император прочил Румянцева главнокомандующим в грядущей войне с Данией. Графа Петра Александровича эта честь не прельщала. И того довольно, размышлял он, что после столь трудной осады он взял-таки Кольберг, но несколько дней спустя умерла Елизавета Петровна, и ему ни благодарности, ни похвалы. А теперь ещё повести армию в поход, который всем поперёк горла стоит!
Император бешеный! Прямо не откажешься! Посылая Шатилова, Румянцев хотел повыведать, что да как, о чём думают-гадают в столице, а тогда уже решить, в каких словах отказ писать.
Шатилов поехал охотно, но и с волнением. В Петербурге – Ольга, и теперь-то уж окончательно всё решится. Или навеки расстанутся, или Ольга пойдёт за него. Он боялся признаться себе, что уже не так жаждет этого. Словно что-то перегорело в нём, изнемогло под грузом ожидания, напрасного томления и тоски. Нянька его часто твердила присловье: «Ешь с голоду, а люби смолоду». Видать, всякая любовь хороша в расцвете, пока не нависли над ней разочарования, обиды, каждая из которых – даже самая маленькая – оставляет неизгладимый след.
Но, впрочем, так думалось и чувствовалось ему иногда, В бессонные ночные часы, а днём он с нетерпением считал часы до встречи с Ольгой.
Приезд румянцевского офицера стал сразу известен в гвардии: видно, кто-то там зорко наблюдал за всем, что происходит при дворе. Не успел Шатилов вернуться из Военной коллегии, как к нему явились два офицера. Он знал их понаслышке: братья Орловы, бретёры и картёжники, силы непомерной и удали немалой. Знал он также, что это ближайшие приближённые новой императрицы, Екатерины Алексеевны. Разом припомнился боскет во дворце, неожиданная аудиенция… Он почти не удивился, когда Алексей Орлов, склонив в поклоне голову, обезображенную большим шрамом, передал ему приглашение гвардейских офицеров посетить их сегодня вечером.
Что же! Где как не в гвардейских казармах узнает он всего лучше то, чем интересуется граф Румянцев!
Поехали втроём. Красавец Григорий Орлов почти всю дорогу молчал, Алексей говорил обиняками, а иногда с явной угрозой:
– Войну с Данией задумали! Кровь наша будет литься не за матушку Россию, а за голштинских принцев. Императору же о том заботы нет. Пишет нежные письма Фридерику, то ли милуется с Елизаветой Романовной Воронцовой. Забывает он, что государю должно делать историю.
– Лев Нарышкин иной раз дельные вещи говорит, – зло усмехнулся Григорий. – Недавно он сказал: «Не люблю истории, в которой только истории».
Алексей захохотал.
– Верно! Без женщины какая ж история! – Он подмигнул Шатилову. – Одначе бывают интересные акциденты в истории и без женщин. Вот, к примеру, – он извлёк из кармана сафьяновый бумажник и вынул аккуратно сложенный листок: – попали к нам в руки, – уж не спрашивайте, как, – письма Петра Фёдоровича, то-бишь нынешнего императора всероссийского, к королю прусскому. И вот, извольте послушать: «Могу вас уверить, что не искал и не буду искать дружбы, помимо вашей». Это в марте писалось; через два месяца после того, как Пётр Фёдорович сел на престол своего великого тёзки. А вот ещё одно, в апреле писано, два месяца назад: «Надеюсь, ваше величество не найдёте ничего, в чём можно было бы увидеть соблюдение моего личного интереса, ибо отнюдь не желаю, чтобы могли сказать, что я предпочёл своё вашему».
Он спрятал аккуратно листок и злобно проговорил:
– И это пишет русский император!
– Или голштинский герцог, – в тон ему отозвался Григорий. – Однако мы приехали.
Карета въехала во двор казармы.
Орловы ведут Шатилова в огромный зал. Ещё на подходе к нему слышны хриплые выкрики:
– Нас, петровскую гвардию, под голштинцев остричь хочет! Раскассировать! Не бывать тому!
– Не бывать! – ревут гвардейцы и стучат палашами. От густых волн табачного дыма и страшного шума у Алексея Никитича в первый момент едва не закружилась голова. Как сквозь сон, видит он Григория Орлова: одним прыжком он вскакивает на стол, расплёскивая вино из бокалов, несколько мгновений молчит, ожидая, чтобы водворилась тишина, и медным голосом, покрывшим все звуки, гремит:
– А коли не любо вам, то надо, чтобы на престоле святой Руси сидел не Пётр Голштинский, а матушка Екатерина.
Всё смолкло. Офицеры старались не глядеть друг на друга. А Орлов не давал опомниться:
– Государыне известно, в каком положении очутилась гвардия. Она поручила мне сказать, что готова последнее разделить с гвардейцами, а пока передала из личных средств восемь тысяч рублей для раздачи между теми, кто нужду в деньгах ощущает.
Конец его речи потонул в новом вихре кликов. Орлов соскочил со стола и стал совать без счёта деньги в тянувшиеся отовсюду руки. Иногда он на секунду задерживался, пристально смотрел в глаза подошедшему и добавлял к первой пригоршне вторую. Деньги эти были из тех, которые удалось занять Екатерине у англичанина Фельтена: англичане считали, что ослабление прусского влияния в России будет достаточной компенсацией за этот заем.
– Тише! Гудович приехал! – крикнул вбежавший офицер. Шум сразу стих. Пряча деньги, гвардейцы расходились по углам.
Алексей Орлов шепнул Шатилову:
– Дозвольте, сударь, я вас провожу до кареты. Не гоже, чтобы вас здесь сейчас Гудович увидел.
Когда кучер уже подобрал вожжи и лошади, прядя ушами, в нетерпении перебирали ногами, Орлов просунул голову в окно кареты:
– Так что передать матушке Екатерине Алексеевне? Она поручила спросить у вас: готовы ли вы служить ей, как однажды ей обещать изволили?
Алексей Никитич с минуту колебался. Но тут же он припомнил: неожиданный мир с Пруссией, такой нелепый и обидный, онемечивание армии, подобострастные письма Петра Фёдоровича прусскому королю… Нет! Всё, только не это! Та женщина в боскете с книгой на коленях – лучше.
– Передайте государыне, что я готов служить ей, – сказал он твёрдо.
Орлов будто сгинул в темноте. Кучер ударил по лошадям, и карета понеслась.