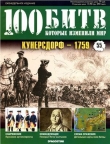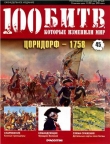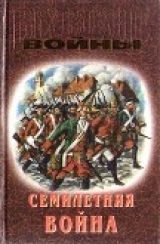
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
Глава II
ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ
Абоский договор сделал Петра Румянцева не только полковником, но и графом, ибо главный его дипломатический виновник – Александр Иванович Румянцев – был пожалован графским достоинством по нисходящей, то есть со всем своим потомством, с девизом по латыни «Non solum armis», что означало «Не только оружием».
Несмотря на резкое изменение своего положения, полковник граф Румянцев продолжал эпатировать столицу молодецкими выходками – как до этого Берлин, Выборг, Гельсингфорс. Как-то раз Елизавета Петровна, узнав об очередной проделке младшего Румянцева, отправила его к отцу для примерного наказания. Тот приказал подать розог.
– Да ведь я – полковник!
– Знаю и уважаю твой мундир, но ему ничего не сделается: я буду наказывать не полковника, но сына.
– Батюшка, раньше вы так не поступали.
Верно, – вздохнул отец. – И теперь об этом жалею ежедневно и еженощно. Верно говорится: «Любя и потакая чаду своему, мы его губим». Если бы я это делал своевременно – разве ты позорил бы сейчас мои седины? Воистину ты – как притча во языцех. Уже дня не пройдёт, чтоб императрица не поинтересовалась, что ты ещё учудил? Но лучше поздно, чем никогда. Прошу! – и сделал по направлению лавки широкий приглашающий жест.
Свист розог, осторожное кряхтение. Наконец полковник, почёсываясь, встаёт.
– Благодарю, батюшка, за науку.
– Не за что, сынок. Всегда готов поделиться с тобой всем, что имею и знаю. Пшёл вон.
Вскоре после сего вразумления Пётр Румянцев получил под своё командование Воронежский пехотный полк...
Об этом-то и думал сейчас атлетического сложения полковник, развалившийся в блестящем мундире и с чубуком в руках на просторном диване. Что скоро волей-неволей придётся покинуть блестящую столицу и окунуться во все прелести гарнизонной провинциальной жизни, которых он лишь краем хлебнул в шведскую кампанию, но казалось, что сыт ими уже навсегда. А тут ведь будешь фактически одним из главных воинских начальников в городе! Сколько глаз вокруг, сколько доброхотов извещать о каждом твоём шаге! Б-р-р! Ужас! В полном смысле этого слова – ужас. А, плевать. Хоть день – да наш!
– Ванька, карету!
И, бросив трубку на пол, вышел из комнаты. Карета – у подъезда. «Ну, что ж, посмотрим, каковы в Петербурге комедии. А то только сам их учинять успеваешь, а как другие представляют – всё повидать недосуг».
Но тихое и мирное посещение театра – как поначалу планировал – не получилось и на этот раз. И чёрт его дёрнул усмотреть что-то не совсем обычное у ординарнейшего унтер-офицера, пытавшегося перед ним прошмыгнуть в дверь! То ли отсутствие чинопочитания, больно задевшее ещё молодое самолюбие, то ли что-то в выражении лица или походке. Словом, вмешался.
– Унтер, ко мне!
А тот, вместо того, чтобы чётко подойти, да объяснить: так, мол, и так, ваше высокоблагородие, шёл от друзей задумавшись, простите покорнейше, более ни в жизнь не повторится – вдруг в бега.
Тут уже иная комедия. Забыв о желаемой самому себе тихости – бегом за ним. Унтер – от Румянцева. На ходу вырывая шпагу, полковник вопил:
– Караул!
Унтер, сунувшийся было туда, куда направлялся, заметил пристальный интерес к нему уже и прочих военных, бывших внутри, и дёрнул по улице. Но, голубчик, далеко не ушёл. И оказался полковник Румянцев прав; никакой это не унтер-офицер, а английского посла скороход, невесть зачем в мундир российский влезший.
Скорохода отправили обратно к его послу. А следом двинулся и Румянцев, не желая бросать дело на полдороге: комедия, естественно, побоку. Вот она, подлинная-то комедия!
– Господин посол, честь имею представиться, полковник граф Румянцев!
– Чем обязан, господин полковник?
– Мною с помощью караула был задержан ваш скороход...
– Вами? Английский скороход? Это оскорбление флагу!
– Простите, господин посол, я не докончил. Я бы хотел объяснить вам всё и уяснить для себя, почему английский скороход...
– Вот именно, почему английский скороход задерживается русским полковником! Извините, сударь, я вынужден прекратить с вами беседу! Мне нанесена обида, о чём и будет доложено мною Её Императорскому Величеству. Честь имею!
Ошеломлённый экспансивностью флегматичного – как он знал – англичанина, Румянцев вышел вон, бормоча: «Честь имею! Дурак! Хотя дурак-то это я. И чего полез?» От огорчения, приехав домой, завалился в кровать. Но скоро его разбудили – звал отец. И опять – свидание с английским послом, который на этот раз – сама любезность.
– Пётр Александрович, я уже переговорил с вашим батюшкой и поблагодарил его за воспитание такого примерного сына...
Александр Иванович хмыкнул, Пётр Александрович хлопнул глазами.
– Ваши проницательность и бдительность достойны всяческого уважения и свидетельствуют, что, несмотря на свою молодость, мундир ваш вы носите по праву. Мы провели расследование сего прискорбного случая, и я прошу прощения за свою резкость и приношу вам благодарность за то, что вы распорядились своевременно прислать ко мне нашего сотрудника. Я надеюсь, что это незначительное происшествие останется между нами, в противном случае нам придётся объяснять, из каких соображений наш сотрудник надел российский мундир. А все эти публичные выяснения и объяснения. Вы знаете.
– Охотно принимаю ваши извинения, господин посол. Особливо, ежели до меня принял их батюшка.
– О да!
– Вы понимаете, что была задета не только честь мундира, но и честь моего имени.
– Увы!
– Но теперь всё забыто, господин посол. Но всё же позвольте один вопрос.
– Сколько угодно, граф.
– Зачем вашему скороходу сие понадобилось?
– Увы, он и сам затрудняется с ответом. И лишь запах портера, исходящий от него, может служить путеводной нитью.
– A-а, тогда понятно. Счастлив был познакомиться, господин посол!
– Взаимно, господин полковник! Разрешите откланяться, господа!
Румянцевы захохотали, когда за послом ещё закрывалась дверь.
И вот смехи эти в прошлом – иногда кажется в таком далёком, как будто в прошлой жизни, а ныне командир Воронежского полка весь в делах и заботах. Только что он вернулся из Орла, где участвовал в работе следственной комиссии по делу о беспорядках. Насмотрелся всего: и нищеты, и отчаяния, и пыток. А теперь вот, извольте, новая работа, и хоть и личная, а всё одно – докука. Отец всё считает его маленьким – хочет пристроить получше. Теперь вот надумал женить. И ладно бы только он. А то и императрица, запомнившая его, тоже желает ему счастия. Счастия, какое видится им самим. Он вновь взялся за письмо отца: «Такой богатой и доброй девки едва найтить будет можно... Её богатее сыскать трудно. За ней более двух тысяч душ, и не знаю не будет ли трёх! Двор Московский... каменный великий дом в Петербурге... Конский завод и всякий домашний скарб».
Разумеется, он помнил эту сейчас намечаемую невесту. Дочь Артемия Волынского Мария, действительно, считалась богатейшей невестой России. Елизавета Петровна вернула ей всё конфискованное у её отца и ещё добавила от себя. И девушка ничего – симпатичная, спокойная. Но не лежит у него к ней сердце! До сих пор – после всех его похождений – он с закрытыми глазами может вообразить себе лишь одну – ту девочку Катю Голицыну, которая в доме опального верховника Дмитрия Михайловича Голицына угощала их с отцом чаем. Сколько лет прошло, а он всё помнит. И решив для себя, что жениться он будет только по любви, Румянцев не поехал на смотрины в Петербург, и дело на этом и прекратилось.
А вскоре полк Румянцева перевели в Москву...
Знать в основном вся была в Петербурге – поближе к трону, живущих в Москве было не так уж и много, и поэтому нет ничего удивительного, что Пётр Румянцев скоро перезнакомился с большинством из них. А кое с кем он уже и был знаком.
– Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Вы помните меня?
– Конечно, я поила вас чаем. Дядя был ещё жив...
– Мир его праху. Я до сих пор помню вкус этого чая.
– Да? А мне тогда показалось, что вы пьёте лишь из вежливости.
– Нет. Просто я отвлекался.
– Да, разговор с дядей – вы с вашим батюшкой тогда долго у него пробыли...
– Не только. Екатерина Михайловна...
– А что же ещё? Дорога?
– И это тоже. И снова не всё. Мне запомнилась тогда и девочка – хозяйка в доме.
– Полно вам, Пётр Александрович! У нас хоть и не столица, но кое о чём мы также наслышаны.
– Не смею отрицать. Но ведь вы знаете тогда и то, что это были планы Её Величества и отца. Я здесь не при чём.
– Мы наслышаны не только о Волынской.
– Ах, ну да. О чём же ещё говорить, если не мыть кости ближним и дальним, знакомым и незнакомым!
– Особенно когда они этого заслуживают!
– Вы улыбаетесь? Слава богу. Больше всего мне не хочется именно в ваших глазах предстать чудовищем.
– Что вам до моего мнения? Сегодня вы здесь, а завтра – уже нет.
– Я хотел бы возвращаться сюда всегда.
– Вот как? И это вы всерьёз?
– Совершенно серьёзно, Екатерина Михайловна.
– Знаете, Пётр Александрович, то место, где тебя ждут, должно быть единственным местом, а не очередным. Только в этом случае можно надеяться, что двери для тебя будут открыты, очаг – гореть, а стол – накрыт.
– Знаю, Екатерина Михайловна. Наверное, это и есть счастье.
Через год – в 1748 году – они поженились. И в этом же году полк Румянцева во главе со своим командиром в составе корпуса Репнина принял участие в походе на Рейн – в поддержку недавно вступившей на австрийский престол императрице Марии-Терезии. Русский корпус, появившись в Европе, подкрепил права австрийской императрицы и добился временного замирения в центре Европы.
Вскоре по возвращении из похода его отец, генерал-аншеф и кавалер Александр Иванович Румянцев скончался.
Отныне он оставался единственным мужчиной в семье. Время беспечной юности минуло навсегда.
Это сказалось и на его службе. Раньше плывший, в общем-то, по течению, он теперь всерьёз увлёкся военной наукой, постепенно вспоминая когда-то прочитанное, увиданное, услышанное. Обдумывая и анализируя это. Доставал и новые книги. И скоро уже с чёткой уверенностью осознания говорил офицерам:
– Господа, приверженцы господствующей сейчас линейной тактики не учитывают, что победа лишь в редчайшем случае – если брать сражения всех великих – достигается мерным сосредоточением в нужное время в нужном месте подавляющего преимущества. Медленное движение пехоты и кавалерии не в силах дать этого. Особенно – при построении в линии. Колонны более мобильны и компактны, а стало быть, более страшны неприятелю, поскольку позволяют нанести неожиданный удар.
Теперь о холодном оружии. Конечно, я не ратую безоговорочно за седую старину и признаю роль огненного боя, но лишь когда сие оружие в надёжных руках, в умелых. Пальба впустую бессмысленна и опасна, ибо противник, побывав под нашими залпами и не понеся потерь, лишь разъярится, наши же солдаты, произведя пальбу и не видя её результатов, упадут духом. Другое дело – массированный удар холодным оружием. Дело офицеров при этом – не дать солдатам дрогнуть в первый момент, далее же – священное очищение боем, его азарт сами сделают всё необходимое.
Это было непривычно, хотя и не так уж и сложно. Это почти лежало на поверхности, и кажется, что ты сам мог бы до всего этого додуматься – но лишь тогда, когда первый, поднявший это, растолкует тебе. Кто-то принимал правоту Румянцева, но многие – и нет. Семилетняя война убедила маловеров.
Граф Алексей Григорьевич Разумовский приоткрыл один глаз и хрипловатым голосом произнёс:
– Ну-ка, говори, что ты там нашкребал.
– Ваше сиятельство, – торопко начал секретарь, – осмелюсь напомнить, что сии слова вы сами мне продиктовать давеча изволили.
– Да не части, хлопче, не части. Делай шо говорять. Сказано тебе, так повтори. А шо я тоби говорил, то я и так знаю. Память кой-какая ещё есть.
– Начинать, ваше сиятельство?
– Давно уж пора. Слухаю.
– Ваше Императорское Величество! Государыня! Ты можешь сделать из меня кого хочешь, но ты никогда не сделаешь того, что меня примут всерьёз, хотя бы как простого поручика». Всё, ваше сиятельство!
– Добре. Запечатай и отправь. И дай мне булаву.
– Жезл, ваше сиятельство.
– Ну, нехай жезл. Дай сюда и ступай вон. Воли много берёшь, советник. Смотри, этим жезлом и попотчую.
Секретарь, зная нрав графа, исчез, приседая и кланяясь, в минуту.
Разумовский взял в руки жезл и начал его вертеть в больших, красивой лепки руках. Его смуглое выразительное лицо было задумчивым и печальным. Он тихонько насвистывал протяжную украинскую мелодию, а жезл поблескивал перед его глазами своими украшениями и гранями. Фельдмаршальский жезл. Итак, с оного 1756-го года он граф Разумовский – фельдмаршал. Граф и фельдмаршал усмехнулся, взгляд его затуманился. Он вспомнил. Последнее время он воспоминал всё чаще...
Маленькую деревенскую церковь в Лемехах, что на Украйне, казалось, до основания сотрясал могучий бас. Местные, уже давно привыкшие к нему, только одобрительно кивали в наиболее, на их взгляд, удачных местах, новый же здесь человек – полковник Фёдор Степанович Вишневский, возвращавшийся из Венгрии в Петербург, куда он ездил по серьёзному государственному делу – закупал для императрицы Анны Ивановны любимое венгерское вино – был поражён. Он не поленился выяснить, кто же так поёт. Оказалось – молодой крестьянин Алексей, имевший по отцу кличку Разум, поскольку тог любил повторять о себе: «Что за голова, что за разум!» Оправдывая семейное прозвище, Алексей быстро согласился поехать в столицу и стать певчим императорского двора. Услыхавшая его принцесса Елизавета Петровна настояла, чтобы певца уступили ей. Вскоре Алексей потерял голос и сделался бандуристом. И скоро, показав и здесь себя с наилучшей стороны, он стал управляющим одного из поместий принцессы, а потом и всего её не очень обширного хозяйства.
После возведения Елизаветы Петровны на Российский престол Разумовский начал быстро повышаться в чинах. В конце 1742 года произошло ещё одно событие, о котором даже и присниться не могло молодому казаку, трясущемуся в лёгкой кибитке в сопровождении Вишневского на пути к Петербургу, к славе, богатству и почестям – в деревенской церкви в Перове, недалеко от Москвы, он тайно обвенчался с императрицей. А через два года император Австрии пожаловал его графом Священной Империи, приписав ему в этом дипломе княжеское происхождение. Разумовский первым высмеял наличие таких предков у себя, но императрице перечить не стал, и на Руси появился новый граф, в детстве пасший коров и любивший играть на сопелке.
Брак так и остался тайной, поскольку почти одновременно с ним – в ноябре месяце – был опубликован манифест Елизаветы, провозглашавший голштинского герцога Карла Петра Ульриха, сына своей сестры Анны Петровны, великим князем и своим наследником. Это была гарантия силам, возведшим её на престол, что она не изменит тому умонастроению, наличие которого у неё и побудило участников дворцового переворота поддержать её в решающую ночь.
Это было подтверждение её лояльности лейб-компании – той роте Преображенского полка, которая поддержала её в ночь с 25 на 26 ноября 1741 года. Они стали личной гвардией императрицы Елизаветы, которой позволялось всё. Они поссорились с князем Черкасским, великим канцлером, когда им показалось, что он плохо исполняет их всё более возрастающие требования. Компанейцам попытались объяснить, на какого важного барина они дерзают напасть, на что ходатаям канцлера было отвечено:
– Он важный барин, пока нам заблагорассудится!
Елизавета подписала указ, предписывающий чеканить на оборотной стороне рубля фигуру гренадера. Когда в 1748 году одного из наиболее приближённых к императрице людей – Петра Шувалова высокопоставленные военные попросили ускорить решение ряда больших и сложных вопросов, он меланхолично ответил:
– Я занят делами лейб-компании. Лейб-компанейцы прежде всего. Таков указ императрицы!
Они были её опорой... В этом сказывались элементы патриархальности – Елизавета, как и Анна, были по сути своей барыни-помещицы, не отличавшиеся большим государственным умом и не желающие понимать, что подобное протежирование сил, позволяющих удерживаться на плаву, некоторым образом роняет достоинство власти. Как барыня она подбирала себе людей или лично преданных (лейб-компания), или просто приятных (таковы фавориты). Но монарх должен обладать – если не обладает государственным разумом – хотя бы государственным инстинктом, иначе ему не удержаться у кормила власти. И как следствие этого, императрица должна была себе подбирать людей, способных оказать ей помощь в управлении страной.
Выбор не всегда был удачен, – людей, готовых решать державные дела, иногда просто не хватало – бироновщина дала свои плоды, но это происходило не по злой воле Елизаветы. Она гордилась Россией и любила её, несмотря на все испытания, выпадавшие стране. Могущество российской державы в эти годы, несмотря на ряд обстоятельств, могущих привести её к гибели. Именно в эти годы произрастала целая плеяда людей, принёсших в дальнейшем славу отечеству.
Но Елизавета Петровна не была в полном смысле этого слова правителем. Самодержица – да. Когда при ней произнесли титул великого канцлера, она сказала: – В моём государстве великими являются только я и великий князь. Да и тот только призрак.
Но государственным человеком она не была. Она действовала, скорее, поддаваясь эмоциям, иллюзиям и воспоминаниям.
Преклонение её перед памятью отца доходило до такой степени, что некоторые свои письма она подписывала «Михайлова», поскольку Пётр в своих заграничных путешествиях имел псевдоним «Михайлов».
Буквально через несколько недель после восшествия Елизаветы кабинет министров, образованный во времена Анны Ивановны, был упразднён и первенствующее место в делах управления государством снова занял Сенат, «как при Петре Великом». Но уже на следующий год кабинет был восстановлен, значение же и роль коллегии постепенно, но неуклонно падали.
Зато на протяжении всего царствования влиятельную силу, как своеобразное дополнение и своеобразный противовес официальным органам государственной властью, наряду с фаворитами и лейб-кампанией, представлял и особый женский кружок, попасть в который считалось великой честью, – занимавшийся чесанием императрициных пяток на сон грядущий. Кроме этого, они ещё и нашёптывали что-нибудь императрице, чтобы та не скучала, нашёптывали то, о чём их просили лица, принадлежащие к сфере политической. И часто эти ночные нашёптывания трансформировались в дневные указы и рескрипты...
Такая же простота нравов царила и в развлечениях Елизаветы.
Любила поездки на природу, обеды в летних палатках, прогулки верхом и охоту. Между прогулкой и охотой, собрав своих фрейлин, она любила поводить с ними на лужайке хороводы. Утомившись, приказывала:
– Девки, пойте!
После пения – лёгкий сон в тенёчке на специально раскинутом ковре. Одна из девок отгоняла мух, остальные стояли рядом, чуть дыша, если кто начинал болтать, в него летел Елизаветин башмак.
Были любимы и дальние поездки. Периодически на несколько месяцев она переезжала из Петербурга в Москву. Петербург пустел, сенат, синод, коллегии – иностранная и военная, казна, дворцовая канцелярия, почтовое бюро, вся дворцовая и конюшенная прислуга должны были её сопровождать. На всё это требовалось до 19 000 лошадей.
Особое благоволение высказывалось к быстрой езде: в карету императрицы впрягали дюжину лошадей и пускали их вскачь. Рядом бежала полная запасная упряжка, и как только одна из лошадей падала, её сразу же заменяли. В 1744 году было предпринято путешествие в Киев. Старшина, желая поразить грандиозностью своего уважения и щегольнуть богатством, потребовал 400 коней. Алексей Разумовский, рассмеявшись, покровительственно похлопал по плечу отставшего от жизни провинциала:
– Надо в пять раз больше!
Вся эта роскошь – императрица имела несколько тысяч платьев, обычно надевавшихся раз в жизни – помноженная на мотовство ближнего и дальнего окружения императрицы, тяжким бременем ложилась на плечи простого народа, прежде всего крестьян.
Сенат в середине 1750 года доложил императрице, что средний доход последних пяти лет – не считая подушной подати и некоторых других видов пополнения государственной казны – где-то около четырёх миллионов, тогда как средний расход более четырёх с половиной миллионов. Ещё в 1742 году прусский посланник в России извещал своего короля, что «все кассы исчерпаны. Офицеры десять месяцев уже не получали жалованья. Адмиралтейство нуждается в 5000 рублей и не имеет ни одной копейки». Правда, справедливости ради, следует заметить, что хронологически подобное положение дел следовало пока прежде всего инкриминировать Анне Ивановне и Бирону с сотоварищами...
Всегда прослеживалась прямая связь: с ухудшением условий жизни народа растёт его сопротивление, периодически начинающее приобретать открытые и явные формы и соответственно этому ужесточаются показания, при помощи которых монархи стараются сбить волну народного протеста. На всём протяжении XVIII века наказания ужесточались, и к моменту воцарения Елизаветы они были весьма и весьма суровы. С жизнью подданных не церемонились – главное было дать наглядный пример всем остальным потенциальным бунтовщикам. Время было жестокое, палачи работали не покладая рук. А Елизавета начала с того, что уничтожила смертную казнь. Не юридически, так фактически, ибо за годы её царствования ни один политический или уголовный преступник не был казнён.
В это же время были запрещены и пытки при проведении множества процессов – и нет им числа! – вызванных возмущениями крестьян.
Но осознавая свои обязанности в защите собственных прав и прав всех тех, кто владел в стране землёю, дворцами, крестьянами, лавками с товаром и хорошими деньгами, она, следуя традиции своих царственных предшественников, отнюдь не отменила наказания кнутом.
Что же такое кнут, лучше всего станет понятно из указа отнюдь недобропорядочной императрицы Анны. В нём предписывалось в некоторых случаях наказания заменять кнут розгами, «дабы виновные остались годными для военной службы». Некоторые палачи-умельцы с нескольких ударов могли убить человека, а единым – перерубали деревянную лавку.
В 1748 году граф Брюс, назначенный императрицей комендантом Москвы, резко возражал против ограничения количества ударов, непосильных наказуемым кнутом. Пятьдесят ударов, кои предписывал наносить закон, ему казались очень незначительными.
– Но, ваше сиятельство, – пробовали возражать ему, – ведь нанесение более пятидесяти ударов – это значит убить виновного!
– Ну и что же? Ведь речь идёт о замене смертной казни...
А кнут присуждался иногда за весьма малое, как было с одним купцом, осмелившимся взять за фунт соли пять копеек при установленной цене 4 5/8.
Бирон в предшествующие годы знал, что говорил, когда заметил: «Россией можно управлять лишь кнутом и кровью!» Менялось многое, неизменными оставались интересы сословия.
Первые годы правления Елизаветы Петровны – после заключения Абоского мирного договора – прошли для России без войн. Поход на Рейн – лишь незначительный эпизод, если учесть общеевропейскую обстановку. Но в конце своего правления императрица логикой малозначимого поначалу и в отдельности внешнеэкономических акций подвела страну вплотную к войне, вошедшей в историю под названием Семилетней, которая прекратилась только с её смертью. Именно эта война сделала имя Румянцева одним из наиболее известных в европейских военных кругах и во всём российском обществе.
После окончания войны за Австрийское наследство, в которой русские приняли участие корпусом Репнина, возросшая мощь Пруссии вызывала опасения французского двора, Алексей Бестужев-Рюмин с 1744 года – канцлер, сиречь глава внешней политики России терпеливо внушал Елизавете, постоянно отвлекавшейся от скучных истин, высказываемых канцлером монотонным скрипучим голосом:
– Государь французский Людовик XV никогда не устанет бороться с своим извечным противником – Англией за колонии, особливо индейские, да и мировое господство уступать не хощет.
– Господи, всё людям неймётся! Нечто земли им не хватает?
– Хватает, Ваше Императорское Величество, но кто же откажется от большего?
– Это точно. Однако при чём же здесь Пруссия?
– После утверждения Марии-Терезии на престоле Англия помогает Пруссии, видя в ней гаранта неприкосновенности своих ганноверских владений – ведь обсюзерены помогают лишь золотом, а не людьми, обычный приём островитян, привыкших таскать каштаны из огня чужими руками. Но Фридриху люди и не нужны – у него и так лучшая армия в Европе. А золото очень кстати. И не поймёшь тут: то ли англичане платят ему, чтобы он защищал их Ганновер от французов, то ли из опасения, как бы пруссак на него не покусился. Дело запутанное.
– Скажи уж лучше политическое.
– Истинно так, матушка-императрица.
– Ну а нам-то с этого какой резон? Я уж изрядно запуталась во всех этих договорах и конвенциях. Как бы нам опять не попасть впросак как в последней войне со шведом.
– Не попадём, Ваше Величество. Позвольте продолжить?
– Ну, давай, продолжай...
– Итак, извольте обратить ваше просвещённое внимание на то, что Франция – в противовес Англии – начала оказывать помощь Габсбургам, желая тем самым заручиться союзником против Фридриха, который рассчитывает на первенство в делах германских – в ущерб Австрии. Исходя из этого Людовик французский и с нами дружбы ищет. Мы же, по моему разумению, должны всецело поддержать идею сего альянса, ибо и для нас король Прусский опаснее всех и является всегдашним и натуральным России неприятелем.
– Пока, канцлер, я так и не поняла почему.
– Его планы о полном подчинении Польши Пруссии и стремление посадить на Курляндский престол брата своего Генриха Гогенцоллерна тому причиной.
– Откуда же? И правда ли?
– Наши агенты европейские передают. Да и посланник французский о том же говорит. Есть и сведения из самой Курляндии...
– Посланник чужеземный нам не указ...
– Всё подтверждается, Ваше Императорское Величество.
– Ну, что ж, значит, пора унять сего предприимчивого государя. Действуйте, Алексей Петрович!
Разговоры на подобные темы велись в кругу, естественно, весьма ограниченном, так что мало кто и думал о возможности войны для России.
Мало думал об этом и Пётр Румянцев. За несколько дней до наступления нового, 1756 года, а именно 25 декабря, ему был пожалован чин генерал-майора. Он получил его через двенадцать лет после предыдущего полковничьего, и теперь мог смело всем смотреть в глаза, не боясь ни усмешки, ни завистливого укора.
– Я, Катя, – говорил он жене, – отныне могу всем сказать: чин свой выслужил, не милостью лиц вышестоящих, не исканиями родных и друзей, а токмо делами своими.
– Да уж. Сколько продвинулось за эти годы, а ты всё в полковниках!
– Ничего, жена. И в тридцать один не страшно ещё в генерал-майорах быть – времени впереди достаточно. Мы ещё своё возьмём. Главный порог пройден: генералы – все на виду, так что зависит токмо от нас. Что заслужим – то и получим.
– Дай-то бог.
– Хотя, конечно, да ведь недаром говорят: бог-то бог, да сам не будь плох!
– Вот и не будь!
– Да уж постараюсь!
– И знаешь, Петя, что. Вот ты сейчас сказал: всё, мол, зависит от меня – что, мол, заслужу, то и получу. Но ведь заслуживать будешь – стало быть, кто-то оценивать будет, а ты ведь бываешь иногда весьма и весьма несдержан, и...
– Не искательствовал, не льстил и впредь не намерен! И это говоришь мне ты, Голицына! Разве ты забыла нашу первую встречу? У кого мы тогда свиделись? Не у твоего ли дяди Дмитрия? Ты и ему бы сказала то, что сказала сейчас мне? Или мне – и только мне – сие можно говорить?
– Прости, я не хотела тебя обидеть. Я хотела как лучше.
– Мы все хотим как лучше. Но не всегда это получается. Все дороги в преисподнюю начинались с благих намерений. Но это, в общем-то, так, к слову. Не будем омрачать Рождества.
– И твоего назначения, дорогой.
– Да уж, праздник к празднику!
Через десять дней был и третий праздник – день рождения, спустя месяц после которого он получил новое назначение – в Ревель, в стоящую там Лифляндскую дивизию. Отбывая по месту службы, Румянцев доносил об оном главнокомандующему генерал-фельцейхместеру Петру Ивановичу Шувалову лаконичным рапортом: «Во исполнение вашего высокографского сиятельства ордера я сего числа к команде в Ревель выступил, о чём вашему высокографскому сиятельству покорнейше доношу». Искательствовать он намерен не был.
Однако на новом месте он пробыл не долго – в воздухе всё отчётливее пахло войной, и Румянцева отозвали назад, в Петербург, откуда он скоро – по получению секретного задания – спешно выехал в Ригу. Ему, наряду с ещё двумя молодыми и перспективными генералами – Василием Долгоруковым и Захаром Чернышёвым, поручалось приступить к созданию отборных боевых частей, традиционно отличавшихся в бою специальной подготовкой и мужеством, – гренадерских полков, набираемых из гренадерских рот пехотных полков.
Это распоряжение было отдано уже новым высшим военным органом – «Конференцией при высочайшем дворе». «Конференция» взяла на себя не только обязанности Высшего военного совета, но и всё руководство внутренней и внешней политикой России. Она занималась разработкой стратегии будущей войны – предполагалось, что непосредственное командование армии в войне с Пруссией будет лишь покорным исполнителем решений «Конференции», – занималась и вопросами комплектования войска, чему и стало следствием новое назначение Петра Румянцева.
Конференция приняла план подготовки к войне армии и флота; Румянцев сформировал Первый Гренадерский полк.
31 июня 1756 года Пётр Шувалов – один из членов «Конференции» – доложил Военной коллегии о маршруте русских войск в Восточную Пруссию. Менее чем через два месяца после этого, видя, что коалиция против него обретает весьма зримые и весьма опасные черты – к союзу России и Австрии примкнули Франция, Саксония и Швеция – Фридрих решил показать всем, что отнюдь не безопасно иметь его своим врагом: он вторгся в Силезию.
Российская армия, растянувшись по западной границе, к непосредственным боевым действиям готова не была. Румянцев возмущался:
– Что за страна такая! Ведь всегда так: уже ведь и пора, и знают все об этом, а пока по башке нам не дадут – ведь и не почешемся!
Его утешали:
– И что вы возмущаетесь, генерал! Сами же сказали: всегда так. Стало быть, не нами заведено, не нам и ломать! А в утешение вам – не одни мы не готовы, союзники наши тоже не больно-то...