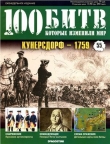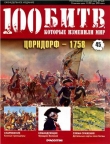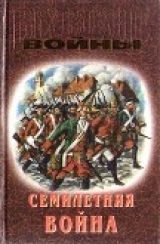
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
Глава V
Итак, назначен был поход за Вислу. Ещё звёзды ярко горели, а я был уже на ногах и готовился в дорогу. Погода была тихая, небо самое ясное, солнце взошло великолепно и так мирно, а между тем впереди грозили все те бедствия, от которых мы обыкновенно просим избавления у Бога. Через час по восхождении солнца я стоял на берегу Вислы.
Откровенно сознаюсь, что сердце моё было растерзано горестью. Поход за Вислу не мог остаться для меня без последствий. Я прощался с родиной, с моей сладкой, едва не исполнившейся надеждой жить тихо и покойно; мне должно было идти на войну, и войну ожесточённую, как надо было ожидать. Поручив себя Богу, я переехал верхом на ту сторону реки.
На походе со мной не случилось ничего особенного, кроме того, что я нажил себе друга в протопопе русской армии и тесно сошёлся с ним. Это был человек средних лет и среднего роста, добрый, чистосердечный и весёлый. Обязанность его была важная: надзор над всеми попами армии, с правом наказывать их телесно, что случалось довольно часто по причине дурного поведения некоторых попов. Протопоп был окружён множеством слуг и подчинённых; домашняя одежда его состояла из чёрного, богатого бархата. Он был очень хорош со мной, и мы всегда езжали рядом, верхами. Кое как говоря по-немецки, он развлекал меня своей весёлостью и учил, как обращаться с русскими, которых я вовсе ещё не знал. Я имел счастье так ему понравиться, что, когда я был уже приходским пастором в Побетене, он навестил меня и дал мне ясно понять, что охотно бы отдал за меня свою дочь. Я верно принял бы это предложение, если бы не имел других намерений.
Наша армия шла на Бромберг, потом на Познань. В Познани мы стали лагерем, и, казалось, на довольно продолжительное время. Я по обыкновению хотел занять квартиру графа Фермора, но её только что занял какой-то русский полковник. Рассказываю это в доказательство порядка, господствовавшего тогда в русской армии. Воротясь в лагерь, я просил генерал-квартирмейстера, который был в полковничьем чине, чтобы мне отвели другую квартиру. “Кто же осмелился занять вашу?” – спросил он гневно, вскочил со своей постели и, не дожидаясь моего ответа, стал надевать полную форму; потом пригласил меня следовать за собой на квартиру Фермора. Там нашли мы полковника, который самовольно в ней расположился, и генерал-квартирмейстер строго спросил его: “Кто вы такой? Разве вы не знаете, что эти комнаты назначены для главнокомандующего и что вы показали неуважение к его особе?” Полковник отвечал, запинаясь, что ему приказано доставить в Торн князя ф. Гацфельда, взятого в плен казаками, что он приехал поздно и не знал, где остановиться и проч. Однако генерал-квартирмейстер не довольствовался извинением, приказал, чтобы квартира была очищена и чтобы полковнику отвели другую. Но так как всех комнат было три, то я предложил уступить приезжему две комнаты, а себе оставлял одну, этим уладил дело и провёл приятно вечер со моим соседом.
На следующее утро явились ко мне выборные из жителей Познани лютеранского исповедания. У них не было ни церкви, ни пастора, и они просили меня проповедовать у них и приобщать Св. Таин. Я не мог согласиться на это предложение, не спросясь главнокомандующего; тот согласился, и я прожил это время очень приятно, навещая больных, приобщая Св. Таин, исполняя другие требы, за что и получал значительные подарки.
Из Познани мы выступили опять в поход по направлению через Ландсберг, что на Варте. Скоро авангард, вместе с артиллерией, пошёл к Кюстрину, а резервы и я с ними несколько дней оставались ещё позади, пока также не получили приказания идти вперёд.
Но я посвящу особую главу нашему пребыванию под Кюстрином, где мне пришлось в первый раз увидеть, что такое война.
Глава VI
В половине августа (1758), в 9 часов утра, я приближался к Кюстрину. Ещё его не видно было за лесом, но поднимавшийся дым и неумолкаемый рёв пушек и мортир уже возвещали мне о страшном бедствии, которого я скоро сделался свидетелем. Кюстрин, этот большой город, горел, и не с одного какого-либо конца, но горел весь. В 5 часов утра Фермор начал бомбардирование; одна из первых бомб попала в сарай с соломой и произвела пожар, кончившийся истреблением города. Между тем пальба с русской стороны не прекращалась. К полудню Кюстрин уже превратился в дымящуюся груду пепла; но, несмотря на то, русские продолжали бомбардирование верно для того, чтобы воспрепятствовать жителям тушить пожар и спасать имущество. (Разрушение Кюстрина, от которого содрогнётся каждое чувствительное сердце, служит, как мне кажется, к оправданию графа Фермора и к опровержению де ла Мессельера, который обвиняет графа в содействии королю прусскому. Рамбах в своём отечественно-историческом сборнике (Taschenbuche), на с. 356, говорит, что система войны графа Фермора состояла в том только, чтобы жечь и грабить. Но он не соображает, что в тогдашних отношениях прусского двора к русскому, главнокомандующий должен был действовать более по инструкциям, нежели следовать внушениям человеколюбия. Эти чувства Фермора мне были хорошо известны, и мне бывало особенно жаль главнокомандующего, когда я видел, как необходимость заставляла его жертвовать высшему интересу благороднейшими побуждениями души своей).
Сотни людей, ища спасения на улицах, погибли от выстрелов или под развалинами домов. Большинство жителей бежало за Одер в предместья и деревни, оставя по сю сторону реки всё своё имущество.
Разрушение Кюстрина было часто описываемо, но для очевидца никакое описание не может быть вернее того, что он сам видел. Известно, что бесчисленное множество жителей, спасаясь в погребах, погибло под их развалинами или задохлось там от дыма и угара.
Граф Фермор снял осаду Кюстрина, когда комендант крепости, фон Шак, отказался сдать её. Это было 21-го августа.
Вскоре после того Фермор получил верные известия о приближении короля и о его намерении перейти Одер. Генерал-лейтенант Куматов (von Kumatoff) тотчас отряжён был к нему навстречу с наблюдательным корпусом. Но это не помешало Фридриху благополучно переправиться через Одер; Куматов просмотрел короля, по чьей вине, не знаю.
24 августа двинулась вся наша армия. К ночи мы достигли окрестностей Цорндорфа, и здесь-то я был свидетелем зрелища, самого страшного в моей жизни.
Глава VII
Надлежало сразиться с Фридрихом. Мы пришли на место боя, выбранное Фермором. Уверяют, будто оно было неудобно для русской армии и будто армия была дурно поставлена. Пусть судят об этом тактики. Беспристрастный же наблюдатель не мог не заместить, что обе стороны имели некоторое право приписывать себе победу, как оно и было действительно.
Расскажу, что было со мной и каковы были мои ощущения.
При всём мужестве, не доставало сил равнодушно ожидать сражения, ибо известно было, как оба войска были озлоблены одно против другого. Разрушение Кюстрина должно было только усилить ожесточение Пруссаков. Действительно, мы после узнали, что король, перед началом сражения, велел не давать пощады ни одному Русскому.
Когда армия пришла на место сражения, солдатам дали непродолжительный роздых и потом, ещё перед полночью, начали устраивать боевой порядок. В это время соединился с нами 10-тысячный русский отряд под начальством генерал-лейтенанта Чернышёва. То был так называемый новый корпус. Таким образом наша армия возросла до 50 000 человек. Известно, что её выстроили огромным четырёхугольником. Посередине, где местность представляла род углубления и поросла редкими деревьями, поставили малый обоз, с младшим штабом (Unterstab), при котором и я находился. Большой обоз находился в расстоянии четверти мили оттуда, в Вагенбурге, с 8000 человек прикрытия.
Мне кажется, что положение обоза было неудобно. Король должен был проходить не в дальнем оттуда расстоянии и мог легко истребить обоз. Таково, кажется, и было вначале его намерение, но не знаю, почему он его не исполнил.
Самая ясная полночь, какую я когда либо запомню, блистала над нами. Но зрелище чистого неба и ясных звёзд не могло меня успокоить: я был полон страха и ожидания. Можно ли меня упрекать в этом? Будучи проповедником мира, я вовсе не был воспитан для войны. “Что-то здесь будет завтра в этот час? – думал я. – Останусь ли я жить или нет? Но сотни людей, которых я знал, и многие друзья мои погибнут наверно; или, может быть, в мучениях, они будут молить Бога о смерти!”
Эти ощущения были так тяжелы, что лучше бы пуля сжалилась надо мной и раздробила моё тело. Но вот подошёл ко мне офицер и сказал растроганным голосом: “Господин пастор! Я и многие мои товарищи желаем теперь из ваших рук приобщиться Св. Таин. Завтра, может быть, нас не будет в живых, и мы хотим примириться с Богом, отдать вам ценные вещи и объявить последнюю нашу волю”.
Взволнованный до глубины души, я поспешил приступить к таинству. Обоз был уложен, палатки не было, и я приобщал их под открытым небом, а барабан служил мне жертвенником. Над нами расстилалось голубое небо, начинавшее светлеть от приближения дня. Никогда так трогательно и, думаю, так назидательно, не совершал я таинства. Молча расстались со мной офицеры; я принял их завещания, дорогие вещи и многих, многих из этих людей видел в последний раз. Они пошли умирать, напутствуемые моим благословением.
Ослабев от сильного душевного волнения, я крепко заснул и спал до тех пор, пока солдаты наши не разбудили меня криками: “Пруссак идёт”. Солнце уже ярко светило; мы вскочили на лошадей, и с высоты холма я увидел приближавшееся к нам прусское войско; оружие его блистало на солнце; зрелище было страшное. Но я был отвлечён от него на несколько мгновений.
Протопоп, окружённый попами и множеством слуг, с хоругвями, ехал верхом по внутренней стороне четырёхугольника и благословлял войско; каждый солдат после благословения вынимал из-за пояса кожаную манерку, пил из неё и громко кричал: “Ура”, готовый встретить неприятеля.
Никогда не забуду я тихого, величественного приближения прусского войска. Я желал бы, чтоб читатель мог живо представить себе ту прекрасную, но страшную минуту, когда прусский строй вдруг развернулся в длинную кривую линию боевого порядка. Даже Русские удивлялись этому невиданному зрелищу, которое, по общему мнению, было торжеством тогдашней тактики великого Фридриха. До нас долетал страшный бой прусских барабанов, но музыки ещё не было слышно. Когда же пруссаки стали подходить ближе, то мы услыхали звуки габоев, игравших известный гимн: Ich bin ja, Herr, in deiner Macht (Господи, я во власти Твоей). Ни слова о том, что я тогда чувствовал; но я думаю, никому не покажется странным, если я скажу, что эта музыка впоследствии, в течение моей долгой жизни, всегда возбуждала во мне самую сильную горесть.
Пока неприятель приближался шумно и торжественно, Русские стояли так неподвижно и тихо, что, казалось, живой души не было между ними. Но вот раздался гром прусских пушек, и я отъехал внутрь четырёхугольника, в своё углубление.
Глава VIII
Казалось, небо и земля разрушались. Страшный рёв пушек и пальба из ружей ужасно усиливались. Густой дым расстилался по всему пространству четырёхугольника, от того места, где производилось нападение. Через несколько часов сделалось уже опасно оставаться в нашем углублении. Пули беспрестанно визжали в воздухе, а скоро стали попадать и в деревья, нас окружавшие; многие из наших влезли на них, чтобы лучше видеть сражение, и мёртвые и раненые падали оттуда к ногам моим. Один молодой человек, родом из Кёнигсберга – я не знаю ни имени его, ни звания, – говорил со мной, отошёл четыре шага, и был тотчас убит пулей в глазах моих. В ту же минуту казак упал с лошади возле меня. Я стоял ни жив ни мёртв, держа за повод мою лошадь, и не знал на что решиться; но скоро я выведен был из этого состояния. Пруссаки прорвали наше каре, и прусские гусары, Малаховского полка, были уже в тылу Русских.
Ждать ли мне было верной смерти, или верного плена на этом месте? Я вскочил на лошадь, бросил всё и поехал в ту часть боевой линии, куда пруссаки ещё не проникли. Русский офицер, стоявший при выходе из четырёхугольника, окликнул меня словами: “Кто ты такой?” Я мог уже порядочно понимать по-русски и отвечал, что я полковой лютеранский пастор. “Куда же чёрт тебя несёт?” – “Я спасаю жизнь свою!” – “Назад; отсюда никто не смеет выехать!” Получив такой ответ, я должен был воротиться на прежнее место.
Только что я доехал туда, как бригадир фон С*** подошёл ко мне и сказал: “Господин пастор, я получил две тяжёлые раны и не могу больше оставаться в строю; прошу вас, поедемте искать удобного места для перевязки”. Я передал ему, как трудно выехать из каре. “Ничего.” И я снова сел на лошадь; бригадир с трудом посажен был на свою, и мы отправились.
Офицер опять не хотел пропускать. “Ступай-ка прежде туда, где я был”, – сказал ему бригадир; но эти слова не помогли. Тогда фон С*** возвысил голос:
“Именем всепресветлейшей нашей государыни, которая заботится о своих раненых слугах, я, бригадир, приказываю тебя пропустить нас”.
Офицер сделал честь при имени государыни, и мы проехали.
Был час пополудни, а битва между тем страшно усиливалась. Мы ехали в толпе народа, оглашаемые криком раненых и умирающих и преследуемые прусскими пулями. При выезде нашем из четырёхугольника пуля попала в казацкий котелок и наделала такого звона, что я чуть совсем не потерялся.
За рядами боевого порядка опасность была не так велика, но многолюдство было то же самое. Через несколько минут мы подъехали к лесу и нашли там раненых и не раненых офицеров с прислугой. Так как прусские разъезды всё ещё были близко, то надо было искать другого, более безопасного места. Но куда ехать? Сторона была незнакомая, карт у нас не было; предстояло ехать наудачу. Один поручик, может быть, самый храбрый из нас, объявил, что он поедет на розыски, и приглашал меня с собой. Я согласился, почувствовав себя несколько бодрее вдали от опасности.
Мы скоро приехали к болоту, поросшему кустарником, где скрывались неприятельские мародёры, которые сделали по нас три выстрела, но не попали. Мы поехали дальше и благополучно прибыли в какую-то деревню, кажется, Цорндорф. Но здесь опять на нас посыпались выстрелы из-за садовых плетней и заставили воротиться.
На месте, где остались наши товарищи, мы не нашли уже никого; только лошади, совсем навьюченные, валялись ещё, покинутые в болоте. Мы нашли своих товарищей недалеко оттуда и соединились с ними, чтоб дальше продолжать наши поиски. Скоро выехали мы на большую дорогу: нам показалось, что она тоже ведёт к Цорндорфу, и, увидав в стороне другую деревню, мы направились к ней. Не видно было ни неприятельских форпостов, ни часовых. Покойно ехали мы вдоль прекрасных заборов, окружавших сады этой деревни, вдруг из узкого прохода, между двух садов, бросилась на нас толпа прусских солдат; они схватили за поводья наших лошадей, объявили нас пленными и привели в деревню...
Иные нравы царили вдалеке от грохота баталий. Небезынтересно обратиться к запискам графа Мессельера (1720—1777), одного из секретарей французского посла при русском дворе маркиза Лопиталя. И хоть воспоминания графа в значительной мере апокрифичны – он спокойно и постоянно путает имена, события, хронологию и не менее спокойно и привычно преувеличивает свою роль, – но они ценны передачей того духа, что царил при дворе, и, наверное, не только русском: интриги как форма существования славно живущих придворных тел:
“Императрица, по возвращении в свой Петербургский летний дворец, приняла г. де Лоапиталя в особой аудиенции, во время которой начала говорить ему с доверием о происках Англии.
Поведение фельдмаршала Апраксина открыло те козни, которых Государыня должна была опасаться; но величие её души внушило ей мысль, что это обстоятельство послужит спасительным предупреждением для тех, которые осмеливались составлять против неё заговоры. Она длила время до такой степени, что была накануне больших опасностей. В этом случае я вспомнил о старой Польке, которая предложила мне в Варшаве свои услуги, и я узнал через неё гнездилище, где приготовлялась революция, имевшая в виду не менее, как свергнуть Елисавету с престола или покуситься на её жизнь. Я узнал, что в то самое время, когда эта Государыня давала при своём дворе приют барону.., жена его председательствовала в Польше в ареопаге, приготовлявшем это событие. Я уведомил о том г. вице-канцлера графа Воронцова, родственника и верного слугу своей Государыни. Он принял все предосторожности, требуемые деликатностью, и убедил её, что надобно было решиться отослать Лондонского посла под тем предлогом, что Английское адмиралтейство не давало ей удовлетворения за обиду, нанесённую Русскому флагу одним Английским капером. Было несомненно, что отсылка Английского посла должна была отнять у заговора главную его пружину.
Императрица на первом случившемся куртаге сказала кавалеру Вильямсу, когда он подходил к ней целовать руку: “Г. Английский посланник, разве Лондон желает иметь всю Европу себе врагом? Ваши каперы не уважали моего флага. Князь Голицын, министр мой при короле Георге, требовал удовлетворения; к моим требованиям оставались глухи. Потому я запрещаю всем моим министрам иметь с вами всякие сношения и приказываю вам лично выехать из Петербурга в течение недели. Да будет так; вы не получите другой прощальной аудиенции”. Глаза тигра не сверкают так, как сверкали они у посла в эту минуту, и легко было отличить его сообщников по страстям, выражавшимся на их лицах. Этот изгнанный министр оттягивал дело, сколько мог. Прежде всего он просился уехать через Швецию; но найдя, что переезд через Ботнический залив невозможен, просил позволения возвратиться в Петербург, чтобы направить свой путь через Лифляндию. Проехавши пятьдесят миль, он объявил, что геморрой мешает ему ехать в карете; он возвратился в Петербург и сел на корабль в Кронштадте, где и должен был ожидать попутного ветра. Он известил, что заболел там лихорадкой и желает возвратиться. Императрица велела сказать ему, что болен ли он или здоров, но что она не хочет более слышать о нём. Наконец, отправившись в путь, с досадой на неудачу своих замыслов, он должен был остановиться в Гамбурге, где у него закружилась голова (?). Елисавета, избавившись от этого злодея, выразила желание, чтобы Французский посол оставил своё жилище и переехал в дом, который занимал Английский посол: дом этот действительно обширнее, красивее и стоит на лучшем месте. Оба эти дома разделяются маленьким каналом, который с того времени стали называть в Петербурге “le pas de Calais”.
Эта минута была очень благоприятна для того, чтобы нанести решительный удар Английскому двору: срок окончания всех его торговых трактатов с Россией наступал, и Англичан уже успели выжить из контор, которые им разрешено было устроить на берегах Каспийского моря. Первым движением Императрицы было предложить Французскому двору все те предметы, которые она хотела отнять у Англии. Это были: строевой лес, пенька, дёготь, мачты, рыбий жир, горчица, мёд, воск, медь, сталь, Украинский табак, Астраханские и Сибирские меха и пр.; всё это шло бы на обмен наших мануфактурных изделий. Англичане не могли бы никогда поправить дела и были бы принуждены к простому каботажу, которым они ограничивают деятельность других наций и Ганзейских городов.
Г-н Вольф, Английский банкир, получил приказание купить гинеями и разными взятками возобновление этих трактатов, если только на то согласятся; но Елисавета настаивала на своём намерении относительно Франции. Вследствие этого послан был курьер (во Францию), который только через три месяца привёз ответ. Ответ не оправдал ожиданий, и легко было заметить, что между Французскими финансистами были пенсионеры Англии. Они уверили главного контролёра, что всё это не могло состояться. Однако доказано, что такое новое условие придало бы новый блеск нашим мануфактурам и освободило бы нас от унизительной зависимости платить Англичанам шестнадцать миллионов за Виргинский табак, что укрепляло за ними преимущество входить в наши порты, даже во время войны, с парламентёром, и ввозить туда шпионов и переодетых офицеров (как это случилось в Ла Рошелле, во время войны в 1760 году). Россия предлагала нам доставлять свои товары через океан или Средиземное море и теми же путями получать наши. Императрица была очень недовольна тем, что мы теряли такую существенную выгоду и согласилась, вследствие нашего отказа, на заключение трактата с Англией, лишь на условии, чтобы срок трактата был трёхлетний, вместо девятилетнего, – в надежде, что Французский двор одумается. Г. де Лопиталь написал письмо, достойное посла – доброго гражданина, к тестю своему г. де Булоню, генерал-контролёру; но подкупленные государственные откупщики (fermiers-generaux) взяли верх и допустили Англичан возобновить прежние их права, которые ныне, более нежели когда-либо, подлежат спору.
Между тем граф де Броль, посланник короля нашего в Варшаве, открыл, что граф Понятовский, Польский министр в Петербурге вредит общему делу Вены и Версаля. Он поручил уговорить супругу дофина, чтобы она убедила короля Польского, своего отца, отозвать г. Понятовского, чего Императрица втайне желала. Вскоре ему был послан приказ оставить свой пост; но буря, которую это произвело при Петербургском молодом дворе, смущаемом интригами канцлера Бестужева, заставила Императрицу притвориться и отложить прощальную аудиенцию, которую она должна была дать Понятовскому. Все Французы были на дурном счету у Их Императорских Высочеств, и ропот их дошёл до Стокгольма и до г. маркиза Д’Авренкура (Французского посланника), который написал по этому случаю г. де Лопиталю очень дельную депешу. Он советовал нашему двору похлопотать о восстановлении на его посту этого Польского вельможи, прибавляя, что ему даже должно предложить перейти в нашу партию, обещая ему двойную субсидию против той, которую ему платит Англия; он присовокуплял, что это лучшее средство успокоить умы и воспользоваться тишиной для открытия всего без огласки. Кардинал де Берни, тогдашний министр иностранных дел, понял все последствия, проистекавшие от принятия мнения г. Д’Авренкура, и его преосвященство немедленно убедил в том короля. Супруга дофина опять написала к своему отцу; этот государь собрал senatus consilium, который послал новую верительную грамоту г. Понятовскому; она была адресована на имя господина Лопиталя, а он предупредил обо всём Императрицу, которая, по-видимому, одобрила такой образ действий.
Причины, восстанавливавшие наш двор против графа Понятовского, препятствовали мне несколько времени с ним видаться. Так как он всё ещё полагал, что ему придётся уехать в Польшу, то заказал Французскому живописцу г. Токе списать с себя портрет, чтобы оставить его Великой Княгине. Наш посол, будучи болен, передал мне новую верительную грамоту, которую выслали ему для вручения этому Посольскому вельможе, и я отправился, чтобы встретиться с ним как бы нечаянно в доме живописца, под предлогом визита г-же Токе. Первая встреча ограничилась простыми учтивостями; но я подал ему знак приблизиться ко мне, и когда мы очутились в конце одной галереи, я сообщил ему о данном мне поручении и объяснил, что у меня в кармане хранится для вручения ему, если он обещается действовать на общую пользу короля Польского, Вены, Франции и России. Я прибавил к тому, что честь быть свойственником королевы Французской, казалось, должна была бы обратить его рвение и его негоциации в пользу нашей партии. Он обещал всё с необыкновенным энтузиазмом и спросил меня, можно ли сообщить о том Великой Княгине; я отвечал ему, что уполномочен согласиться на это и что даже я дам верительную грамоту, чтоб показать её Её Высочеству, под условием, чтобы он пришёл обедать в маленьком кружке с г. послом и со мной, причём мы и условимся между собой обо всех статьях новых его обязательств. Живописец не остался в накладе, ибо это обстоятельство наполнило графа радостью. Всё условленное было выполнено, и сам он, в письме к г. кардиналу де Берни, подтвердил свою живую признательность, с уверениями самыми сильными и с подтверждением своим честным словом.
Эта перемена в участи Польского министра вскоре произвела переворот в нашу пользу и во мнении Великой Княгини, которая с неудовольствием смотрела на Французов по поводу отзыва её друга по вине г. де Броля. Свадьба фрейлины Разумовской с графом Нарышкиным, которой покровительствовала Великая Княгиня, подала ей повод пригласить г. Французского посла на праздники, приготовлявшиеся по этому случаю. Будучи болен, он не мог быть на них с нами; Её Императорское Высочество старалась доказать, насколько она сближается с Французским двором. Она просила меня послать за моей флейтой, и когда её принесли, то пригласила пять или шесть дам, особенно с ней дружных, Великого Князя и графа Понятовского и приказала мне следовать за ней в комнату, отдельную от галереи и других зал, где происходил маскарад, на котором было более трёх сот особ. Она сказала мне: “Я пожелала послушать вас здесь, потому что к превосходству вашего таланта не идёт шум, а я не хочу потерять ни одного звука из того, что вы так хорошо выражаете”. После нескольких арий, которые я старался исполнить как можно лучше, она имела любезность сказать мне, что мне не нужно утомляться и ей не следует употреблять во зло мою услужливость, к которой она ещё не раз прибегнет. Мы возвратились в бальную залу; там разыграли лотерею, и сама Великая Княгиня раздавала некоторые выигрыши; я получил на свою долю великолепный бант для шпаги. Перед ужином вошли пажи, неся серебряные вызолоченные вазы, наполненные маленькими билетами; это было для вынутия жеребьев к ужину, во время коего отменяется этикет, и царственные особы не соблюдают оного. Обыкновенно же стулья нумеруются: 1. 1., 2. 2. и т.д.; кавалер садится возле дамы, имеющей один нумер с ним. Судьба посадила меня по левую, а г. Понятовского по правую руку от Великой Княгини. С другой стороны сидела возле меня царевна Грузинская, говорившая только по-армянски (?). Великая Княгиня сжалилась над моим затруднительным положением и принимала иногда участие в разговоре. Французский метрдотель приказал подать мне несколько превкусных блюд, и моё величественное положение нисколько не помешало моему аппетиту и удовольствию пить очень хорошее Токайское вино. Праздник продолжался до трёх часов по полуночи. Великая Княгиня, прежде чем удалиться, поручила мне передать много любезностей г. де Лопиталю и наговорила их столько же о г. кардинале де Берни.
В течение нескольких дней всё поддерживалось в самом желательном виде; но известия, полученные мной из Польши, доказали, что происки, которые мы считали уничтоженными, возобновились сильнее, чем когда-либо, и что под цветочной поверхностью вырывалась бездна. Англия отозвала из Вены, – чтобы заменить им кавалера Вильямса, – благоразумного, осторожного и ловкого г. Кейта. Мы увидели его вдруг в Петербурге; он очень скоро оживил Англо-прусскую партию и повернул на прежнюю дорогу все интриги, нарушавшие спокойствие и виды Императрицы. Баронесса Скривен, интриганка, которую мне было поручено привлечь в нашу партию посредством доброго количества червонцев, продала мне часть секретов графа Понятовского, которого мы снова увидели агентом Английского двора и действующим тайно по воле графа Бестужева и его сторонников. Граф Воронцов, как верный и почтенный министр, собравший точные сведения обо всём что происходило, замечал скопление бури и счёл за нужное поторопиться предотвращением её. Страсть не рассуждать: Бестужев имел неловкость прервать всякие сношения, даже простой учтивости и приличия, с Французским послом, до такой степени, что этот первый министр ни разу не прислал осведомиться о его превосходительстве, впавшем в очень опасную хроническую болезнь, между тем как Императрица по десяти раз на день посылала к нему самых знатных вельмож своего двора и первого своего медика. Такая разница в поступках канцлера обнаруживала несомненно дух крамолы и партии и наконец вынудила графиню Воронцову приготовить прекрасную душу Государыни к справедливому подозрению, которое она должна была возыметь, и к принятию своевременных предосторожностей. Её Величество, узнавши обо всём, хотела ещё повременить, не желая находить виновных, особенно в лице своего Наследника и его супруги, призванных ею к престолу. Её убедили в том, что нужно было по крайней мере уличить графа Бестужева во всех его предательствах и коварных замыслах, какие он внушал особам, долженствовавшим следовать лишь внушениям нежности, уважения и признательности.
И так дело шло о том, чтобы уловить г-на канцлера в его же сети и побудить собственный его жестокий нрав к саморазоблачению. Следовало не промахнуться, действуя против человека лукавого, злого, неустрашимого и могущественного. Императрица решила, что один из праздничных дней, а именно день восшествия её на престол, подаст повод к тому, чтобы просить г. де Лопиталя, не дожидаясь своего полного выздоровления, явиться к ней для выражения своего почтения. Было очень холодно, но г. посол решился на всё, чтобы ехать ко двору. В прихожей зимнего дворца он почти упал в обморок; но когда он опомнился, г. маркиз де Фужер и я взяли его под руки и повели через многочисленную и блестящую толпу царедворцев к подножию трона Императрицы, которая пошла к нему навстречу с предупредительностью, выражавшей трогательное величие и доброту. Первыми словами её были: «Подать кресла г. послу; он не может стоять». Потом она сказала ему: «Я не хочу, чтобы вы оставались здесь более минуты; вы слишком небрежёте своим драгоценным здоровьем, и я приняла бы без беспокойства и с доверием то почтение, которое ваше сердце выразило бы мне из вашего дома». Г. посол приподнялся с кресел, как бы получивши новую жизнь, и сказал Императрице: «Государыня, какое счастье для меня быть перед вами глашатаем тех чувств, которые король, мой государь, питает к В. В-ву! Ваша великодушная доброта делает Французов лучшими из ваших подданных; счастливы чувствующие цену жизни под вашими законами! Я не могу привыкнуть к мысли, чтобы чувства В. В-ва не воодушевляли всех окружающих вас; я довёл до сведения короля, моего государя, о том, как В. В-во смотрите на союз и новые узы, связующие оба государства; я считаю, Государыня, мои минуты вашими милостями. Послу Франции было бы чрезвычайно приятно, если бы ваш первый министр, граф Бестужев, относился к нему так же, как его Монархиня; но он не подал мне ни малейшего знака жизни с тех пор, как я болен». В эту минуту граф Бестужев, находившийся по обыкновению позади Императрицы, несколько вправо от неё, ринулся как бешеный и чуть не сбил с ног меня и маркиза де Фужера; он вышел со сверкающими глазами, заставлявшими опасаться какой-либо катастрофы на ту же ночь.