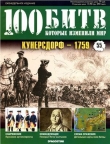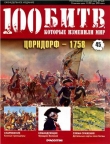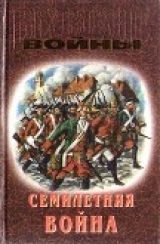
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)
ЭПИЛОГ
Летним днём 1765 года подполковник Шатилов, возвращаясь в Петербург из командировки, проезжал село Новая Ладога. Лошадь его расковалась, и пока денщик отправился разыскивать кузнеца, сам он решил побродить по селу. Посасывая трубку, он, не торопясь, пошёл кривой улицей, заранее зная, что представится сейчас его взору: покосившиеся избы, голопузые ребятишки у крылечек, заросшие репейником дворы, на задворках лужи помоев, в которых барахтаются свиньи, бедность… Но, к его удивлению, ничего этого не оказалось. Избы были прочные, свежепобеленные, дворы подметены, одежда на мужиках целая и довольно чистая. Чем дальше, тем больше он дивился: на площади, на песчаной, сухой почве, был разбит сад. Молодые деревья покачивали ветвями, разносился птичий щебет, в центре был устроен небольшой фонтан. Чуть подалее – обширное каменное здание, на дверях надпись: «Школа».
Шатилов уже не жалел о задержке. Под самым Петербургом этакие чудеса! Кто же сей чародей?
– Бабка, – позвал он полоскавшую в корыте бельё простоволосую крестьянку, – кто это всё здесь устроил?
Крестьянка стыдливо опустила подоткнутый подол юбки.
– А командир наш, – сказала она грудным певучим голосом. – Тут, батюшка, полк стоит, и полковник-то, как есть, обо всём заботу имеет. Здесь что! Ты, батюшка, в лагерь сходи: там не в пример всё красивше.
– Да какой полк?
– Где мне упомнить… Нешто Суздальский…
– А командира как зовут?
– И того не упомню: Суровов, кажись. Только фамилия не к лицу: сам-то добёр да весел.
– Суровов? Постой, постой-ка! Уж не Суворов ли?
– Вот-вот… Я и говорю…
Шатилов уже не слушал. Сколько раз покойный друг его рассказывал ему об этом человеке! А на манёврах, что недавно происходили, полковник Суворов отличился, дважды был упомянут в приказе.
– Служивый! – кликнул он проходившему солдату. – Где командир полка сейчас?
– В штапе, ваш-выс-бродь.
– Проводи-ка меня туда!
Они миновали просторные, заново отстроенные полковые конюшни («И в столице-такие не часто сыщешь») и подошли к штабу. Отпустив солдата, Шатилов вошёл внутрь здания.
– Где полковник Суворов?
– А вон там, в соседней комнате, – вытянулся дежурный. – Прикажете доложить?
– Не нужно, я пройду…
Но, подойдя к двери, он вдруг почувствовал стеснение. Хотел было уже вернуться и послать вестового, как вдруг услыхал взрыв детского смеха. С недоумением прислушался: смех повторился. Он постучался, но, видимо, никто не слышал, – смеялись всё громче. Тогда он решительно нажал ручку.
В большой светлой комнате группа подростков в париках репетировала пьесу. Один, с настоящей шпагой, изображал начальника, другие почтительно выслушивали его приказания. У окна, верхом на стуле, сидел человек, в котором Шатилов сразу признал Суворова. Он был в белых лосинах и белой нижней рубашке. Глаза его искрились весельем.
– Ай да Санечка! Ловко! Славно! – приговаривал он. Вдруг он заметил Шатилова и замолчал. Ребята тоже затихли и во все глаза уставились на вошедшего.
– Простите, если помешал, – сказал, конфузясь, Шатилов и отрекомендовался, добавив, что давно искал случая познакомиться, особливо, будучи наслышан от друга своего Ивонина…
– А… Прекрасный офицер был, – вздохнул Суворов. – Милости прошу! Ну-тко, соколики, на сегодня хватит. К завтрему, чтобы все ролю знали.
Ребята гурьбой ринулись из комнаты, и через минуту под окном раздался их звонкий, законный смех.
– Пьесу ставить надумал с деревенскими детьми, – пояснил Суворов. – Не обессудьте, сударь, что я без мундира: жарко очень… Впрочем, весьма рад, что вы решили навестить меня. Прошу садиться!
Бесцеремонно оглядев Шатилова с ног до головы, он спросил:
– В каком полку изволите служить?
– Ныне в Военной коллегии. По части обучения войск.
– А-а… – Он взял с окна раскрытую книгу. – Вот сочинение графа Тюрпена де Крассе: «Опыт военного искусства». Пётр Иваныч Шувалов перевёл сию книгу с французского языка и хотел обучать по ней офицеров. Ан, проку мало вышло. Шуваловский корпус вовсе себя в прошлой войне осрамил. И первая причина та, что экзерцированием войск особые офицеры занимались, кои никогда в баталиях не участвовали. Меж тем сим делом должны не кабинетные бештимтзагеры[51]51
Бештимтзагеры – одно из суворовских «словечек» – в смысле говорун, хвастун.
[Закрыть], а боевые офицеры ведать: обучение войск неразрывно с руководством ими в бою связано, из этих двух частей военная система состоит.
– Каковы же, по-вашему, суть задачи обучения?
– Это само собой понятно, государь мой: предвосхитить боевую практику, без которой одна теория военная в ноль обращается. Я сам, – он лукаво посмотрел на Шатилова, – после долгой, почётной службы ничего не стою: потому, практики мало, а обучен, как следует, не был.
– С чего же, Александр Васильич, начинать должно?
– Первым делом позаботься о солдатушках. Чтоб каша не токмо сытна, а и вкусна была, да шти наваристы, да котлы поварные хорошо лужены. Будут же люди здоровы, то и к экзерциции пригодны. А к тому же… – Он наклонился к Шатилову и с таинственным видом сказал: – Только так, сударь мой, командира солдатушки уважать станут. Он об них позаботится, они ему уважат. Люби солдат – они тебя любить будут. Вот и вся премудрость.
– А ведь про вас говорят, – улыбнулся Шатилов, – что вы свой полк замучили. По пятьдесят будто вёрст в день гоняете.
Суворов пожал плечами.
– Солдат ученье любит, было б с толком. С пруссаками или австрийцами я и пробовать не стал бы, а наш, русак, и шестьдесят вёрст отмахнёт. И не потому, государь мой, что он столько здоровее, а потому, что хотеть умеет, не боится усталости. Знаете ли вы, какую цель я этими маршами преследую? – Он прищурился и тихо засмеялся. – Не так ноги, как голову солдатушек в виду имею.
– Это как же? – не понял Шатилов.
– А так! На утомительном марше войска привыкают равняться по лучшим, и эта привычка потом в бою сказывается.
Шатилов лихорадочно собирал мысли, стараясь вникнуть в смысл сказанного. Тонкость и глубина расчёта поразили его.
– А ведь правда! Вижу я теперь, сколь мудро вы всё обдумали. – Лицо его вдруг омрачилось. – Но жаль, что навряд Военная коллегия того позаимствовать умудрится.
– Да! Мало батюшка Пётр дубинкой по спинам гулял.
– Дозвольте доложить…
Шатилов обратился к двери. Там стоял, руки по швам, молодцеватый сержант: грудь колесом, в плечах сажень косая, а лицо чем-то странно знакомо. Сержант тоже уставился на него и вдруг шагнул вперёд: «Господин Шатилов!» – но, спохватившись, застыл на месте.
– Эге! Знакомы! – протянул Суворов. – Хотя что же-ведь ты ко мне от Ивонина попал, а значит, подполковнику на глаза попадался. Что, Алефан? Пора уже? Передай, что сейчас выйду, пусть строятся. Вот, господин Шатилов рекомендую: уже сержант, а скоро унтер-офицером будет. И книжки читать любит.
Алефан даже вспотел от волнения. Шатилов подошёл к нему и крепко пожал руку.
В памяти вдруг, как перед утопающим, с удивительной отчётливостью промелькнули картины прошлого: поход к прусской столице, Ивонин, Емковой…
– Мы с ним на Берлин ходили, – сказал он Суворову. – Вот где встретиться привелось.
– Ступай, Алефан, – кивнул Суворов.
Склонив голову на руку, он долго сидел в задумчивости. Шатилов не решался прервать молчание.
– Воевали… Помилуй бог… Высшие начальники почти все плохи были, провиантская часть – негодная, санитарная – тож! Армию в полсилы сделали… И всё-таки победили. Трижды смертно разбили пруссаков, в столице ихней побывали. Что же будет, когда настоящие люди войска поведут? Не Бироном привезённые, золотом вражьим не ослеплённые, а подлинные россияне.
Суворов поднялся и распахнул окно.
– Природа произвела Россию только одну. Вот они – просторы наши бескрайные. Кто измерит их? Так же и дух народа нашего. Незлобив русский человек, погулять, поозоровать любит. Но коли всерьёз случится бороться, помилуй бог! Несдобровать тогда ворогу! Всегда в годину трудную находятся в народе нашем и живительная энергия, и уменье, и самые люди, могущие претворить эти черты в причину победы. В чём другом, если не в этом, был авантаж нашей ослаб лейкой армии над столь слаженным войском Фридерика?.. Неисчислимы резервы наши, не взять их ни измором, ни дерзким налётом. Командиров хороших только надобно, чтобы солдатам-богатырям дать удаль свою выказать.
Глаза его сверкали, он говорил негромко, но Шатилову казалось, что голос его гремит.
Он протянул Шатилову руку.
– Ступайте, подполковник. Статься может, скоро свидимся ещё с вами на полях брани.
Шатилов, не чувствуя под собой ног, вышел от Суворова.
На широком плацу стоял выстроенный в походном порядке полк. В ярких лучах солнца гранёные штыки горели почти ослепительным блеском. Тяжёлое знамя с мерным шелестом стремилось по ветру.
Шатилов отошёл в сторону и встал, очарованный, заворожённый величием зрелища. Появился Суворов в зелёном мундире, стройный, гибкий Как удар грома, прокатилось оглушительное приветствие. Суворов внимательно оглядел полк, что-то сказал окружавшим его офицерам – и махнул рукой. Грянула рассыпчатая медная дробь барабанов, и полк двинулся. Рота за ротой, батальон за батальоном проходили широким, свободным, лёгким шагом и исчезали в светлом мареве сверкающего полудня.
Потом из тысячи грудей полилась песня – с присвистом, с гиком, с безудержной удалью, и слышались в ней раздолье безмерных пространств, где только ветер, да солнце, и неуёмная сила, и сладкая тоска.
Уже давно опустел плац, ускакал вдогонку полку на проворной белой лошадке Суворов, а Шатилов всё стоял, ловя слухом плывшие в прозрачном воздухе родные звуки солдатской песни.
Юрий Лубченков
ПЁТР РУМЯНЦЕВ


РЕТРОСПЕКТИВА ПЕРВАЯ:
МЕЖДУЦАРСТВИЯ
– Извольте познакомиться, Пётр. Это ваш батюшка, – дама величественного вида подтолкнула явно робеющего рослого мальчика к человеку в щедро расшитом золотым позументом камзоле, взглянувшему на сына холодно-весёлыми глазами...
Этот взгляд смутил Петю ещё больше. Он попытался было спрятаться в материнских юбках, но роскошный вельможа ловко поймал его:
– Ну, здравствуй, сын!
– Здравствуйте, – мальчик запнулся и с трудом, шёпотом, – батюшка!
– Молодец! Смотри какой большой. Никак генералом будешь. Хочешь быть генералом?
– Хочу, – прошептал Петя испуганно. Он был готов согласиться со всем, только бы его отпустили в его привычный мир детской. Отец его понял, но продолжал:
– Быть по сему, как говаривал незабвенный Пётр Алексеевич, – жёсткое лицо вельможи внезапно сломала мимолётная судорога, в глазах блеснуло. – Будешь ты генералом.
Но начнёшь с рядовых. Запишу-ка я тебя в Преображенский полк...
Так в 1740 году прошла первая встреча Петра Румянцева с его отцом – чрезвычайным и полномочным послом России в Турции кавалером Александром Ивановичем Румянцевым.
Александр Румянцев был истинным “птенцом гнезда Петрова”, одним из ближайших сподвижников царя-преобразователя. Единственное отличие: большей частью царёвы птенцы были людьми худородными. Александр же принадлежал к “благородному” сословию. Он – из обедневших нижегородских бояр. Солдат гвардии, денщик царя – таковы первые этапы его служебной биографии. Вскоре он становится гвардейским офицером. Девятого мая 1712 года подпоручик гвардии Александр Румянцев доставил Петру I известие о подтверждении мира с турками, который Россия была вынуждена заключить после крайне неудачного Прутского похода. Итогом этого похода стало для России потеря всего того, что большой кровью приобреталось в предшествующие годы. Своевременный же гонец был награждён – Пётр пожаловал ему чин поручика Преображенского полка.
С этого момента он – в фаворе. Письма и указы ему Петром пишутся большей частью собственноручно. Почерк энергичен – видно, что царю недосуг ждать писца, и он сам пишет свои приказания. Пётр посылает Румянцева с самыми разнообразными поручениями – для вербовки матросов и плотников, для сбора налогов и провианта, для разведки дорог и многого другого. Во время второго этапа затянувшейся Северной войны со Швецией, а именно в 1714—1715 годах Пётр в переписке даёт своему корреспонденту конкретные дипломатические поручения: ехать на Аландские острова для переговоров а англичанами, а также разузнать, какие слухи распространяются шведами среди населения Ревеля и Дерпта.
1717 год. Румянцев вызван к Петру. Царь был мрачен. Лицо нервически подёргивалось. Ссутулившись, он ходил из угла в угол по малым своим апартаментам и беспрерывно дымил:
– Слыхал, Сашка, что сынок мой натворил? – не отвечая на приветствия Румянцева, сразу спросил Пётр о том, что его сейчас больше всего мучило.
Румянцев молча кивнул. Все окружающие царя знали, что его старший сын Алексей, сын от давно уже опальной Евдокии Лопухиной, неоднократно выступавший против бескомпромиссного реформаторства отца, подталкиваемый на это ревнителями незыблемой московской патриархальности, бежал за границу.
– Бежал, соплёныш, и попросил защиты у тамошних цесарей! Защиты! От отца родного! Ну, да бог с ним, – как-то сразу потухнув, – продолжал Пётр. – Это бы простил я ему. Но то, что теперь смуте быть в стране, коли он по заграницам сидеть будет, а тут дружки его воду начнут мутить, то что он дело всей моей жизни упразднить хочет – этого я простить не могу.
И сорвавшись на крик:
– Найти его! Вернуть! Понял, зачем вызвал тебя? Всю Европу обшарь, а доставь! Поедешь с Толстым Петром. Ты за ним пригляд имей. Преданный-то он сейчас преданный, да помню я как в стрелецкие-то дни он чернь московскую призывал меня извести. Такое не забудешь. Так что забот у тебя много будет. Да я тебе верю – всё исполнишь как должно. А теперь ступай.
Пётр снова заходил по комнате, уже не видя Румянцева, отступавшего, кланяясь, к дверям...
И Пётр Толстой, и Александр Румянцев не подвели государя, оправдали доверие – Алексей был схвачен, возвращён в Россию и после пыток убит, его сторонники подверглись опалам и казням.
Вскоре в благодарность за усердие и преданность царь самолично занялся – как он это любил – устройством личной жизни Александра Ивановича. Итогом его хлопот стал брак Румянцева с Марией Андреевной Матвеевой – представительницей одной из знаменитых и богатых фамилий России, внучке известного боярина Артамона Матвеева, наперстника отца Петра I – царя Алексея Михайловича. Её отец – Андрей Артамонович, получивший от Петра титул графа – посол России в Голландии, Австрии, Англии, Маленькая Маша сопровождала отца в его европейских службах, смотрела, запоминала. Дожившая до девяноста лет, она и в старости, сохраняя полную память и живость ума, любила рассказывать о первых годах Северной Пальмиры, о людях, живших в те времена, уже начинавшие казаться былинными. Вспоминала она пред благодарными слушателями и об обеде у Людовика XIV, на котором присутствовала, и о своём посещении лагеря герцога Мальборо, и о том внимании, которого она удостоилась в Лондоне от королевы Анны...
Летом 1722 года начался Персидский поход Петра. В 1723 году русские войска заняли Баку и южное побережье Каспия, что облегчило борьбу народов Закавказья за свою независимость. В это время воспользовавшись ослаблением Ирана Турция решила захватить и эти территории. Россия, только что завершившая потребовавшую крайнего напряжения сил кровопролитную Северную войну, не могла оказать действенной помощи народам Закавказья, и была вынуждена пойти в 1724 году на заключение договора с Турцией, по которому признавалось владычество Османской империи над Грузией и Арменией.
В августе 24-го же года Александра Ивановича Румянцева, отца уже двух дочерей – Екатерины и Дарьи – Пётр отправляет чрезвычайным послом в Персию – для определения границ согласно трактату, а оттуда – послом в Стамбул.
Румянцев уезжал, когда Мария Андреевна ждала третьего ребёнка. Последняя воля отца перед дорогой: “Если мальчик – назовите Петром”. И вот сегодня после многих лет службы на далёкой чужбине он впервые увидел своего сына, своё второе “я” – как ему хотелось верить – будущего продолжателя его дел...
Будущий генерал, утомлённый массой новых впечатлений, давно уже спал. А родители его все сидят за полуразорённым праздничным столом, не замечая, что за окном – глухая ночь, что неслышно возникающие за их спинами слуги несколько раз меняли истаявшие свечи. Напряжённая тишина пристально изучающих взглядов сменяется периодическим разговором, темы которого вьются вокруг дел политических годов отсутствия Румянцева в стране. Пока только об этом – они заново привыкают друг к другу.
– ...О смерти государя я узнал из писем и указов преемницы его и супруги – императрицы Екатерины I. И удивительно: она при этом лишь мимоходом касалась переговоров с султаном – ради которых я и был направлен императором в Стамбул – зато подробно писала, каких для неё купить духов и какой привезти шатёр. И это затишье... Раньше – что ни неделя, то весточка от государя: что там, да как в России, да что мне, исходя из этого, делать. А тут – ничего...
– А мне неудивительно! Тебе она приказала купить ей духов, а другие послы получили иные задания: одних венгерских вин по её приказу закупили на семьсот тысяч рублей, да данцигских устриц – на шестнадцать тысяч! Жили весело. И сама покойница – царство ей небесное – активно вкушала все радости бытия земного, и остальные не отставали.
Как ты помнишь, Александр Иванович, императрицу нашу супруг приучил к такой жизни, а особливо к зелью веселящему – чтоб не расставаться с ней даже в компаниях, которые так любил. Вот и довеселились!
– Не смей так об императоре!
– Смею. Ты моё отношение к нему знаешь. Пока тебя дома не было, оно не изменилось. Так что говорю, что думаю, несмотря на все его заслуги...
– Не всегда говори, что думаешь, матушка. Иногда и не грех подумать, что говоришь. А отношение твоё к Петру Алексеевичу знаю! Знаю, что не можешь простить ему: ты внучка и дочь самих Матвеевых по его воле вышла замуж за денщика! Хоть и царского.
– Замолчи. Мы же договорились уже давно не касаться этой темы. И ты знаешь, что ты не прав. Так я продолжу? Или тебе уже стало не интересно?
Продолжай, пожалуйста, Марья Андреевна. И прости меня – одичал там, на чужбине...– Хорошо, прощаю. Так вот...
Александр Иванович с прежним вниманием стал слушать свою супругу. Всё, что она сейчас говорила, было правдой, и заспорил он с ней больше по привычке, привычке не рассуждать о делах Петра I, а лишь исполнять его волю, ощущая радость духовного единения с самим великим императором. Только в последнее время, избавившись волею судеб от обаяния, вносимого царём-преобразователем во все свои деяния, начал Румянцев задумываться – что же был за человек, за которого он, не задумываясь, отдал бы свою жизнь. Начал задумываться: не является ли все происходящее ныне следствием предшествующего.
Когда он ещё сидел в Стамбуле, до него доходили зыбкие, размытые слухи о делах российских – приезжавшие по своим делам и по делам державным на берега Босфора люди, по обязанности или по сердечному влечению на чужбине искать своих земляков, – приходили к нему и осторожно, полунамёком-полуобиняком давали понять, что неладно что-то – да и не что-то, а многое в их родном царстве-государстве. Даже здесь – удивлялся Румянцев – говорилось шёпотом, с опаскою! Даже черти-де опасаются доноса и кар! Но прибыв в любезное сердцу Отечество, повстречавшись кое с кем из прежних своих друзей-приятелей и просто хороших знакомых, вместе с Петром активно строивших Империю, он увидел, что мало их осталось – ранняя смерть (не всегда по болезни), опалы, ссылки, – а те, кто ещё уцелел, были очень осторожны. Приучились держать язык за зубами. Сегодня ты по глупой злобе, али из высокомерия мерзкого ляпнешь про какую-нибудь персону нечто непотребное, а назавтра глядишь – она уже в фаворе, попала в случай! А тебя – болезного – в застенок! И хорошо, если только кнута попробуешь и, почёсываясь, домой пойдёшь... А то ведь можно и языка, и ноздрей, а то и головы лишиться за блуд словесный. Так что бережёного бог бережёт. И обуяло страну безмолвие. Когда все слушают токмо начальство и головой качают – только одобрительно.
И всё же Румянцев составил для себя в общем и целом картину того, чем же и как, кем и под кем – недаром всё же дипломат был наиопытнейший, с азиатскими хитроумными владыками договора заключал – жила Россия за годы его отсутствия, и теперь поражался некоторым репликам супруги больше опять по той же привычке дипломатической – нигде не выдавать своих знаний: пусть любезная Мария Андреевна – без прерываний, а лишь с подстёгиваниями и поощрениями нашими – расскажет всё, что знает. Авось-де и проскочит весточка-знаньице доселе им не узнанные. Пусть человеком зело в политике сведующим себя повоображает. Это дело доброе – быстрее после разлуки сойдёмся. Сейчас главное – это. На первый раз да ради такого случая можно ей любовь к политике позволить.
Поэтому, тая тёплую усмешку в прищуренных глазах, Александр Иванович с удовольствием внимал своей красавице-жене, ахая и поражённо качая головой, гневно хмуря брови и возмущённо всплёскивая руками. Сегодня впервые со времени переговоров с султаном он полностью и с удовольствием предался любезной его сердцу дипломатии...
– Так, вот, – тем временем говорила Мария Андреевна, умиляя мужа серьёзным отношением к теме разговора, – по смерти императора в столице существовало три главные партии претендентов: дочери Екатерины от Петра – Анны и Елизаветы, дочери от старшего брата Петра – Ивана, – это, по мнению некоторых, давало им преимущество, и партия внука императора – маленького Петра, сына несчастного Алексея.
Тут она прервалась и внимательно-осуждающе посмотрела на мужа. Тот покаянно опустил голову, удовлетворённая супруга продолжала.
– Старая знать, естественно, была за нового Петра Алексеевича, а новая – все эти Меншиковы, Ягужинские, Девьеры, – словом, все эти выскочки, – из грязи да в князи, – интонационно она дала понять мужу, что он к этим личностям всё же не относится, за что ей с благодарностью была поцелована ручка, – естественно, рассчитывала посадить на освободившийся престол жену государя.
Румянцев одобрительно кивнул на эти слова. Само собой разумеется, что только при ней они могли чувствовать себя спокойно и безопасно. Общие интересы, общие стремления. Из грязи поднимались вместе. Вместе не хотелось туда и падать. А значит: надо держаться друг за друга.
– Словом, пока остальные думали и мечтали, эти действовали. У них в руках была гвардия. Гвардейские офицеры заявили, что изрубят на куски каждого, кто осмелится не признать их императрицы. И все смирились.
– Да, матушка, – с уважением посмотрел на жену дипломат. – Судьбы России начинают решать преторианцы – государству с этого добра не иметь.
Мария Андреевна удивлённо приподняла брови. Но муж снова замкнулся и не стал ей объяснять всех мыслей своих, проистекавших из её слов: что, когда закон и традиция подменяются правом голой военной силы, государство на грани. Что же там, за гранью, то оно было так страшно – не хотелось и думать. Не стал он ей рассказывать и курьёз, доверенный ему одним из бывших сослуживцев: несколько раскольников запротестовали, не желая произносить присягу: “Раз баба стала царём, пусть бабы ей и крест целуют”. Но после двух разговоров в застенке присягнули как миленькие. Не стал – не потому, что смутило бы это её – боялся обидится на “бабу”. Всё же по Европам выгуливалась...
– Что-то в Азиях своих ты совсем нормально говорить разучился, – наконец обиженно протянула Мария Андреевна, не дождавшись объяснений мужа. – Одно слово – дипломат, да ещё “восточный”. И не поймёшь тебя.
– Не обижайся. Это я так, по-стариковски: привык там, понимаешь, сам с собой говорить – русских-то мало. Вот никак и не отвыкну. Так что, ты говоришь, матушка-императрица?
– Матушка чересчур усердствовала в празднованиях и удовольствиях. Во всех. Как говорили – да и видно это было – казну державную не берегла, не в пример мужу. Да и охотников ей помочь потратиться всегда хватало: Ягужинский, Левенвольд, Девьер, граф Сапега и прочие, помельче. Говорят, она дала два червонных мужику, не могущему заплатить подушной подати – добрый, благостный поступок. Хотя и неправильный: а ежели все, не могущие заплатить подати, к императрице пойдут, что будет? – Жена довольная своим рассуждением победно посмотрела на мужа – тот солидно кивал. Не объяснять же ей, в самом деле, что пример доброты государыни – лучший способ добиться любви своих подданных. – И тут же, – с тем же праведным гневом продолжала она, – она точно столько же давала другому мужику, оказавшемуся в силах в восемьдесят лет влезть на высокое дерево...
Румянцев, засмеявшись, закашлялся, замахал руками, всем своим видом показывая жене, что смеётся он ни в коем случае не над ней, а над причудами покойной Екатерины и призывая её продолжать.
– ...Меншиков заменил поначалу при Екатерине всё. Сенат, коллегии, различные канцелярии – всё подчинялось ему. Он стал повелителем, деспотом: делал что хотел и с кем хотел. Кто такой Меншиков, друг мой, ты, надеюсь, помнишь. Ничего хорошего от такого правителя ждать нечего: вор-казнокрад, начинавший с мелкого жулика. Одним словом, пирожник. Теперь дорвавшийся до власти и полностью имеющий возможность удовлетворить свои наклонности... Правление плебеев. Правда, были люди благородные – и по мыслям и по происхождению, с которыми фельдмаршалу – так все звали его – пришлось несладко. Это и герцог Голштинский Карл-Фридрих, женатый на старшей дочери Екатерины – Анне, и партия маленького Петра Алексеевича. Так что Меншикову пришлось смириться – в феврале 26-го вышел указ об учреждении Верховного Тайного Совета, сосредоточившего в своих руках все важнейшие дела...
Робкий стук в дверь остановил на полдороге полёт её красноречия. Появившаяся на пороге нянька, кинув боязливый взгляд на барина, обратилась к барыне:
– Матушка-сударыня, ведь не спит Прасковья Александровна. Всё плачут. Знать, мать родную зовут.
– Сейчас иду. – Мария Андреевна порывисто поднялась, смущаясь встретиться с мужем взглядом, и быстро вышла, почти выбежала из комнаты. Тут же за дверью раздался звук хлёстких пощёчин и оправдательное бормотание няньки, прерванное очередным ударом.
Александр Иванович невесело усмехнулся. Да и это надо пережить: понять и простить. Мысли с невзгод семейных всё норовили перескочить на невзгоды державные, и Румянцев, перестав сопротивляться этому, отдался скрупулёзному анализу услышанного уже от жены и сообщённого ему ранее, домысливая неизвестное. Он, человек, хорошо знающий дела политические, дела власти, проистекающие между подданными и государями, много мог представить, зная лишь малое, а сейчас он уже знал многое. Жена видит как всякая женщина лишь внешнее. Суть ей недоступна. Коли все бы лишь своими интересами жили – государство уже бы десять раз рухнуло. Конечно, ей, родовитой, не нравится, что вчерашние пирожники, солдаты, кухарки сегодня становились графами, князьями, императорами, жадно рвя все доступное руками и глазу, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, бежали на самый верх, не усвоив, что нельзя от державы брать, надо ей и отдавать, отдавать свои знания, пот, кровь и жизнь. Правда, лучшие это понимали. Всё же Пётр создавал своих фаворитов не только потому, что ему с ними хорошо бражничать, но и потому, что был не в силах один нести махину обязанностей. Не имея учреждений, обязанностью которого было бы разделять с самодержавием бремя от дел, власти и ответственности, он делился этим со своими любимцами. И Меншиков при Екатерине I просто стал делать привычное ему не раз ещё при Петре I дело...
Так что люди есть. Коли не было бы их – Россия лежала бы уже в пепле и крови, грязи и прахе. Конечно, никто из пришедших на смену Петру, – думал, подойдя к окну и смотря в ночь, Александр Иванович, – не обладал его страстью государственного устройства. Его окружали – да и случалось, он и воспитывал их такими – люди, знавшие некое определённое направление деятельности, одну из многих составляющих государственного интереса. Умер царь – и общего плана не стало. А ведь многие-то и дело делали не из внутренней потребности каждого честного и нормального человека радеть о своей державе, а лишь оттого, что при власти были – урвать при этом могли полегче. И это свои, домашние, доморощенные! А сколько их – чужеродных – повыползало из всех щелей европейских! И чем дальше – тем больше. Тут и царь, – Румянцев всегда при этой мысли крестился покаянно, – не изменил себе и на этот раз, – тут и царь виноват. Коли поначалу видел, что токмо европейцы могут цивилизацию привлекать на Русь – это его дело. Но зачем он их далее так жадно привлекал в страну, когда уже свои умельцы во всех сферах деяний государственных в России выпестованы были? Или не только за ради общего дела и блага император иноземцев в Россию созвал? Может, ещё какой интерес у него был? Но эти мысли Александр Иванович всегда бросал – становилось душно, страшно и как-то безнадёжно тоскливо...
И люди – что люди... Устроители державы были всегда. И есть вот Татищев Василий Никитич, сидевший год после смерти Петра в Стокгольме и писавший оттуда беспрерывно письма и нудящий беспрестанно – всё просил денег прислать. Нужны, мол-де, приборы, механизмы, книги. Ему что ли они нужны? Да и ему, поскольку – государству!
Или Меншиков тот же – всегда рвущий себе и гребущий токмо под себя. Грёб всю жизнь, грёб и догрёбся: вся Россия – его. И что? Надо страну теперь строить как вотчину свою – то есть не только грабить, а и благоустраивать, радеть, чтоб не развалилась.
А верховники? Он начал вспоминать, что же ему рассказывали о тех, без чьего участия, ему казалось, невозможно представить историю России и последние четыре года...
Итак, Меншиков, чувствуя, что против него растёт недовольство со всех сторон, что Екатерина попадает под всё большее влияние своего зятя Карла-Фридриха, ставшего фактически регентом, и всё менее охотно встречается с ним, Меншиковым, был вынужден поделиться властью. Возник Верховный Тайный Совет в составе самого Меншикова, принца, Петра Толстого, Апраксина, Головкина, Остермана, вошёл туда и Дмитрий Голицын, вызванный ещё в 1721 году в Петербург для занятия должности президента Камер-коллегии. Поначалу, чувствуя слабость Меншикова и воспользовавшись его временным отсутствием. Совет принял указ, изменённый уже после подписания его императрицей, против устных распоряжений Меншикова, имевших силу закона, которые он отдавал в этот период. Но вскоре Александр Данилович за многое отыгрался: по Петербургу разнеслась весть, что Екатерина назвала своим наследником Петра Алексеевича и что он женится на Марии Александровне Меншиковой. Предусмотрительный Меншиков добился отправки Ягужинского с поручением в Польшу, договорился с Голицыным – тот видел в этом браке единственную возможность возвести Петра на престол – и запугал Апраксина. Противодействовавший этим планам Пётр Толстой отправился в ссылку в Сибирь с лишением “чина, чести, деревень”. Туда же, получив предварительно кнут, отправился и Девьер, весьма нелюбимый Меншиковым, хотя тот и был вынужден поручиться с португальцем, выдав за него свою сестру. Бутурлин, имевший влиятельных родственников, отделался ссылкой в свои поместья.