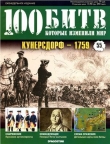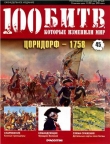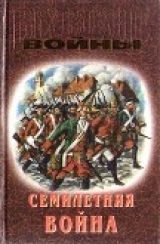
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
РЕТРОСПЕКТИВА ВТОРАЯ:
БИРОНОВЩИНА
Мелкий, нудный дождик сеял сквозь своё сито по всем окрестностям влажную хмарь, нагонявшую смертную тоску, когда хочется непонятно чего и понятно, что ничего не хочется. В такую погоду лучше всего спать. Но ведь не будешь же спать всё время. И так вон щёку отлежал, думал Александр Иванович Румянцев, стоя у мутного окошка и барабаня наперегонки с дождём по стеклу. Взгляд его пытался зацепиться за что-либо, но весь доступный его взору окоём был одинаково безлик, сер и неинтересен. Может быть, это было следствием дождя, а может быть, и мыслей, уже долгое время ни на минуту не покидавших Румянцева. Мыслей невесёлых, наглядным подтверждением и воплощением которых был блеск штыка под навесом ворот его усадьбы. Он вызывающе сверкал сквозь мутную влажную пелену, и как ни старался отвести глаза Александр Иванович, его взгляд рано или поздно натыкался на торжествующую полоску стали.
Штык олицетворял неволю. В неволе был он, Румянцев. А ведь по приезде вроде бы так сначала всё хорошо складывалось! Слаб человек: происходящее что-то дурное с окружающими он норовит объяснить зачастую их провинностями и прозревает лишь тогда, когда судьба, обстоятельства и люди обрушат на него такой же удар. И зачастую прозрение запаздывает.
По желанию Анны, Александр Иванович был приглашён в столицу из своих босфорских захолустий. Императрица и её окружение знали его нелюбовь к Долгоруким и Голицыным и поэтому хотя и почти заочно, но сразу полюбили его. А Румянцев, хотя и многое знавший про царствующих и правящих особ, положение дел в стране, поначалу с радостью принимал сыпавшиеся на него милости. Он был пожалован в генерал-адъютанты, в сенаторы, затем он получил подарок в двадцать тысяч рублей в виде награждения за приходившуюся на его долю часть из состояния Лопухиных, отнятую у него Петром II. У некоторых – впрочем, у большинства – вместе с ростом пожалований пышным цветом начинает расцветать в душе холопство: им всегда мало полученного и хочется ещё. У меньшей части при этих же внешних условиях начинают обостряться нравственные чувства, подавленные дотоле погоней за успехом. Теперь, насытившись, начинают думать о чём-то более высоком, духовном. Александр Иванович, опомнившись наконец от потока милостей, огляделся вокруг себя и увидел: всё то, о чём ему говорили, о чём он догадывался ещё там вдалеке – всё так. Забыв все свои дипломатические навыки и премудрости, он начинает громко сетовать при дворе на предпочтение, отдаваемое немцам, то есть им же, да на них!
Анна, не желавшая его терять так сразу, предложила ему должность главноуправляющего государственных доходов. На это Румянцев, вспомнив, что он не только дипломат, но и военный, ответил ей по-армейски прямо:
– В финансах ничего не смыслю. А если б даже и разбирался, то всё равно вряд ли бы нашёл способ удовлетворить безумные траты Ваши, Ваше Величество, и Ваших фаворитов.
– Вон!
Благоволение кончилось. А вскоре он не отказал себе в удовольствии лично приложить свой закалённый в житейских перипетиях кулак к изнеженной физиономии брата главного фаворита Бирона – Карла. Чаша монаршего гнева, которую фаворит щедро доливал, памятуя собственные ссоры с чёрт знает зачем вызванным в Россию строптивым дипломатом – дипломат он ведь должен быть мягким! – переполнилась и последовали державные выводы. По велению Анны, он был передан суду Сената, который, демонстрируя свою лояльность верховной власти, приговорил Румянцева к смертной казни. Императрица всё же помиловала его, и в результате монаршего милосердия он был сослан в собственное своё село Чеборчино Алатырского уезда Казанской губернии.
– Че-бор-чи-но, – произносит теперь Александр Иванович, стоя у мутного окошка и от нечего делать пробуя на вкус и прокатывая между губами волнистое слово.
Совсем ещё рано, а чеборчинский барин давно уже на ногах. И не спится ему, да и завёл он такой обычай здесь – ранние подъёмы, распространяемые, впрочем, лишь для него и на сына. Сын записан в солдаты. Конечно, пока он в опале, эта запись – фикция, но ведь всё может перемениться, и тогда от Петра, возможно, сразу потребуются воинская закалка, знания и умения, кои солдаты постигают долгими годами службы. Так не лучше ли сейчас хоть немного закалить сына?
Осторожный стук в дверь свидетельствует, что Пётр и на этот раз не проспал. Отец запретил его будить, велев сыну приучаться вставать самому, и за долгие месяцы и годы жизни в селе ему лишь несколько раз пришлось сдёргивать одеяло со сладко спящего Петра, делая строгие глаза.
– Доброе утро, батюшка. Как почивали? – спросил Пётр, целуя отцу руку.
– Доброе утро. Спасибо, хорошо. Как твои дела? Всё сделал, что велено?
– Всё, батюшка. Вот. – Сын протянул тетрадку.
Александр Иванович считал, что, находясь пока не у дел, он сам будет сыну учителем. Конечно, можно было кого-нибудь найти. Но вот именно, что кого-нибудь. Где ты найдёшь в этой казанской Тмутаракани, стоящей, как ему последнее время всё чаще казалось, на самом краю обитаемого мира, хорошего учителя? Чтоб и знающий был, и зельем не баловался от тоски беспросветной и безысходности, занёсшей сюда образованного человека, и чтоб не боялся разумную строгость проявить к сыну хотя и опального, но всё же как-никак большого вельможи. Задав себе все эти вопросы, Румянцев решил, что искушать судьбу нечего – сын у него один, переучиваться всегда трудней – займётся-ка он сыном сам. И вот со дня этого решения Пётр ежедневно постигал азы грамматики российской, истории всемирной и российской тож, географии.
– Добре, посмотрим, – проговорил отец, далеко отставив тетрадь с сыновними каракулями, чтоб лучше видеть. Стар становился, хотя и не любил признаваться в этом. Даже себе. При молодой жене такие признания – себе дороже.
– Н-да-а, – после некоторого молчания, во время которого сын обречённо смотрел в пол, – опять плохо. Снова торопился. Ведь торопился, признай?
Сын раскаянно кивнул головой.
– А ведь я тебе сколько раз напоминал. Не везде поспешанием можно решить дело. Иногда разумная неторопливость – лучший путь к великой цели. Как там у нас на конюшне говорят – ты ведь там крутишься вечно, должен знать – где нужно торопиться-то?
– Токмо при ловле блох, – быстро и весело выговорил Пётр, смело глядя на отца.
– То-то же, запомни это хорошенько. Но запомни и то, что иногда всё бывает наоборот. Артикул вещь хорошая, нужная, но артикул – бумажка написанная, а дело может по-всякому обернуться. Так что помнить и знать надо всё, а поступать как разум и сердце подсказывают. Понял?
– Понял.
– Ну и молодец. А урок грамматический – перепишешь.
К завтрему. И новый сделаешь. Но без торопливости, – прибавил он с усмешкой.
На этот раз Пётр смотрел без веселья. Перспектива делать сразу два урока вместо одного, и всё благодаря собственной лени, запечалит кого угодно!
– Так, с грамматикой всё ясно. Теперь у нас что? Гистория?
– Да, батюшка.
– Александра Македонского походы?
– Да.
– Ну, расскажи, что я вчера говорил!
– А я ещё книжку смотрел вчера вечером. Там и про смерть его.
– Хорошо, что смотрел. Книги вещь добрая. Книги – суть наши учителя. Про смерть пока не надо. Расскажи про жизнь. Рано нам ещё про смерть-то с тобой. Мы ведь ещё молодые... Правда?
– Правда.
Пётр часто потом вспоминал эти слова отца. Уже будучи наместником Малороссии, генерал-фельдмаршалом, одним из известнейших полководцев Европы, он любил повторять своим гостям, восхищавшимся его библиотекой: “Книги – мои учителя”. Запомнил он и пронзительное отцовское: “Про смерть пока не надо. Расскажи про жизнь”. Но этим ни с кем не делился, храня в себе...
– Рассказывай, сын! – Александр Иванович подошёл к большому покойному креслу, опустился в него, скрестил на подлокотниках руки и закрыл глаза. – Я слушаю. Итак...
– Итак, Александр торопился. В эти годы он забыл то, чему учил его отец – Филипп Македонский. – Пётр сделал вид, что не обратил внимания на внезапно открывшиеся глаза отца и его одобрительную усмешку, и продолжал: – Он торопился всегда. Он знал, что судьба отпустила ему немного лет, но за эти годы он станет величайшим полководцем мира. Он поторопился перейти Тигр, когда узнал, что там скопились полчища персов во главе с самим Дарием. И тут он перестал торопиться. – Ещё один внимательный взгляд отца. Каждый учитель рад, когда ученик на лету схватывает твои слова. Приятно вдвойне, когда этот ученик – твой сын. – Македонский давал отдых своим воинам и возможность Дарию собрать как можно больше войска, чтобы покончить с персами одним ударом. Судьба эллинов решалась в этом бою: победить или умереть! Они были слишком далеко от дома, чтобы спастись в случае поражения.
– Правильно, сынок, продолжай.
– Против нескольких тысяч македонской фаланги, израненной во многих Соях, Дарий собрал в десятки раз большую армию. Александр ударил на рассвете.
– Почему на рассвете?
– Не знаю...
– Армия эллинов боялась боя – врагов было слишком много. А их полководец знал, что человек опасней всего, когда он напутан, но в силу многолетней воинской привычки держит своё место в строю. Но Александр также знал и то, что, пойди он в атаку ночью, его воины, не видя поддержки товарищей, мужества и разума своих полководцев, могут дрогнуть. Поэтому он и начал сражение на рассвете. Это он решил так и поэтому был готов, а внезапно разбуженная персидская армия, всю ночь ожидающая нападения, должна была на это сражение настроиться. Продолжай.
– Персидская конница почти смяла левый фланг Александра. Ещё немного и был бы открыт бок фаланги.
– Фланг, Пётр, фланг.
– Да, фланг фаланги, но македонцы держались. В это время Дарий бросил в центр так много войска, что там создалась толчея. В ней фаланга шаг за шагом продвигалась вперёд. И скоро персы побежали.
– А серебряные щиты?
– Какие щиты?
– Ты разве не знаешь, что так называли личную гвардию Александра?
– Нет. – Пётр покаянно опустил голову.
– Так вот, запомни: когда фаланга смяла центр боевых порядков Дария, в этот прорыв ударили так называемые Серебряные щиты – самые отборные войска македонцев во главе с самим Александром. Если нужно было быть очень сильным человеком, чтобы владеть македонским копьём, то в щитоносцы отбирались самые сильные из сильных и храбрейшие из храбрых! В наиболее тяжёлый момент боя они решали его судьбу. Бросаясь бегом на врага в едином строю, они ударили по противнику своими щитами, как единой стеной из металла. Никто и ничто не выдерживало их ударов. Опрокинув врага, они добивали его мечами, которыми тоже владели как никто. Так закончился бой под Гавгамелой. Всё запомнил?
Сын восхищённо кивнул, с трудом переводя дыхание. С раскрасневшимся лицом, с блестящими глазами он сейчас был там, у притока Тигра, в одном строю со щитоносцами Александра, несокрушимой стеной бежавшими вперёд.
– Хорошо, сейчас пока запоминай. Придёт время – ты вспомнишь, поймёшь и оценишь гений Александра. А сам ты не передумал быть генералом? Помнишь нашу первую встречу?
– Нет, не передумал!
– Так ведь читал – сам говоришь – о смерти Александра: он умер от ран, от усталости, от бремени власти, когда в бою в твоих руках жизнь тысяч и тысяч! Тебя это не страшит?
– Нет, отец.
– Тогда – держи! – И Румянцев бросил сыну снятый со стены клинок. Почти в ту же минуту он ударил сверху, но пока ещё щадя – плашмя. Раздался звон упавшего на пол кортика, и Румянцев-младший сморщился от боли в плече, скуксился, собираясь заплакать. Но отец уже снова был в позиции.
– Возьми клинок. Потом почешешься. Нападай!
Основательно, по-хозяйски усевшейся на российский трон императрице Анне Ивановне Россия была чужой. Выданная в ранней молодости замуж за курляндского герцога, почти сразу же овдовевшая Анна все эти годы прожила вдалеке от Российских забот, зато нажила в своей Курляндии значительный груз представлений, привычек и привязанностей, которые она поспешила сейчас привезти в Россию и претворение которых в жизнь могло иметь для коренных обитателей страны далеко идущие последствия.
Она как-то привыкла больше доверять немцам и была к ним гораздо более расположена. В своём курляндском штате она не держала ни одного русского, а только немцев. И сейчас они все бодро начали перебираться к новому двору своей повелительницы – на этот раз к императорскому. Главной, центральной фигурой среди вновь возникших иноземцев был фаворит Анны Иоганн Бирон.
12 декабря 1718 года в Анненгофе близ Митавы вместо заболевшего Петра Михайловича Бестужева, гофмейстера герцогини Курляндской, по приказу Петра I, сделавшегося заодно и нечто вроде её тюремщика, бумаги на подпись Анне принёс мелкий чиновник. Герцогиня, внимательно рассмотрев его, приказала приходить ему каждый день. Вскоре она сделала его своим секретарём, затем камердинером. Его имя было Иоганн Эрнест Бирон.
Именно его имя стало нарицательным для характеристики правления Анны Ивановны. Не занимая никаких официальных должностей, он во многом самовластно управлял страной целое десятилетие, то есть весь тот срок, который был отпущен Анне царствовать, а стране – стонать под её правлением...
Об этом говорили сейчас, собравшись за дружеской трапезой, добрые знакомые и хорошие приятели: придворный архитектор императрицы Пётр Михайлович Еропкин да горный инженер Хрушов Андрей Фёдорович.
– ... Да, – снова задумчиво протянул Пётр Михайлович, нервно крутя в руках серебряную вычурно отлитую вилку. – Я уверен, что императрица сразу после разодрания кондиций – да даже до этого, как только появилась в Москве! – решила для себя участь многих и жизнь остальных. А это несчастное семейство поплатилось в первую голову лишь потому, что слишком уронили себя в глазах многих, а уж никак не благодаря исключительно своему противодействию планам самодержным.
– Ты прав, – горячо поддержал его Хрущов. – Дабы не поднялось всё дворянство истинно русское на защиту земли, она это всё постепенно, постепенно. Хитра!
– Европейская школа. Хоть Курляндия, конечно, и задворки Европейские, сказать по чести, но ведь им в Германии, в их королевствах карманных более делать нечего, как только склоками промышлять – вот и наловчились. Ты вспомни: ведь уже 8 апреля императрица приказала Василию Лукичу быть губернатором Сибири, Михаилу Владимировичу – в Астрахани, Ивану Григорьевичу – воеводой в Вологде, а Алексей Григорьевич с детьми и Сергей Григорьевич ссылались в отдалённые деревни. А менее чем через неделю-манифест её о винах Алексея Григорьевича, братьев его и сына Ивана, любимца государева. Говорила и об особых винах Василия Лукича перед императрицей. У Григорьевичей отобрали многие их богатства, а Василию Лукичу было предписано жить тоже в деревне при крепком карауле. Летом же Алексея Григорьевича отвезли в Березов, Василия Лукича – на Соловки.
– Да, а теперь вот четверо Долгоруких кончили свою жизнь на плахе.
– Включая и Василия Лукича! Я-то думал, что Анна Ивановна не могла ему простить не только активности с “кондициями”, но и Бирона.
– Бирона?
– А ты разве не знаешь, что, когда он прибыл к ней в Курляндию с предложением занять российский трон, одним из его условий было, чтобы в Москву она с собой Бирона не брала. Он не хотел влияния этого немца здесь на императрицу.
– А я думал, он приезжал сразу с императрицей.
– Нет, поначалу она приехала без него, но вызвала с собою всю его семью, давая понять, что рассталась с ним не надолго... Вот теперь Василий Лукич и поплатился за всё.
– Не без участия твоего родственника.
– Бог ему судья. Он говорит, что без этого не может быть тем, кем есть сейчас. Малейшее противодействие – явное противодействие по такому вопросу, противодействия, не имеющего за собой крепкой опоры – и он уже ничто. Артемий считает, что, будучи кабинет-министром, он может сделать больше для дела, чем он будет честным, но не у дел. В общем, старинный вопрос цели и средства.
– Цели у него благие – отрицать грешно. Но всё же кровь Долгоруких на его совести, и она ещё падёт ему на голову. Так же и кровь Дмитрия Михайловича Голицына. Вот человек, нужный России. Не даром Пётр I его привечал и всегда с охотой прощал нелюбовь Голицына к его западничеству, – что в устройстве державном, что во внешнем облике, что в делах семейных. Ведь, говорят, он приезжал к нему во дворец, а князь молится, и император ждал, – не мешал. Понимал, что такая голова нужна государству, ибо держава сильна не раболепием, окружающим владыку, и готовностью исполнять не раздумывая любой приказ государя, а мужами – советниками, не боящимися в лицо говорить горькие истины. Ибо без правды государь не может править – без правды о делах в его стране и без того, чтобы не знать мнения несогласных с ним. Мнения не злопыхателей, а людей, озабоченных делами своей отчизны. И против засилия немецкого – если уж Артемий вспомянут – он выступал. И вспомни как! Незачем, говорил, худших из других стран примечать, ибо добрые родину свою не бросят, когда у нас свои добрые головы имеются.
А как он купно с другими членами Совета после смерти Екатерины I сказал? Ведь этого не было ещё у нас, чтобы вину за раззор народный на монарха возложить: пока, мол, императрица казну расточала, деньги без счёта на прихоти свои тратила, подданные её недостаток терпели в хлебе насущном!
– Да, без трудников государству не то что не цвести, а и не жить. А ведь сейчас так же, как говорили верховники, если не хуже.
– Хуже, это ты в столице сидишь...
– Да и здесь видно...
– Здесь только малая часть видна, а я-то по государству нашему, слава богу, поездил. Куда не приедешь – как Мамай прошёл. Скудость великая. Верховный Тайный Совет подати облегчил, а при нынешней императрице они опять растут. Скудность кругом, экзекуции непрестанные, разорение всеконечное.
– Да, ты прав. Налоги растут, а казна пуста, – немцы все сосут и сосут и никак не насытятся. Пиявки, те хоть как возьмут необходимое – так отпадают, а эти, по-моему, никогда сыты не станут. Чем больше берут, тем больше им нужно. А тут ещё война с этим Крымом, а стало быть – и с Портой, за спиной у хана стоящей. Какое содержание войску должно быть! И ведь это все деньги.
– И, говорят, солдаты мрут как мухи. И не от ран, а от болезней умирают. От голода!
– Да, от голода. Воруют так, как будто последний день живут. И ладно бы иноземцы, свои же! Князь Трубецкой – начальник обозов армейский – у солдат у своих же российских ворует, когда они кровь за державу проливают!
– Хватает хапуг, хватает – что свои, природные, что чужеземцы. И не разберёшь, кто жаднее.
– Мне-то кажется, что иноземные жесточе казну грабят. Ну сам посуди. Ежели изменение какое там, на самом верху, или из фавора наибольшего вышел – куда наш-то, российский, денется? В деревню – вряд ли далее. А иностранцы опять же могут и родину свою прежнюю возлюбить. Да и она к ним, уже богатым, добрее будет. Словом, в случае чего, они знают – им здесь не жить. Вот Миних. Ведь когда приехал, так Петру I и заявил – мол, послужу, несколько лет здесь у вас, а ежели не по нраву – так обратно вернусь. Вот и грабят Россию в запуски. Им смех, а державе – слёзы.
Они подавленно замолчали оба. И действительно, жизнь была так мрачна, что оставалось только молчать. Молчали везде – на улицах, в трактирах, лавках и дворцах. Малейшее недовольство простолюдина против иноземного засилия – и он узнавал все прелести тайных застенков. Клич “Слово и дело” нёсся по всей стране. И по этому слову начинались жестокие следствия, когда пытками выбивали всё, что было и не было. Когда о немцах заговаривала не очень благожелательно русская знать – то начинались опалы. Доверяли душу только ближайшим друзьям, в коих были как в себе уверены. Да и то, – что тут говорить? Мнение едино, чаяния тоже, добавлялись только некоторые штрихи.
– Тут мне купцы говорили – по делам службы с некоторыми из них разговариваю, – прервал тяжёлое молчание Хрущов. – У них раззор великий. Судя по всему, за весьма большую мзду Бирон позволил английскому купечеству транзитную торговлю через Россию с Востоком, беспошлинно. А тут пошлины снижают...
– Это ещё ничего. Плохо, конечно, что наше природное российское купечество в разорении, но это всё поправимо – больше смекалки, смелости, ездить подальше – чай все четыре стороны света знаем что есть – и поправится дело. А вот такое дело, как тебе... Ведомо ли тебе, что король прусский себе полки великанские создаёт?
– А, это где все вельми высокие, что ли?
– Истинно так. И вот среди этих великанов есть и наши, русаки. Их пруссаку дарят, либо обменивают на всякие нужные в державном хозяйстве штуки. Нужные Бирону с прихлебателями. Русские полки посылаются к дворам европейским из-за политического политеса. Перед Европой расшаркиваясь, русской крови не щадят.
– Ну, правильно. Наших гонят на чужбину, чтоб головы сложили, а с другой стороны, – Измайловский полк. Нечто это дело – в гвардии, близ престола – целый полк без единого русского солдата. Одни малороссы. Причём такие, что, Мазепу вспоминая, до сих пор плачут. Как в Сечи живём, право слово!
– Так и нет русских-то там потому, что близ престола. Не доверяет императрица природным россиянам. Вся опора у ней в иноземцах. Поэтому офицеры в этом полку – почти сплошь из Европы выписанные, да сами сюда набежавшие. Русских там раз-два и обчёлся.
– Точно. И споры уже промеж себя заводят. Так-то они всё больше с нашими.
– Понятное дело. Избыток их там образовался – вот локтями-то друг дружку и пихают, к кормушке подбираются. А посмотри, как Бирон с Минихом и Остерманом живут. Нешто у них дружба великая? Чисто кошка с собакой. Тоже всё власть поделить не могут.
Еропкин был абсолютно прав. Этих трёх упомянутых господ объединяло только презрительно-потребительское отношение к стране, которая имела несчастье терпеть их, и к людям, её населявшим. Во всём остальном они столковаться не могли. Остерман в благодарность, в награду за предательство верховников, получивший место близ новой государыни – в образованном при ней кабинет министров; Миних, во время “Разодрания” кондиций безоговорочно пошедший за Анной и награждённый за это чином генерал-фельдцехмейстера, президентством в Военной коллегии и членством в том же кабинете; несменяемый любимец: герцог Курляндский – Иоганн Эрнест Бирон – вот кто ближе всех стоял у трона и кто не мог поделить никак град милостей, сыпавшихся оттуда. Конечно, Бирон всё время лидировал, но остальные никак с этим смириться не могли. Вскоре после воцарения Анны, зарвавшегося и возомнившего о себе слишком много Миниха отпихнули от царственного корыта и отправили на Украину, и оттуда он выбрался не так скоро, как ему хотелось. Появившись в 1733 году, он, смирившись с доминирующей ролью Бирона, строил матримормальные планы, желая стать родственником великого человека. Миних хотел женить своего сына Эрнеста на сестре жены Бирона фрейлине Трейден, но получил от расстроенного главы семейства даже почти невежливый отказ. Растрёпанные чувства Бирона объяснялись тем, что Анна Ивановна нашла жениха своей племяннице Анне – герцога Бруншвейгского. Бирон же был против этого, так как мечтал видеть мужем Анны Леопольдовны другого. Он считал, что сын его ничуть не хуже какого-то захудалого герцога. Против этого интриговал Остерман, не желая уж очень вопиющего усиления Бирона с перспективой иметь на престоле Бирона-младшего. Миних же был недоволен Остерманом, не без оснований видя в нём одного из главных инициаторов своего нынешнего малороссийского проживания. При подобных интересах и делах ничего удивительного не было в том, что дела государственные находились в таком беспорядке, при котором даже при желании великом в них надо было долго разбираться, дабы поправить хотя бы малую часть, а поскольку никто из властителей желания подобного не испытывал... Иностранные посланники при дворе Анны Ивановны, которым давно уже было бы пора отвыкнуть удивляться, всё равно продолжали поражаться тому, что двор императрицы чрезвычайно пышен и роскошен, и это при полной пустоте в казне и при том, что никто никому не платит. Где-то в это же время любимица французского короля Людовика XVI графиня Дюбарри произнесла бессмертную фразу: “После нас хоть потоп!” Европейское откровение с успехом применялось на русской почве.
– А слышал я, Пётр Михайлович, что не только в делах вы здесь прозябаете, но и веселитесь вельми. Дворцы изволите строить? Да не просто, а особые... Просветите нас, бедных.
– Ах, Андрей, не смешно это. Древние фамилии на позор выставлять, глумлению предавать. Вся страна будет изображать маскарадно-шутейное верноподданство на потеху императрице и клевретам её! А мне, думаешь, вместо каменных дворцов приятно ледяные строить?
– Прости. Я не хотел. Говорят и Артемий Петрович в этом деле?
– За главного. Вся программа на нём.
– Кстати, хотел спросить, да всё к слову как-то не было. Сестра-то твоя как?
– Что сестра... У неё теперь муж есть. И у неё с ним одна судьба...
Произнеся это, Еропкин не знал, что воистину единая судьба не у его сестры с мужем Артемием Волынским, а у него, Петра Михайловича, придворного архитектора императрицы Анны Ивановны да у приятеля его горного инженера Хрущова Андрея Фёдоровича. Что судьба их едина и скоро её общий итог будет подведён рукой палача.
В 1735 году последовало высочайшее прощение чеборчинскому затворнику Александру Ивановичу, опальному Румянцеву. Всё тут смешалось – и сильные заступники, и недостаток государственной мысли и размаха людей, и малость вины, забывшаяся почти за давностию лет, и внешняя покорность, регулярно доносимая по начальству охраной, выражающаяся в новоприобретённой любви к пословице “Плетью обуха не перешибёшь” (всё остальное умерло в душе) – и это смешение, стало причиной того, что Румянцеву вернули чин генерал-поручика и назначили астраханским губернатором.
Астрахани везло на знаменитых людей в начальстве. То царский родственник Артемий Волынский, лихой мздоимец, которого Екатерина I, спасая, перевела в Казань, то опальный Михаил Долгорукий, опальный фельдмаршал, вскоре отставленный от своего поста.
Но на этот раз многие астраханцы так и не узнали, что у них побывала губернатором такая известная персона. Ибо назначенный губернатором Астрахани указом от 28 июля, Румянцев только 20 августа – дороги и расстояния российские! – всенижайше поблагодарил императрицу за милость и честь, а навстречу его благодарности уже неторопливо следовал новый указ от 12 августа о назначении его Казанским губернатором.
Собственно, казанскими делами он занимался опять-таки крайне мало по причине назначения своего и командующим войсками, отправлявшимися против башкир, поднявших восстание в Оренбургском крае.
Ещё в 1731 году хан одной из трёх групп казахских племён, так называемый Младший жуз – Абул-Хаир, обратился с просьбой о российском подданстве. Идея была принята благосклонно. Но Абул-Хаир интересовался прежде всего практическим вопросом – как его новые владыки собираются защищать его и его народ от Джунгар? Петербургу ответить было нечего, поскольку на юго-востоке Россия не располагала ни войсками, ни путями их доставки, ни операционными базами. Выходом явился план обер-секретаря Сената Ивана Кирилловича Кириллова, предложившего создать Оренбургскую экспедицию с целью защиты жуза Абул-Хаира путём – для начала – постройки крепости у впадения Ори в Яик. Кириллова и назначили руководителем экспедиции, немного химерической, поскольку предполагалось проложение охранных путей аж до Индии и торговля с Ближним и Средним Востоком – что ничуть не смущало начальника-энтузиаста.
Жизнь нагло и мерзко обманула Кириллова. Башкиры, недовольные тем, что на искони принадлежавших им землях строятся какие-то, им явно ненужные, крепости, учинили злонамеренные волнения. Он начал бомбардировать кабинет и Сенат донесениями, которые под благостные кивки многомудрых голов правителей и сберегателей державы, осенённых завитыми париками, читаем секретарь:
– Башкиры – неоружейный народ и враждуют с киргизами. Никогда не следует допускать их к согласию, а напротив, надобно нарочно поднимать друг на друга и тем смирять...
Снова одобрительные кивки... “Разделяй и властвуй!” – этот Кириллов молодец: в глухой азиатской стороне применяет принцип императоров Великого Рима! Резюме: усмирительную политику междуусобиц продолжать, подкрепив её регулярными войсками во главе с надёжным руководителем. Кандидатура Александра Ивановича Румянцева возражений не встретила. И замаршировали, захлёбываясь в июньской пыли, гренадеры. Драгуны, мерно покачиваясь в высоких сёдлах, глядели веселее. Но также муторно – идти воевать на край света! Где земля немеряна и всё чужое – любой заробеет...
– Любезный Иван Кириллович, – мягко, но придерживая незаметно уже начинавшее дрожать веко – так его допёк собеседник – почти нежно проговорил Румянцев, – целиком разделяя Вашу мысль, столь часто и подробно излагаемую в Петербург о том, что должно смирять башкирцев кайсаками, а кайсаков смирять башкирцами, позволю себе спросить вас: ваш Тевкелев – он как? Специально разжигает ненависть к нам местных жителей? Ведь поначалу простые башкиры относились к нам – ну, тепло, это понятно, вряд ли, – но терпимо, то есть спокойно, я бы даже сказал, равнодушно. Что нам, собственно, от них и требуется. У них своя свадьба, у нас своя свадьба. Так, кажется, говорят в народе? А Тевкелев...
– Российский полковник Тевкелев знает, дорогой Александр Иванович, в отличии от некоторых, как нужно обходиться с бунтовщиками! И он выполняет мои приказы.
– Ваш крещённый мурза Тевкелев принесёт гораздо больше вреда, чем пользы, хоть вы его и держите как главного знатока по вопросу инородцев. Он дик по натуре. Да и, кроме того, доказывает нам свою лояльность. Слыхали, как говорят: хочет быть святее папы римского?
– Не слыхал. И знать не желаю, чего вы там набрались за границами вашими!
– Да это наше, Иван Кириллович. Ну, не слыхали – бог с ним! Меня-то хоть послушайте: жестокостью ничего не добьёшься. Нужно мягчe!
– Господин Румянцев! Как начальник Оренбургской экспедиции я буду придерживаться своих методов!
– А я, господин Кириллов, как командующий войсками, своих!
Если обратиться ещё раз к пословице: когда паны дерутся – у холопов чубы трещат. Разногласия начальников привели к новой вспышке восстания, затронувшей и русские деревни вблизи Уральского завода. Именно с помощью этих русских крестьян, организованных в отряды, преемнику Кириллова – Василию Никитичу Татищеву удалось усмирить зауральскую часть Башкирии. Сторонник гуманных мер, он постоянно конфликтовал и с Кирилловым, и позднее с Тевкелевым из-за их жестокого отношения.