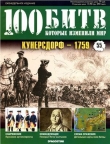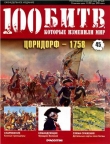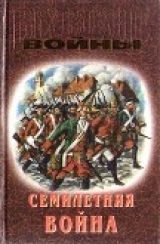
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц)
Поход
Весна 1760 года была на исходе.
Наливавшиеся соком травы окрасились яркой, до синевы, зеленью. На умытых росами приречных блестящих кустах копошилась разноголосая птичья мелочь. В белом от солнечного спета небе неподвижно висели ястребы.
Не стало больше прохладных зорь, когда зябко и весело ёжились плескавшиеся обледенелой водой солдаты. Солнце сделалось горячим и злым и задолго до полудня начинало жечь влажные от пота лица. Небосвод стал словно выше, и по ночам в нём ярче горели звёзды.
Но люди, вершившие дело войны, не замечали чудес, творимых природой. Светлой розовой ранью, палящим полднем и дождливым вечером они строили реданты[31]31
Реданты – укрепления.
[Закрыть], выставляли караулы, стреляли, колесили взад и вперёд по широким дорогам, по просёлкам и нехоженым тропам.
В квартирмейстерской части[32]32
Обычное тогдашнее название генерального штаба.
[Закрыть] русской армии круглые сутки кипела работа. В рядах действовавших войск оставалось не больше 60 тысяч человек. Вместо испрошенных главной квартирой после Кунерсдорфа 30 тысяч солдат из России было послано только 6 тысяч, да и из тех свыше тысячи умерло или заболело в пути. Был расчёт на рекрутский набор в занятых областях Восточной Пруссии; пруссаков можно было бы направить на должности извозчиков и денщиков, освободив занятых там русских. Но в дело вмешалась немецкая партия. Генерал Корф, назначенный кенигсбергским губернатором, представлял, что если будет объявлен набор, то жители Восточной Пруссии будто бы разбегутся. А так как предполагалось, что эти области войдут в состав Российской империи, то Воронцов, вняв уверениям Корфа, отменил набор. Людей в армии по-прежнему не хватало.
Были и другие хлопоты. В январе 1760 года в армию прибыл полковник Тютчев для устройства артиллерии. Генерал-фельдцейхмейстер Пётр Шувалов сделал удачный выбор: Тютчев решительно взялся за дело. Артиллерия подразделялась на полевую и бомбардирскую; та и другая была подчинена начальнику артиллерии, состоявшему под непосредственным начальством главнокомандующего. В бригадах и корпусах выделялась особая резервная артиллерия. Орудиям большого калибра предписывалось открывать огонь с 750 сажен, а малого – с 400 сажен. Первый огонь надлежало направлять на неприятельские батареи, а на ближних дистанциях стрелять по пехоте и коннице. В обязательное условие вменялось артиллерийским офицерам требование взаимной выручки.
Подверглось переустройству и продовольственное дело. Генерал-провиантмейстер Василий Иванович Суворов устроил в Познани обширные магазины, но другие тыловые магазины ему так и не удавалось устроить. Транспортировать провиант из России было очень далеко, а заготовлять на месте трудно, ввиду ограниченности денежных средств: как в Польше, так даже и в Пруссии продовольствие приобретали почти исключительно за наличные деньги, чтобы не раздражать местных жителей, не желавших принимать в уплату квитанции. В короткий срок было истрачено около 400 тысяч рублей, а новых сумм не поступало.
Генерал-лейтенант Суворов измышлял самые хитроумные способы, как бы доставать провиант под квитанции, оплачиваемые потом в Петербурге, не нарушая в то же время директив Конференции о политичном обращении с населением. В помощь себе он взял из главной квартиры нескольких офицеров, показавшихся ему наиболее пригодными для такой деликатной миссии. Среди этих офицеров был и Шатилов.
Петербург, шумные балы, разговор с великой княгиней – всё это уже быльём поросло. Бешено скача из столицы с рескриптом о противодействии сепаратистским попыткам Пруссии, Шатилов чувствовал, что с каждой верстой весь этот мир блеска, мишуры, интриг и хитросплетений словно расплывается в морозной дымке, становится призрачным, и всё, что ещё день назад казалось таким важным, уже начало терять цену. Иногда только с сожалением вспоминал он о неразоблачённом Тагене, да по-прежнему неотвязно ныла где-то на самом дне сознания, в сокровеннейшем уголке души, мысль об Ольге. Но власть над ним уже приобрела та жизнь, с которой он за год успел неразрывно сродниться.
Он понял, что в столице всё время тосковал по этой жизни, по армии, по трудностям и постоянной новизне походов, по солдатским песням, то унылым, то безудержно залихватским, по волнующему напряжению битв и по суровой, мужской боевой дружбе.
В главной квартире многое изменилось. Салтыков болел, и его часто и подолгу замещал Фермор. Алексей Никитич отдавал должное опытности и предусмотрительности Фермера, но не мог побороть антипатии к нему. Он мирился с тем, что у Фермора не было широты кругозора и горячей веры в русское оружие, которые так пленяли в графе Петре Семёновиче, но он не мог простить Фермору его холодного педантизма и постоянной заботы о прусских жителях в ущерб русским солдатам. Поэтому Шатилов был даже рад, когда генерал-лейтенант Суворов вытребовал его к себе.
Всё лето он провёл в разъездах, закупая муку, овёс и картофель; ранней осенью Суворов послал его с рапортом к главнокомандующему. Сделав доклад, Шатилов тотчас же пустился на розыски своего друга, как ребёнок, радуясь предстоящей встрече, Он нашёл его только вечером, завертел, закружил в объятиях.
– Пусти, ошалелый! – отбивался Ивонин. – У меня дела ещё.
– Эва! Завтра на заре я уезжаю, так уж эту ноченьку твои дела подождут.
– Ин ладно.
Они вышли на высокий берег, окаймлённый густым тёмным кустарником. Под ногами шуршал размётанный багрянец листьев. По чёрной реке катилась светлая дорожка.
– Одер, – задумчиво сказал Ивонин. – А у славян издревле Одрой сия река прозывалась. Уже и забыто, что во всех сих местах славянские племена жили и на костях их пруссы своё благополучие воздвигли.
– Да ещё и тем недовольны. Снова хотят славянские земли заглотнуть.
– На сей раз не выйдет… Одначе рассказывай.
Выслушав Алексея Никитича, он вздохнул.
– Вечно та же история. Тотлебен да Корф стращают, что нас же в Европе северными варварами звать будут, Фермор их в сём поддерживает; в результате русские солдатушки и кровь льют и голодные ходят, а прусские бауэры мошну набивают. Запрошлую неделю консилиум в главной квартире был…
– А кто нынче в ней состоит? – перебил Шатилов.
– Генерал-квартирмейстером[33]33
Должность, соответствующая начальнику генерального штаба.
[Закрыть] Штофельн, начальник артиллерии – Глебов, начальник инженеров – Муравьев, штаб-доктор – Кульман, главный провиантмейстер – Маслин. Да что в них толку при Ферморе! Крепка тюрьма огородою, а рать – воеводою. С Петром Семёнычем они вовсе по-другому толкуют.
– Что же он? Совсем занемог?
– Борется с недугом. То сдаст командование Фермору, то снова, чуть полегчает ему, в должность вступит, хоть иной раз и в великом жару… Так вот на консилиуме заслушаны были доклады товарищей твоих по провиантмейстерской части: офицеров Корсакова, Груздавцева и Бока. Всё то ж показали, что от тебя сейчас слышу, а толку чуть.
Они помолчали.
– О чём же ещё главная квартира суждение имела?
Ивонин оживился.
– Ещё о хлюсте этом, о Тотлебене. Уже его и Фермор не стал переваривать. И то сказать: в его отряде завелись многие женщины, тащат с собой разного скарбу. До того дошло, что некоторые офицеры в неприятельский лагерь на пароль ездили и там шнапс с зейдлицевскими молодчиками пили. Фермор назначил было заместо Тотлебена генерала Еропкина. Но разве этакого объедешь! Тотлебен в Петербург кляузу настрочил, и всё по-прежнему пошло.
Издали донеслась солдатская песня. Голоса звучали стройно, ладно.
– Славно поют, – промолвил Шатилов. – В одной тюрьме сидеть, в одном полку служить – споёшься.
Песня гремела:
Вы, солдатушки уланы,
У вас лошади буланы,
Москву-город проезжали,
В деревеньку заезжали,
Ко вдовушке забегали.
Ночевать к ней попросились:
«Пусти, вдова, ночевати».
Пенье неожиданно оборвалось, и чей-то тонкий голос надсадно зачастил:
Я не знаю, как мне жить
В свете беспорочно
И жизнь всю расположить,
Чтобы было прочно.
Петиметры говорят,
Что я живу скупо,
А скупые говорят,
Что я живу глупо.
– Это уж не иначе, как со столичным образованием, – засмеялся Ивонин. – Должно, служил допрежь в камердинерах. Пойдём-ка к ним, Алексей.
Когда они подходили к костру, вокруг которого сидели и стояли солдаты, тот же надсадный голос рассыпался быстрой скороговоркой:
Чем хотите, колотите:
Поленом по коленам,
Кирпичищем по плечищам,
Головешкой по головке…
– Тьфу! Уймись, дурень! – с сердцем сказал кто-то.
Вокруг засмеялись на разные лады.
– Ай да Емковой!
– Емковой! – приостановился Шатилов. – Это не тот, что у покойного Микулина служил?
– Тот самый. Сейчас он, в свой черёд, канониром при гаубице. Мужик – что золото. Да вот сам посмотришь. Емковой, поди-ка сюда! – крикнул он, выходя на свет.
Солдаты нестройно поздоровались: по тому, как многие из них заулыбались, Шатилов понял, что его друга здесь хорошо знают и любят.
– Чего изволите, вашбродь? – не спеша приблизился Емковой.
– Вот премьер-майор интересуется, как живётся тебе.
– Благодарствуем на этом. Только какое же солдатское житьё? Известно: под голову кулак, а под бока и так.
– Я Евграфа Семёныча знавал, – тихо проговорил Шатилов. – Не забыл, поди?
Емковой истово перекрестился.
– Царство ему небесное! Вовек не забуду. Голубиной души человек был, и антилерист знатный: он меня обучил бомбардирскому делу.
– Ты всё ещё в Углицком полку?
– Никак нет! Во втором Московском… Нас оттуда, почитай, с полсотни сюда переведено.
– Надоело тебе, небось, по чужой земле таскаться?
– А то… Сейчас, вашбродь, сенокосица. Стоги-то духовитые, тёплые. Как подумаешь, – эх, мать честная!
– Всё война, – сказал Ивонин.
Солдат покачал головой.
– Что же войну корить! Иной раз и за нож возьмёшься, коли разбойник нападёт. Война трудна, да победой красна.
У костра чей-то голос добавил:
– Особливо, ежели с прусачьем воевать доводится. Эти нас, как пауки, сосали.
– Лес сечь – не жалеть плеч, – отозвался другой.
– Слово-то какое! – восхищённо сказал Шатилов. – Прусачье! Кто это придумал?
– Промеж себя завсегда так его называем, – отозвался Емковой. – Касательно же войны, если дозволите наше простое солдатское слово молвить, то мы, значит, так судим: когда поля межуются, то по стародавнему обычаю парнишек на меже секут, чтобы помнили, значит, где межу проложили. Эвон и немчуру надобно, как границу сделают, накрепко высечь на ней. Дескать, мол, войной да огнём не шути.
– Правильно, Емковой, – серьёзно сказал Ивонин, – давно пора так-то. Ну, прощайте, братцы. Авось, мы ещё поучим немца. И не на границе, а в самом его дому.
– Каковы? – сказал Шатилов, когда они немного поотдалились. – Хоть война с прусачьем трудна, да победой красна. Вот он, наш солдат.
– Нет его лучше во всём свете, – тихо, даже как бы торжественно сказал Ивонин: – и храбр, и силён, и духом бодр… Одного только недостаёт.
– Чего же?
Ивонин с силой сказал:
– Достойного военачальника. Таких солдат не Фермор и даже не граф Салтыков вести должен.
– А кто? – горячим топотом сказал Алексей Никитич. – Есть ли такой?
– Сперва полагал я так о Захаре Чернышёве. Его в ноябре прошлого года из плена выменяли, и он себя очень похвально с той поры выказал. Однако вижу, и Чернышёв не тот. Армии новый Пётр нужен: кто бы всю силу её молодецкую в одно собрал да взорлил над Фридериками и Даунами… – Он вдруг осёкся и словно нехотя проговорил: – Может, и есть такой! С самого Кунерсдорфа присматриваюсь. Великих дарованиев человек. А выйдет ли что? Про то, кто ведает? И не спрашивай сейчас больше об этом.
Они долго шагали молча, и длинные их тени бежали рядом с ними, то отставая, то перегоняя их на капризных поворотах тропинки. Подул сильный ветер. Листва на деревьях шепталась чаще и беспокойней. С реки всё явственнее доносился плеск волн.
– К непогоде, верно, – сказал Шатилов. – Осень близится. Что ж в главной квартире? До конца года собираются марш-манёвры предпринимать? План-то есть у них?
– Какой же план! – со скукой возразил Ивонин. – Цесарцы всё так же от решительных действий уклоняются. Даун опять хочет нас в первый огонь втянуть, а сам отсидеться за нашей спиной. Но на сей раз мы уже научены. Пётр Семёныч хочет ограничиться операциями в Померании, имея целью взять Кольберг и укрепиться на Балтийском побережье. А вместе с тем, дабы показать всю ненадёжность положения Фридерика, совершить набег на Берлин. Для этой цели будет выделен особый отряд.
– Когда сие предстоит? – живо спросил Шатилов.
– Полагаю, в будущем месяце. Посмотрим, так ли уж далеко до прусской столицы. Но пока – молчок.
Мысль о военной экспедиции на Берлин возникла в Петербурге ещё в 1758 году. Салтыков намеревался привести её в исполнение после Пальцига, потом после Кунерсдорфа, но оба раза откладывал ввиду нежелания австрийцев помочь ему. При этом не имелось в виду удерживать Берлин надолго: такая задача представлялась чересчур ответственной – и потому, что очень трудно было бесперебойно снабжать войска при столь удлинённых коммуникациях, и потому, что не было уверенности в способности обезопасить эти коммуникации от двухсоттысячной армии Фридриха. И Конференция, и Салтыков, и тем более Даун исходили из принципов линейной тактики, обрекавшей полководца на ограниченность целей и методов. Они хотели лишь нанести короткий энергичный удар, чтобы разрушить военные предприятия в Берлине и, главное, добиться крупного морального успеха, доказав уязвимость прусской столицы.
Исподволь готовясь к берлинской экспедиции, Салтыков собрал обширные сведения, и теперь в главной квартире был скоро разработан маршрут и порядок похода. Рейд на прусскую столицу поручался в основном сборному отряду в составе 3600 кавалеристов и 1800 гренадеров при 15 орудиях. Начальником этого отряда по распоряжению Конференции был назначен Тотлебен. Маршрут его лежал от Нейштеделя, через Сорау, Губин, Бесков, Вустергаузен на Берлин – всего протяжением около 190 вёрст.
Одновременно выступал 12-тысячный отряд генерала Захара Чернышёва, состоявший из семи пехотных полков. Он двигался другой дорогой до Губина, а затем шёл непосредственно за Тотлебеном, чтобы в случае надобности подкрепить его.
И, наконец, главные силы армии продвигались к Губину для обеспечения экспедиции от всяких неожиданностей.
Двадцать шестого сентября Тотлебен и Чернышёв, каждый по указанной ему дороге, выступили к Берлину.
Шли форсированным маршем, легко оттесняя незначительные неприятельские отряды, пытавшиеся задержать продвижение. Двадцать девятого конница Тотлебена была уже в Губине, а днём позже – в Бескове; здесь была дана днёвка.
Ивонин был прикомандирован к квартирмейстерской части Тотлебена. Негласно ему было дано поручение следить за тем, чтобы в Берлине граф Тотлебен строго соблюдал данную ему инструкцию. Инструкция эта обязывала требовать от города знатную контрибуцию, а при неимении денег получить вексель и в обеспечение уплаты взять несколько именитых купцов и ратманов. Кроме того, предписывалось разрушить арсенал, литейный дом, оружейные магазины и суконные фабрики. Последним пунктом оговаривалось, что никому из мирных жителей Берлина не должно чинить обид.
Видимо, Тотлебену было известно о нерасположении к нему Ивонина, потому что он встретил его неласково.
– Я не владею русским языком, – сказал он по-французски. – Мне обещали прислать офицера-переводчика. Это будет, – он вытянул из-за обшлага щегольского мундира листок бумаги и покосился на записанную фамилию, – это будет подполковник Аш. Пока же я с трудом понимаю инструкцию главнокомандующего и предпочёл бы, чтобы она была составлена на знакомом мне языке.
– Я доложу о вашем желании, граф, – сказал Ивонин. – Однако же осмелюсь заметить, что в русской армии официальная переписка до сей поры только на родном языке велась.
Тотлебен вспыхнул.
– Что ещё вам приказано передать мне? – отрывисто спросил он.
– Только то, что фельдмаршал Даун выделил отряд под начальством графа Ласси, который, в свою очередь, двинулся к Берлину.
– Вот как!.. Даун боится, что без него свадьбу сыграют… Я прекрасно могу обойтись без него. Теперь всё?
– Всё, господин генерал.
– Можете итти.
Ивонин вышел с ощущением, что его глухая неприязнь к Тотлебену теперь превратилась в открытую взаимную вражду. Он знал за собой это свойство. Нравился ли ему человек, или, напротив, был неприятен, в обоих случаях его чувство как бы передавалось этому другому. Шатилов не раз подтрунивал над этим:
– Ты всё напрямки да порезче… Ан, иной раз и хитринка надобна. Это только медведь напролом лезет, да и то лоб расшибает. От тебя человек шаг сделает, а ты от него в сей же час десять, да всё норовишь выказать ему, что он не люб тебе.
Но что ж было делать? Лисьи увёртки он ненавидел. Нет, уже лучше резать напрямик…
С этими мыслями он уже почти дошёл до своего жилища, когда до слуха его донёсся могучий бас, выводивший задорную песню.
Ишла армия солдат.
Хорошо капралу, брат:
Он напудрен, набелён,
Черна шляпа со пером, —
горланил бас, а чей-то взволнованный голос уговаривал и усовещевал его:
– Ну-к, полно тебе. Ведь мы на походе. Услышит, не приведи боже, кто из начальства, что от тебя спиртной дух идёт, не миновать тебе плетей. Нешто ты свою спину не жалеешь?
– Плевал я на плети. Бей жену до детей, а детей до людей. Меня стегать поздно: я за три года, почитай, три десятка окаянной немчуры изничтожил, ещё знамя ихнее приволок. Да и какое начальство ноне! Вот у графа Румянцева я был в начальстве, а этот… Тотлебен… выйдет, отряхнётся, на солдат не взглянет, да и поедет… только не туда, куда стреляют, а подалее.
– Молчи, дурья башка, – зашипел второй. – И сам пропадёшь, и меня нивесть за что уморишь.
– Так рази ж не правда?
– Правда твоя, мужичок, а полезай всё же в мешок… Нашёл где правду искать! В солдатах.
Ивонин, стоявший в тени, выдвинулся на освещённое бледной луной место.
– Почему же в солдатах правды не найти? – сказал он негромко.
Теперь он имел возможность рассмотреть их. Один был громадного роста, он нетвёрдо держался на ногах и сейчас, отпрянув при неожиданном появлении офицера, перебирал ногами, тщетно силясь встать ровно. Другой… Впрочем, разглядывать другого не приходилось: знакомый голос с радостным удивлением произнёс:
– Никак, господин Ивонин? Здравья желаю, вашбродь.
– Емковой?
– Мы самые. Второй Московский в сей отряд назначен.
– А этот – из ваших?
– Из наших, вашбродь… Вместе в Углицком служили. Алефаном зовём. В бою целого взвода стоит, а вот на тебе: нашёл где-то штоф сивухи и теперя, пёс его возьми, захмелел вовсе. Вашбродь! Будьте отцом родным. Он это впервой. Молод ещё да дурен. К утру он ни в одном глазе…
– Я, так и быть, прощу. Да, смотри, как бы адъютант начальника, подполковник Бринк, не увидел. Этот строгий.
– Я его в момент домой доставлю. Там уж поучу его малость, обормота. Спасибо, вашбродь.
– А не боюсь я никого, – вмешался вдруг дотоле молчавший Алефан. – Я, ваша высокобродь, с Астрахани. Там у нас немцем прозывается мешок с песком, который на малых судах для перекренки от ветра ставят. Я энтих мешков погрузил на своём веку вдосталь. И живой немец мне не в диковинку. А начальства я тож не пужаюсь. Потому меня господин ротный учил: ходи право, гляди браво. Я же…
– Что здесь есть за шум? – раздался вдруг холодный голос. – Как стоишь, любезный? Э, да ты пьян?
Емковой с отчаянием смотрел на Ивонина. Тот, поморщившись, обратился к вновь подошедшему:
– Я знаю этого солдата, господин барон. Разрешите мне расследовать это дело и взыскать с него.
– Как дворянин дворянину готов услужить вам, – ответил Бринк. – Но как официальное лицо, не имею права. Могу лишь обещать, что до окончания экспедиции установленное наказание не будет приведено в исполнение. Ступай-ка за мной, любезный.
Ивонин пожал плечами и, не глядя на Емкового, зашагал прочь.
После днёвки войска продолжали своё движение. Днём второго октября конные части передового отряда достигли Вустергаузена, а к ночи туда прибыла и пехота, посаженная на повозки. В этот же день Чернышёв подошёл к Фюрстенгальде, а главные силы русской армии приблизились к Рубину.
В Берлине царила растерянность. Комендант города, генерал Рохов, отдал приказ гарнизону очистить город. Но в Берлине лечились от ран генералы Левальдт, уволенный к тому времени в отставку, Кноблох и Зейдлиц. Они явились к Рохову и потребовали, чтобы он защищал столицу.
– У меня всего три батальона пехоты и четыре эскадрона кавалерии, – заявил Рохов.
– Прежде чем подойдут русские, вы получите сильное подкрепление, – уверял его Зейдлиц.
Рохов, поколебавшись, уступил и немедленно начал укреплять подступы к городу.
Берлин, расположенный на берегах реки Шпрее, был окружён обширными предместьями, три из которых находились на правом берегу, а четыре, в том числе замок Копеник, у переправы через реку – на левом. На правом берегу город прикрывался палисадом, на другом берегу – невысокой каменной оградой.
Проникнуть в предместья можно было через десять ворот: Котбусские, Галльские, Бранденбургские и Потсдамские на левом берегу Шпрее и Гамбургские, Розентальские, Шонгаузенские, Аандсбургские, Франкфуртские, Восточные – на правом.
Перед всеми воротами начали набрасывать флеши и ставить в них пушки. Ночью работа не прекратилась. При дымном свете факелов тысячи людей копали землю и пробивали бойницы в стенах.
Однако ни эти приготовления, ни пребывание в Берлине прославленных Фридриховых генералов, ни даже известие о подходе крупных сил, высланных королём, – ничто не могло успокоить берлинское население.
Жители предвидели капитуляцию города. Зная, как ведёт себя прусская армия в занятых местностях, они не рассчитывали на снисхождение русских. Кто мог, покидал Берлин и бежал. Тщетно взывал Рохов к добрым берлинцам, обнадёживая, грозя и умоляя. Никто не хотел итти копать укрепления, никто не верил ему. Купцы, ратманы, дворяне – все, кто побогаче, старались нанять экипаж и уехать.
Прислушиваясь к покуда далёким залпам русской артиллерии, они с бледными, смущёнными лицами торопливо рассаживали в нивесть откуда появившихся старомодных рыдванах и простых крестьянских подводах своих домочадцев. Они оставляли награбленное в Силезии, наворованное в Саксонии, бросали на произвол судьбы собственное имущество. Война, казавшаяся таким прибыльным делом, обернулась другой стороной. Война пришла к ним в гуле русских орудий, в смятении и растерянности кичливых генералов, и прусская столица с трепетом ждала расплаты.