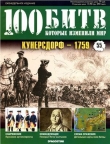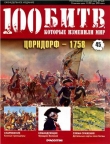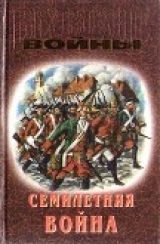
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц)
Утром третьего октября первые гусарские эскадроны и казачьи сотни подошли к Берлину. Погода была ясная и безоблачная. Переправа через Шпрее у Копеника была занята неприятелем, но после короткой схватки гусары завладели ею.
Понемногу, мелкими партиями стала подходить русская пехота. Солдаты с любопытством и одновременно с разочарованием рассматривали город.
– С той норы змеюга, значит, выползла.
– Ужли же столько годов воевать надо, чтоб сие гнездо воровское порушить?
Ивонин с недоумением следил за действиями начальника отряда. Сперва Тотлебен намерен был штурмовать какие-нибудь ворота одной конницей. Но солнце успело уже заметно склониться к закату, а штурма всё не было. Наконец Бринк объявил, что в результате личной разведки начальник отряда решил атаковать Котбусские ворота и назначает атаку на ночное время.
– А почему бы не пробить посредством артиллерийского огня брешь? – спросил Ивонин.
– Генерал Тотлебен не хочет до времени выпалить орудийную амуницию. Он полагает, что сукцесс[34]34
Успех.
[Закрыть] будет одержан и без этого.
– Но тогда, не поясните ли, господин подполковник, отчего именно Котбусские ворота? Ведь, атакуя оные, мы попадаем под фланговый огонь из галльских флешей.
– Так распорядился господин начальник отряда.
Голос Бринка был зловеще сух.
Стемнело. С реки поднялся сырой, холодный ветер. Солдатам не велено было разжигать костров, и они жались друг к другу, с нетерпением ожидая сигнала к атаке.
В десятом часу вечера Тотлебен собрал офицеров. Выпятив грудь, он произнёс длинную напыщенную речь; Бринк почтительно переводил.
– Я предложил берлинскому коменданту капитулировать, но он не согласился. Потому я возьму Берлин штурмом. Атака начнётся в полночь. Триста гренадеров и два орудия под командой князя Прозоровского атакуют Галльские ворота, а равносильный деташемент майора Паткуля – Котбусские ворота. В подкрепление каждому даётся по двести гренадеров и по два эскадрона кавалерии. Я приказываю, чтобы командиры отрядов меня наиподробнейше рапортовали.
«Я… я… – думал Ивонин, угрюмо слушая Бринка. – Мнит себя великим полководцем. Чего глупее: вместо атаки совокупностью в полторы тысячи человек дробить силы наполовину».
Едва окончилось совещание, он торопливо пошёл в отряд Прозоровского, куда был прикомандирован. Чья-то высокая фигура выросла на дороге.
– Ваше высокоблагородие! Дозвольте слово молвить. То я, Алефан. Спасибо вам за вашу милость, что меня оборонить хотели. А только господин Бринк меня к батогам приговорили.
Солдат шагнул вперёд. Ивонин слышал его частое, бурное дыхание.
– Нехай меня лучше насмерть расстреляют. А пороть – я не дамся.
Ивонин подошёл к солдату и положил руку ему на плечо.
– Наказать тебя нужно, в российской армии на походе хмельных быть не должно. Да только не на теле наказать. Правда твоя: таких, как ты, не порют. Вот что, Алефан: сейчас бой, ты в нём себя выкажи, а я опосля генерала Чернышёва о тебе рапортую.
– Вашбродь! Ежели так… Ежели избавите… век мне того не забыть. А насчёт боя – не имейте сумнениев.
Когда Ивонин скрылся из виду, из кустов вышел Емковой.
– Что, дурья башка? Говорил тебе: обратись к нему. Это офицер настоящий!
– И впрямь! Вот бы все у нас такие были. То-то воевали бы!.. Как он сказал мне: «правда твоя», говорит…
– То-то! Правота, что лихота: всегда наружу выйдет.
Они ещё долго говорили об Ивонине, торопливо пробираясь кустарником в свою роту.
В двенадцать часов ночи высоко в небо взлетела ракета, медленно упала в Шпрее и, зашипев, погасла. И сейчас же с громким «ура» русские гренадеры бросились на штурм. Отряд Прозоровского, несмотря на то, что его атака почти не была подготовлена артиллерией, ворвался в Галльские ворота. Но к этому времени гарнизон города уже усилился: за двенадцать часов, напрасно потерянных Тотлебеном под стенами Берлина, туда успели войти первые семь эскадронов из спешившего на выручку корпуса принца Вюртембергского.
Пруссаки установили в домах трёхфунтовые пушки и били почти в упор по гренадерам, проникшим за крепостную ограду. Русские двигались наугад по узким, кривым улочкам, а немцы стреляли из проходных дворов, из переулков, устраивали засады, появлялись оттуда, откуда, казалось, не было путей. Их становилось с каждой минутой всё больше.
Отряд Прозоровского начал медленно отходить. Теснимый со всех сторон, он яростно отбивался, то и дело переходя в штыки. Князь Прозоровский посылал уже второго гонца, прося ускорить посылку подкреплений. Солдаты тоже ждали подмоги.
– Держись, паря. Скоро лезерв подведут, – хрипел Емковой. Алефан, дважды раненный, но оставшийся в строю, молча посылал привычными пальцами пулю в дуло ружья.
Луна скрылась за облаками, и бой продолжался почти в полной темноте, при вспышках выстрелов и дымном пламени от горевшего где-то строения.
– Секунд-майор! Возьмите с собой двух казачков и скачите к начальнику отряда, – обратился Прозоровский к Ивонину. – Гром и пекло! Объясните, что без резерва я дальше держаться не могу, что… Да вы и сами, впрочем, знаете.
Ивонин был рад этому поручению. Отсутствие резерва приводило его в недоумение и беспокойство.
В штабной части он застал всё того же вездесущего Бринка. Как только тот увидел его, сейчас же сказал:
– И вы касательно резерва? Что это князь: третьего человека шлёт. Ему уже послано повеление: незамедлительно учинить ретираду.
– Ретираду?
– Того требует общая польза! Суть в том, что к Берлину подходят весьма многие вражеские войска, и если бы мы ныне заняли город, то не успели бы после вернуть людей обратно и могли бы потерять весь корпус.
Ивонин долго не отвечал. Снова и снова вставал перед ним вопрос: недомыслие или прямая измена?
– Ежели позволите моё мнение выразить, – сказал он наконец, – то, во-первых, и нас знатные силы генерала Чернышёва подкрепить могут, а во-вторых, задачу нашу я в том лишь и усматриваю, чтобы быстрым, стремглавным натиском ошеломить столицу прусскую и принудить её коменданта к капитуляции.
– В обстоятельствах близости неприятеля впереди и сзади того сделать нельзя, – ответил Бринк, пожевав губами.
Ивонин откланялся и вышел.
Выслушав его доклад, Прозоровский пришёл в неистовство.
– Гром и пекло! Да если бояться не успеть вывести людей, то не нужно было и штурма затевать. Мы налёт совершаем, здесь же смелость решает. Коли бы хотели серьёзно Берлин штурмовать, то не посылали бы двухтысячный деташемент. Ужели Тотлебену то невдомёк?..
– Делать нечего, князь. Прикажите ретираду, – хмурясь, сказал Ивонин.
– И сам вижу. Вюртембержцы с трёх сторон уже наседают…
Отряд Прозоровского, потеряв девяносто два человека убитыми и ранеными, отступил. Паткуль ограничился слабой попыткой приблизиться к Котбусским воротам и без потерь вернулся на исходные позиции.
В это время разведка принесла сведения о приближении главных сил принца Вюртембергского, и Тотлебен немедленно отвёл весь свой отряд в Копеник, куда подходил уже корпус Чернышёва.
Глава седьмаяВзятие Берлина
Пятого октября граф Чернышёв принял общее командование собравшимися в Копенике войсками. Неудачные действия Тотлебена требовали того, чтобы энергичной, хорошо подготовленной атакой поправить дело и восстановить престиж русского оружия. В этом с Чернышёвым были согласны все, вплоть до Фермора, тотчас пославшего Чернышёву дивизию генерала Панина и обещавшего в случае нужды явиться к Берлину со всеми остальными войсками.
Панин, разложив провиант по повозкам, шёл форсированным маршем, проходя в день по тридцати пяти вёрст. До его прибытия Чернышёв решил не предпринимать решительных действий, а пока произвести основательную рекогносцировку.
До сих пор на выручку прусской столице подошли только войска принца Вюртембергского, но из Саксонии спешил ещё отряд генерала Гюльзена. Авангард этого отряда под начальством полковника Клейста находился уже у Потсдама.
С целью обеспечить сообщение с Потсдамом и установить связь с ожидавшимися оттуда подкреплениями принц Вюртембергский выдвинул на высоты перед Галльскими воротами три батальона пехоты и двести человек конницы. Для прикрытия Берлина со стороны правого берега на передовые позиции были выдвинуты пять батальонов пехоты, шесть эскадронов драгунов и несколько эскадронов гусаров, под общей командой майора Цеймера.
Неприятель сосредоточивал под Берлином крупные силы, и задача овладения городом с каждым часом становилась всё более трудной.
Чернышёв, исследовав местность, решил нанести главный удар на правом берегу Шпрее. Вспомогательные действия по левому берегу он поручил Тотлебену, связь с которым поддерживалась в районе Копеника особой пехотной бригадой.
Распоряжения эти были вполне разумны. Чернышёв не предвидел лишь последствий, которые возникли оттого, что Тотлебен вновь получил возможность к самостоятельным действиям.
Между тем все помыслы Тотлебена по-прежнему были устремлены на то, чтобы первому войти в город и суметь приписать себе всю заслугу по овладению прусской столицей. Сделать это было тем более трудно, что подошёл австрийский корпус Ласси.
Граф Ласси привёл с собой 14 тысяч человек. И большая численность его войск, и более высокий чин, и более высокие должности, ранее им занимавшиеся (Ласси был начальником штаба у Дауна), давали ему право старшинства над Тотлебеном… Было очевидно, что штурм Берлина на левом берегу Шпрее может быть предпринят только совместно с корпусом Ласси, и притом под главным начальством этого последнего. Поэтому Тотлебен лихорадочно измышлял способы, не доводя дело до штурма, лишь используя создавшуюся для прусской столицы опасную обстановку, заставить берлинского коменданта сдаться. И сдаться именно ему, Тотлебену! Исходя из этого, он решил всеми мерами сдержаться на занятых им позициях у Котбусских и Галльских ворот, как ближайших к городу.
Ласси тоже стремился не столько к общей пользе дела, сколько к тому, чтобы самому завладеть Берлином. Едва расположившись на позициях – перед Бранденбургскими воротами, он попытался через посредство прусского генерала Левенштейна заключить с Роховым капитуляцию. Об этих переговорах он ни словом не известил Тотлебена.
Но на правом берегу, в лагере Чернышёва, господствовало другое настроение. Там предпочитали действовать не уговорами, а силой оружия. Оттуда на Берлин надвигалась подлинная гроза, и отвести эту грозу прусская столица была не в силах.
Шатилову удалось добиться разрешения участвовать в качестве волонтёра без определённых обязанностей в экспедиции. Педантичный Василий Иванович Суворов очень задержал его, и он нагнал войска уже под самым Берлином. Чернышёв, знавший, что премьер-майор был обласкан в Петербурге, обошёлся с ним по укоренившейся традиции придворного быть любезным с теми, кто хорошо принят при дворе, очень приветливо.
– Оставайтесь у меня, – сказал он, – посмотрите шармицель, а неровен час, так и дельце для вас найдётся.
Алексей Никитич, радостный, вышел от Чернышёва и тут же, пройдя всего сотню шагов, встретился с Емковым.
– Здравия желаем! – широко осклабился тот.
– Ты как здесь? Разве Второй Московский не у графа Тотлебена?
– У графа-с… Да, вишь, часть гаубиц генерал Чернышёв к себе забрали. И бомбардиров, значит, с ними.
– Ты секунд-майора не видывал?
– Как же! Они в квартирмейстерской части графа Тотлебена находятся. Очень даже видел их.
– Что же, ты рад, что тебя перевели? Завоевался на том берегу!
– И ещё бы воевал, да воевало потерял, – сдержанно усмехаясь, ответил солдат. – Нам как прикажут… А только, ваше высокобродь, как на духу скажу: мне под их превосходительством Тотлебеном воевать не столь сподручно.
– А что, не любо солдатам у него?
– Дураку что глупо, то и любо, – загадочно сказал Емковой. – Где уж солдату о том помыслить!
– Своеобычный ты мужик, – раздумчиво проговорил Алексей Никитич. – Дерёшься ты, я знаю, славно, а начальников, видно, не уважаешь.
– Как можно, вашбродь! Если солдат начальство не уважит, какой же он солдат! Но опять же – и начальство разное бывает. А наш брат это всё примечает, потому его шкура сейчас же и восчувствует.
– Так-то так, да, по-моему, на войне всем трудно: и солдату простому и воеводе.
Емковой равнодушным голосом сказал:
– Конечно. Хотя у солдатов особливое присловье есть: воеводой быть – без мёду не жить… Дозвольте, однако ж, вашбродь, итти: меня господин поручик послали. Счастливо: вам, вашбродь. И господину Ивонину в землю кланяюсь: о том ему, как свидитесь, непременно скажите.
Солдат откозырял и, чётко печатая шаг, пошёл от Шатилова.
На рассвете седьмого октября Чернышёв двинул свой корпус к местечку Лихтенберг. Здесь проходила цепь высот, занятых отрядом Цеймера.
На своём правом фланге Чернышёв поставил, для защиты от прусской кавалерии, кирасиров под командой Гаугревена и Молдавский гусарский полк. Им вскоре же нашлась работа. Пруссаки не опасались Тотлебена, уже обнаружившего свою неспособность к энергичной атаке, ещё менее опасались они Ласси. Для них было ясно, что главную опасность представляет отряд Чернышёва. Поэтому они решили атаковать его немедленно, пока не подошла к нему дивизия Панина.
День выдался хмурый, то и дело начинал моросить мелкий, скучный дождь. Артиллерийские кони с натугой тащили пушки, которые Чернышёв также велел поставить на фланге.
В девять часов утра немного посветлело; ветер разбросал серую гряду туч, и в просветах показалось бледно-голубое, чахлое осеннее небо. И тотчас же, словно они ожидали этого момента, с холмов понеслись прусские кавалеристы.
Эскадроны принца Вюртембергского атаковали в образцовом порядке, ведя на скаку беглый огонь, быстро пожирая небольшое расстояние, отделявшее их от русских.
Заговорили русские пушки, картечь с визгом врезалась в ряды всадников, образуя в них большие бреши. Среди пруссаков началось замешательство. Принц Вюртембергский вынесся перед эскадронами и, хрипло выкрикивая какие-то неразборчивые слова, размахивая обнажённой саблей, поскакал вперёд. Конная лавина устремилась за ним.
Шатилов, при первых же выстрелах поспешивший к месту боя, смешался с солдатами пехотного прикрытия при батарее и, раздобыв ружьё, стрелял с колена. Он понимал, что две роты прикрытия не смогут отбить атаку столь крупных сил, но вместе с тем он был уверен, что Чернышёв пришлёт вовремя подкрепление.
Немцы были уже совсем близко. Шатилов отчётливо видел их красные, потные, напряжённые лица. И вдруг что-то будто кольнуло его. Всё это было, как случается иногда в жизни, точным повторением прошлого: уже была такая атака, и злые лица мчащихся всадников, и даже возгласы, раздавшиеся у него над самым ухом:
– Пушки! Пушки береги!
Ах, да! Кунерсдорф. Битва на Большом Шпице… Но дальше было не до раздумий. Всё смешалось. Рослые, разъярённые лошади пронеслись мимо него, обдав его комками мокрой грязи, над головой его свистнул палаш. Он инстинктивно метнулся в сторону и выстрелил из пистолета; рядом кто-то закричал дурным голосом, и сразу сделалось почти тихо. Бой переместился дальше, туда, где стояли орудия, и уцелевшие солдаты прикрытия со всех сторон бежали туда, хотя их было в пять раз меньше, чем пруссаков.
Шатилов побежал вместе с другими. Внезапно вокруг грянуло восторженное «ура»: из-за пригорка показались гаугревенские кирасиры и молдавские гусары. Звон сабель, трескотня выстрелов, дикое ржание коней, вопли раненых, остервенелые крики из сотен грудей возвестили о кавалерийской сшибке. Потом вдруг крики замолкли, и, несмотря на продолжающийся шум битвы, всем показалось, что стало очень тихо. А ещё через минуту это грозное безмолвие рубки взорвалось ликующими возгласами: немецкая кавалерия в полном расстройстве мчалась назад, преследуемая кирасирами и гусарами.
– Теперь ладно. Не отдали ему орудиев, – сказал кто-то рядом с Шатиловым. – Одначе антилеристов он успел, видать, многих посечь. Эх, кабы наши конники чуток раньше подоспели!
Алексей Никитич протиснулся вперёд – и обмер: перед ним, шагах в двадцати, лежал на «единороге», обхватив его руками и точно закрывая его собою, солдат. Голова его с тронутыми сединой волосами была рассечена страшным ударом палаша. Но Шатилов сейчас же узнал Емкового.
И в то же мгновенье всё существо его опять пронзило ощущение повторения прошлого, так что даже внутренним холодком обвеяло его сердце. Евграф Семёнович: тот так же лежал, раскинув руки последним усилием, последним движением жизни стремясь закрыть своё орудие. И теперь – Емковой. Та же смерть, тот же бездумный, прекрасный героизм.
Солдаты осторожно положили на траву труп Емкового, закрыли ему глаза и положили на веки медные пятаки.
Двое молодых артиллеристов уже возились подле «единорога», готовясь открыть огонь.
Поражение неприятельской кавалерии позволило Чернышёву продвинуться вперёд и занять важные высоты западнее Лихтенберга. Теперь правый фланг был надёжно прикрыт, и, больше того, создавалась угроза для левого крыла Цеймера. На занятых высотах были немедленно установлены четыре двухфунтовые пушки и два «единорога». Батареей командовал артиллерии-майор Лавров.
Чернышёв лично явился наблюдать результаты стрельбы – и остался очень доволен. После третьего залпа в отряде Цеймера были взорваны зарядные ящики.
Не давая противнику опомниться, русские войска устремились в общую атаку: на левом фланге действовала конница, с фронта наступала пехота. Принц Вюртембергский не решился вступать в упорный бой за выдвинутую вперёд.
Позицию, и отряд Цеймера был оттянут в предместье, под прикрытие палисадной стены.
Вечером прибыли передовые части Панина, покрывшие за двое суток семьдесят пять вёрст. Оба генерала тотчас уединились и стали обсуждать диспозицию штурма прусской столицы.
На правом берегу Шпрее было сосредоточено в это время двадцать три батальона и восемнадцать эскадронов, то есть около 11 тысяч пехоты и 4 тысячи конницы русских войск. Через день сюда должны были подойти главные силы Панина. На левом берегу стоял 9-тысячный отряд Тотлебена и 14-тысячный корпус Ласси.
Пруссаки имели в Берлине двадцать шесть батальонов и сорок один эскадрон. На правом берегу, против Чернышёва, находилось шестнадцать пехотных батальонов и двадцать эскадронов.
В общем, не считая Ласси, русские войска имели полуторный перевес в численности.
Однако принц Вюртембергский, получив сведения, что Фридрих выступил с крупными силами для спасения своей столицы, считал возможным если не вовсе отбить противника, то хотя бы продержаться до появления короля. Как-никак, город был укреплён, снабжён всем необходимым, а численное неравенство возможно было отчасти восполнить формированием вспомогательных отрядов из населения, – благо в арсенале имелось вдоволь оружия. Левальдт и Зейдлиц рекомендовали такой способ действий: предпринять главными силами атаку на правом берегу и, обойдя правый фланг Чернышёва, принудить его к отступлению. В то же время на левом берегу отряды Тотлебена и Ласси будут скованы демонстративными выпадами Гюльзена. Так выгадывалось время: пока русские оправятся и возобновят наступление, успеет прибыть армия короля.
Чернышёв и Панин не имели точных сведений об этом плане, но в общих чертах рисовали его себе достаточно верно.
– Первое моё убеждение, – заявил Чернышёв в начале совещания, – в том, что неприятель, собравшись со всех сторон и с таким поспешением на защиту столицы, не оставит оной на жертву, но до последней крайности обороняться и город защищать станет.
– Мы судим по себе, граф Захар Григорьевич, – задумчиво сказал Панин, – мы, россияне, в сём случае бились бы смертно, Но пруссаки – не русские. О том забывать не следует.
Чернышёв стал горячо возражать. Он доказывал твёрдое намерение неприятеля защищать Берлин тем, что, во-первых, Гюльзену незачем было бы иначе пробиваться в город, во-вторых, тем, что неприятель, безусловно, рассчитывает на отсутствие единого командования у союзников, на разобщённость их войск рекою, и, наконец, на свои укрепления. Исходя из этого своего убеждения, он решил отложить общий штурм ещё на день, до подхода всего отряда Панина.
Начало штурма было назначено на семь часов утра девятого октября.
Диспозиция боя была разработана во всех подробностях.
После пробития утренней зори и трёх выстрелов все войска, построенные в полудивизионные колонны и имея на флангах кавалерию, начинали продвижение к Берлину. Подойдя на дистанцию действительного ружейного огня, они разворачивались и атаковали прежде всего высоты, прилегавшие к предместьям города. В первых рядах велено было ставить гренадерские роты[35]35
Гренадеры формировались из наиболее сильных людей; вооружение их было также лучше: они имели гранаты, которых не было у мушкетеров.
[Закрыть]. Полковой артиллерии предписывалось следовать при своих полках и, когда закончится выстраивание, тотчас начать скорострельную пальбу. Полевая артиллерия получала задачу обстреливать дальние цели.
Предусмотрено было даже количество людей, могущих сопровождать раненых: для вывода тяжело раненных отпускать из строя не более чем по одному человеку.
Единственное, что не упоминалось в диспозиции Чернышёва и Панина, – это путь ретирады. Судя по сосредоточению обозов у Копеника, именно там проходила дорога отступления в случае неудачи. Но прямого указания на это в приказе не имелось. Зато всем командирам и солдатам ставилось задачей: «сию атаку наисовершеннейшим образом произвесть», «удержать ту славу и честь, которую российское оружие чрез так долгое время сохранило».
Целую ночь на девятое октября Чернышёв и Панин опрашивали полковых командиров, всё ли у них готово и каково настроение солдатства. Ответы были единодушны. «Невозможно довольно описать, с какою нетерпеливостью и жадностью ожидают войска сей атаки; надежда у каждого на лице обозначается». Такими словами доносил командир Кексгольмского полка, и почти так же командиры Апшеронского, и Вятского, и Невского, и Бутырского, и 1-го Гренадерского, и Муромского, и всех других пехотных, конных и артиллерийских полков.
– На сей раз им несдобровать, – сказал Панин. – В Берлине русского штыка ещё не видали. Нынче узнают, сколь он остёр.
Раздался рокот барабанов: били зорю.
– Ну, господи, благослови! – поднялся Чернышёв. – Поедемте, генерал, к Четвёртому Гренадерскому. Там наше место будет. Через полчаса начнётся штурм.
Вдруг под окнами послышался бешеный галоп лошади.
– Ординарец! – встрепенулся Панин и, не дожидаясь, пока прибывшего введут, сам бросился в нетерпении навстречу ему.
Через минуту он вошёл, растерянный и смущённый.
– Граф! А, граф! – жалобно проговорил он. – Улизнули пруссы… отступили.
– Что? Как отступили? – вне себя вскричал Чернышёв.
– Из авангарда доносят: сегодня ночью все войска столицу покинули и ушли на Шарлоттенбург к Шпандау. Замахнулись мы, а бить-то некого… Эх! – и он в сердцах произнёс старинный «русский титул».
Чернышёв в ярости ударил по столу своей любимой янтарной трубкой так, что она с треском рассыпалась на мелкие кусочки.
– Испугались! Кичатся, что первые, дескать, в Европе воители, а вот какова их повадка! Столичный свой город, и тот… Без дефензивы… Генерал! Велите тотчас преследовать неприятеля, отрядив всю конницу и гренадеров в Шпандау. Прикажите также направить для преследования все лёгкие войска, какие только попадут вам.
Панин мгновенно вышел. Чернышёв позвонил.
– Кто из адъютантов? Подполковник Ржевский? Пущай сей же час скачет в Берлин и требует у коменданта формальной капитуляции. Вступление войск совершится сегодня в полдень с торжественным церемониалом.
Он потрогал зачем-то пальцем валяющиеся на столе осколки янтаря и резкими шагами вышел из палатки.
Пруссаки действительно ночью отступили. Узнав, что на правом берегу ведутся обширные приготовления к атаке, принц Вюртембергский созвал военный совет. Настроение было подавленное, никто не верил в успех обороны. Неудача кавалерийской атаки, на которую возлагалось много надежд, явилась, даже в глазах Зейдлица, доказательством превосходства русских. Кноблох и Гюльзен сразу предложили под покровом ночи покинуть столицу, Рохов с горячностью поддержал их. Остальные мрачно молчали.
Было решено немедленно вывести все войска, предоставив генералу Рохову полномочия выработать условия сдачи оставляемого в городе незначительного отряда. Условиями капитуляции для гражданского населения должна была ведать городская ратуша.
Оставался вопрос, с кем заключить капитуляцию; этого военный совет не касался, но тут на сцену выступил Гоцковский.
В то время, как в Берлине происходили эти события, Тотлебен неустанно изыскивал способы предстать единолично завоевателем прусской столицы.
Зная о том, что через несколько часов начнётся общий штурм и возможность сделаться «героем» Берлина будет невозвратно упущена, Тотлебен решил предпринять последнюю попытку. Он велел начать обстрел города, а между тем попытался установить связь с ратушей. Гоцковский сразу учёл, что с этим генералом будет выгоднее вести переговоры, чем с Чернышёвым. Правда, был ещё Ласси, но берлинские купцы не верили в дисциплинированность австрийских войск и предпочитали ввериться русским.
В три часа ночи, едва закончился военный совет, к Тотлебену явились парламентёры: майор Вегер и ротмистр Вагенгейм. Тотлебен принял их с плохо скрываемой радостью. На переговоры были допущены лишь Бринк и бригадир Бахман. Думая только о том, чтобы успеть подписать капитуляцию до начала штурма, Тотлебен страшно торопился.
В четыре часа утра пункты военной капитуляции были установлены.
Все оставшиеся в Берлине солдаты и офицеры объявлялись военнопленными и должны были утром явиться к Котбусским воротам, чтобы сложить там оружие. Находившиеся в городе русские пленные передавались Тотлебену. Рохов обязывался также выдать военные припасы и артиллерию. Со своей стороны, Тотлебен гарантировал неприкосновенность имущества граждан. Для выработки условий охраны граждан и их имущества к Тотлебену должен был явиться лично Гоцковский.
В пять часов утра конно-гренадёры Санкт-Петербургского и Рязанского полков заняли караулами все ворота на левом берегу Шпрее. Одновременно Бахман, назначенный Тотлебеном на должность коменданта Берлина, с двумя сотнями пеших гренадеров расположился в городе, на площади у королевского замка.
Только тогда Тотлебен послал Бринка к Чернышёву с лаконичным известием о капитуляции Берлина. Бринк встретил Ржевского, скакавшего к Рохову с требованием сдать город.
– Возвращайтесь обратно, подполковник, – сказал Бринк: – капитуляция уже заключена.
– Когда?
– Два часа назад.
– Без ведома графа Чернышёва?
– Граф Тотлебен представит ему на утверждение облигации[36]36
Облигации – обязательства.
[Закрыть] города… Наш деташемент уже вступил в Берлин.
Ржевский ударил нагайкой коня так, что тот взвился на дыбы, и, не прощаясь с Бринком, помчался к Чернышёву.
Там уже дым стоял коромыслом. Ласси прислал протест против того, что Тотлебен не известил его о переговорах с пруссаками. Тучный австрийский полковник, разбрызгивая слюну, кричал, что австрийские гусары хоть силою водворятся в Галльских и Бранденбургских воротах, и требовал, чтобы ему немедленно выплатили часть обусловленной контрибуции.
Чернышёв, брезгливо морщась, приказал выдать австрийцам пятьдесят тысяч талеров и уступить им двое ворот.
Это было единственное распоряжение Чернышёва, касавшееся капитуляции. Более он не вмешивался в действия Тотлебена, ограничиваясь угрюмым пожатием плеч. Только однажды он отозвался:
– Граф Тотлебен глуп, как драгунский капитан[37]37
Существовавшая в то время армейская поговорка.
[Закрыть]. Мы знатный успех возымели, к прусской столице стремглавно приблизились, победу над вюртембергцами одержали и пятнадцать тысяч неприятелей к бесславному бегству принудили. Мы хозяева на этой земле. А Тотлебен себя торопливой птицей залётной выставляет.
Зато с тем большей энергией Чернышёв руководил преследованием отступавших из города пруссаков. Уйдя от Тотлебена и Ласси, Гюльзен не смог уйти от Чернышёва. Арьергард его корпуса под командой Клейста был настигнут по дороге к Шпандау молдавскими гусарами и казаками Краснощёкова.
Клейста Фридрих считал одним из лучших командиров и даже образовал особый полк его имени. Когда гусары и казаки опрокинули клейстовскую конницу, этот полк сумел задержать их. Он занял сильную позицию в межозёрном дефиле, усилил фланги приданными ему фрей-батальоном Вунша и егерями и отбил две атаки русской кавалерии. Ему благоприятствовали условия местности: кавалерии негде было развернуться, вследствие чего она служила отличной мишенью.
Клейст надеялся уже, что сумеет оторваться от преследователей, но тут показались гусары Текели и кирасиры. Начался разгром.
Батальон Вунша и все егеря, увидев себя окружёнными, сдались в плен. Полк имени Клейста был почти весь изрублен.
Пруссаков гнали до самого Шпандау, не давая им нигде закрепиться. Свыше тысячи человек было взято в плен, а окрестные крестьяне подобрали две тысячи немецких трупов. Других войск под Берлином не было. Прусская столица, беззащитная и покорная, лежала у ног победителей.