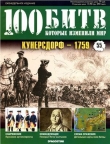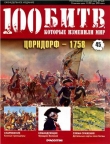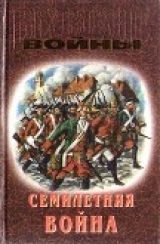
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
В доме купца Винцента, где остановился Тотлебен, было очень тревожно. Адъютанты и ординарцы ходили на цыпочках, разговаривали чуть ли не шёпотом и, едва заслышав шаги начальника отряда, старались юркнуть в смежные комнаты. Все знали, что граф очень не в духе, а в такие минуты лучше было не иметь с ним дела.
Тотлебен с утра сидел в одиночестве и грыз ногти, что всегда служило у него признаком крайнего раздражения. Он чувствовал себя, как игрок, сорвавший крупный куш и обнаруживший вместо золота простые медяшки. По ряду признаков он понимал, что самочинные поступки не сойдут ему безнаказанно. Несомненным симптомом этого являлось уже то обстоятельство, что в армии не было никакого торжества. Согласно заведённому обычаю после каждого крупного успешного события в войсках тут же, на месте, служили благодарственные молебствия. Так было всегда, даже после мирного занятия Кёнигсберга. В данном случае, однако, ничего этого предпринято не было. Тотлебен не скрывал от себя, что дело приняло непредвиденный и очень нежелательный оборот.
– Шорт и дьявол! – хотя Тотлебен очень плохо усвоил русский язык, но ругался он всегда по-русски. – Кто там? Позовить ко мне секунд-майор Ивонин.
Тотлебен не сомневался, что, собирая сведения об его действиях в Берлине, главная квартира даст большую веру информации этого сумрачного офицера. Значит, нужно, чтобы он кое-чего не заметил, а кое-что увидел в определённом освещении.
– Секунд-майор ушёл в город. Прикажете разыскать его?
– Да. И срочно. – Тотлебен с раздражением заходил опять по комнате, время от времени останавливаясь перед развешенными на стенах семейными портретами Винцентов.
Между тем Ивонин, не торопясь, шагал по берлинским улицам. Ничто в городе не напоминало, что сюда только накануне вступила неприятельская армия. Двери и ворота были открыты, перед домами толпился народ, перед общественными зданиями были выставлены русские караулы. Порядок поддерживался во всём образцовый, и Борис Феоктистович ощутил чувство гордости за русское войско. «Вот и северные варвары! Не в пример прусским. Да и союзникам нашим пример с них брать надлежало б».
В самом деле, там и сям навстречу ему попадались пьяные австрийские солдаты. Они горланили песни, задевали женщин; почти все несли какой-нибудь скарб, видимо, только что награбленный в домах.
Жители угрюмо сторонились австрийцев, к русским же подходили безбоязненно и пытались завязать с ними беседу. Впрочем, эти попытки не имели особого успеха.
– Тут лопочут: шас – вас да кабер – вабер, – презрительно сказал один гренадер, – а к ихнему брату в лапы попасть не приведи господь! Я вот четыре месяца в плену был. – Он обнажил голову, на которой сохранились только редкие пучки волос. – Глянь-ка, Плясуля. До плена не был плешив…
– С радости кудри вьются, с горя секутся, – усмехнулся тот. – Лютовали над тобой?
– Ох, лютовали! А ныне – шёлковые. Дай им веру во всём.
– А ты знай толк, не давай в долг, – сурово сказал тот, кого называли Плясулей. – Верь им, да с оглядкой.
Ивонин пошёл дальше. Вдруг кто-то окликнул его.
– Алексей, ты ли? – отозвался он, узнав Шатилева.
– Аз есмь. Отпросился взглянуть на фридериковскую капиталь[38]38
От французского «la capitale» – столица.
[Закрыть]. Много о ней наслышан.
– От кого?
– От приятеля покойного батюшки, господина Гросса, который в Берлине должность российского посла отправлял. Не слыхал ты, как он отсюдова уехал?
– Не припомню.
– Фридерик однажды, будучи недоволен мероприятием нашего правительства, не пригласил Гросса на ассамблею. Узнав о том, государыня велела Гроссу тотчас вернуться в Петербург. Середь бела дня господин Гросс, не нанеся даже прощального визита королю, покинул Берлин в карете, запряжённой шестёркой цугом, и при звуках почтовых труб. С ним уехал австрийский посол, граф Бубна, аглицкий же посланник их до первой станции проводил. Это ровно десять лет назад произошло.
– Знатно! Однако куда же ты теперь идёшь, непутёвый?
– В Люстгартен. Там на плацу экзекуцию над газетирами учинять будут за вральные их статьи и пасквили о русской армии. Я только что дворцы королевские осматривал. Музеумы в них богатые. И подле каждого наши караулы стоят, оберегают от хищений.
Ивонин засмеялся.
– Я разговор солдатский подслушал. Им сие не очень по душе. Однако ж и то сказать: порядок поддерживается отменный. Всей Европе на удивленье…
– В особенности, если сравнить с цесарцами. Они здесь преступили, кажется, все меры. Ворвавшись, как бешеные, в королевские конюшни, они расхватали всех лошадей и, ободравши экипажи, изрубили их в куски. В Шарлоттенбургском дворце они истребили всё, что им попалось на глаза, разбивали там дорогие мебели, ломали вдребезги фарфоры, зеркала, рвали по лоскуткам шитые золотом обои, уничтожали все греческие антики. Здесь, в центре, они только наших постов оберегаются.
Шатилов вдруг остановился.
– Чуть не прошли. Вот он, Люстгартен. А на этом плацу парады устраиваются, теперь же другое действо учинено будет.
Обширная площадь была черным-черна от людей. Окрестные заборы, окна и балконы домов также были усеяны любопытными. В центре площади, в кольце русских гренадеров, угрюмо переминалось с ноги на ногу десятка два неопределённого вида людей. Это были редакторы и наиболее ретивые журналисты берлинских газет. В продолжение нескольких лет они изо дня в день клеветали на Россию, сообщали небылицы о ней, выдумывали всякий гнусный вздор о русских войсках, твердили об их слабости, неспособности противостоять благоустроенной европейской армии Фридриха и т. д. И вот теперь оказалось, что эти войска проникли в самое сердце Пруссии, и население, так долго верившее газетам, видит в них защиту от австрийских мародёров, а сами они, эти газетиры, уныло стоят, не вызывая ни в ком сочувствия, и ждут законной расплаты.
Вдруг всё стихло. Высокий офицер в форме подполковника выступил вперёд и начал громко читать приказ. Стоявший рядом с ним толмач повторял каждую фразу по-немецки… За клевету и лживые пасквили, порочащие российскую армию, газетиры приговаривались к телесному наказанию: по двадцать пять ударов каждому.
Ударили барабаны. Шестеро солдат с длинными ивовыми прутьями в руках вышли вперёд и стали засучивать рукава. Молодцеватый капрал подошёл к журналистам и знаками предложил им раздеться. Те поспешно начали снимать с себя камзолы. Толпа вокруг заулюлюкала, засвистала. Капрал показал, что надо снять также штаны. Газетиры, смешно прыгая на одной ноге, стали стягивать узкие штаны.
Свист и хохот в толпе усилились. Град насмешек сыпался на злополучных журналистов.
– Ты слышишь? – сказал, смеясь, Ивонин. – Они кричат, что это справедливо: газетиры держат ответ тем местом, которым они думали, когда свои статьи писали.
Внезапно барабаны умолкли. Высокий подполковник поднял руку и прочитал в наступившей тишине новый приказ: от имени милосердной государыни всем виновным объявлялось прощение, но с предупреждением, что если они и впредь будут возводить поклёпы и неуважительно отзываться о русской армии и русских людях, то их постигнет заслуженное наказание. Газетиры с лихорадочной поспешностью одевались; зрители, явно разочарованные, расходились.
– Ваше высокобродь, – сказал кто-то, – приказано господину секунд-майору сей же минут до квартиры иттить.
Ивонин с удивлением посмотрел на вестового казака.
– Как ты нашёл меня?
– По всему городу ищут-с… Их сиятельство требуют.
Наскоро распрощавшись с Алексеем Никитичем, Ивонин направился в штаб. Тотлебена там уже не было, но Бринк передал ему поручение генерала составить ведомость трофеев, а также список учинённых разрушений.
На следующий день Ивонин передал рапортичку. Убитых в берлинском гарнизоне насчитывалось 612 человек, пленных было взято 3900 человек. В числе пленных – генерал Рохов, два полковника, два подполковника и семь майоров. Уничтожены литейные и пушечные дворы близ Берлина и Шпандау и оружейные заводы. Однако ни арсенал, ни суконная фабрика, работавшая на армию Фридриха, не были разрушены. Сохранился также монетный двор и главный провиантный склад.
Прочитав записку Ивонина, Бринк долго молчал.
– Известно ли вам, что названные учреждения сохранены, так как доходы с них идут не королю прусскому, но разным благотворительным учреждениям, например Потсдамскому сиротскому дому?
– Я только описываю, что есть, а объяснять и толковать приказы начальника отряда не вправе, – скривив губы, сказал Ивонин.
– Но это, наконец, и неверно: монетный двор разрушен…
Ивонин только пожал плечами.
– Вы не указываете, – продолжал Бринк, – что у жителей отобрано и брошено в реку оружие.
– По сведениям, мною собранным, доставлено лишь четыреста старых и вовсе негодных ружей.
Бринк покраснел.
– Навряд граф будет доволен вашим рапортом. Вы уж не считаете ли всю экспедицию неудачной?
– Напротив. С потерей всего ста семидесяти человек российские войска овладели вражеской столицей, взяли много пленных, почти шестьдесят орудий и нанесли знатный урон фабрикам. Однако же результаты экспедиции могли бы ещё гораздо важнейшими быть.
Бринк встал, показывая, что беседа окончена.
…В день занятия Берлина главные силы русской армии соединились у Франкфурта с корпусом Румянцева. В тот же день стало известно, что Фридрих, собрав всё, что мог, форсированными маршами идёт к Берлину. Чернышёву был послан приказ немедленно отступить, не ввязываясь в сражение.
В ночь на двенадцатое октября из-под Берлина выступила дивизия Панина (потерявшая, к слову сказать, за время похода всего шестерых убитыми и троих ранеными). Этим же днём двинулись войска Чернышёва и Ласси, а вечером – отряд Тотлебена.
Спустя двое суток все участвовавшие в берлинской экспедиции полки, приведя с собою пленных и трофеи, прибыли во Франкфурт.
– Из Берлина до Петербурга не дотянуться. Но из Петербурга до Берлина достать всегда можно.
Эта крылатая фраза, произнесённая Петром Шуваловым по получении подробных отчётов о походе, вмиг облетела Петербург и, повторенная в дипломатических донесениях, перешла оттуда в Париж и Вену.
Берлинская экспедиция показала всей Европе, что дело Фридриха безнадёжно проиграно. Завоевательные планы прусского короля обернулись против него самого.
Армия, которую Фридрих II пренебрежительно называл московской ордой, оказалась сильнее, чем его хвалёные войска. Не помогли ни Левальдт, ни Зейдлиц, ни Клейст. Не хватило сил оттеснить от Берлина русских, не хватило мужества принять бой в городе, чтобы продержаться хоть несколько дней до подкреплений или хотя бы добиться почётных условий капитуляции.
Корыстолюбие и тщеславие Тотлебена было широко использовано берлинцами, но оно не могло избавить их от унижения перед всей Европой, – унижения видеть на улицах своей столицы торжествующих иноземных победителей.
После берлинской экспедиции стало очевидно, что сколько бы побед ни одерживал впредь Фридрих, слава его никогда не засияет, как раньше. Она лопнула, словно мыльный пузырь, померкла от блеска русских штыков перед королевским дворцом в Берлине.
Глава восьмаяАрест Тотлебена
Если граф Тотлебен полагал, что его авантюра под Берлином сойдёт безнаказанно и принесёт ему золотые горы, то он вскоре убедился, что это не так.
В Петербурге были бы вполне довольны результатами налёта, если бы не действия Тотлебена: сперва несерьёзная попытка штурма, затем самочинное заключение капитуляции, подозрительные поступки в Берлине и, наконец, вовсе неприличное поведение после похода.
Тотлебен приписывал недовольство его действиями проискам врагов, ругал всех и вымещал злобу на русских солдатах. Узнав, что квартирмейстер Пуртхелов присвоил какую-то мелочь прусского помещика, в усадьбе которого стоял на постое, он велел навечно списать Пуртхелова в рядовые и дать ему двести палок. Пуртхелова унесли на рогожах еле живого. Случай этот вызвал большое волнение среди солдат и офицеров, дошёл до главнокомандующего; и тот распорядился, чтобы впредь подобные приговоры представлялись ему на конфирмацию.
В конце концов Тотлебен надумал обратиться непосредственно к общественному мнению.
– Завистники увидят, что вся Европа мои заслуги признает, – с горячностью пояснял он почтительно слушавшему Бринку.
Запёршись в своей комнате, он в несколько дней написал реляцию. Тут всё было ложно: Тотлебен клеветал на Чернышёва, будто тот отказал ему в помощи, клеветал на русских артиллеристов, будто они плохо стреляли, на солдат, будто они пьянствовали, на Ласси, будто он сговорился с Гюльзеном, – словом, на всех, и только себя выхвалял и ставил взятие города себе в заслугу. Реляцию эту он послал по начальству и одновременно, без ведома главнокомандующего, опубликовал её в кёнигсбергских газетах.
В Петербурге негодовали. Реляция была глупа и дерзка. Обнародование её возмутительно. Даже Воронцов отступился от своего протеже. Конференция послала Тотлебену строгое письмо. Ему предлагалось просить извинения у Чернышёва за облыжные против него выпады и публично отречься от всей реляции, с опубликованием сего в тех же кёнигсбергских газетах. Кроме того, от него потребовали изъять все отпечатанные экземпляры злополучной реляции.
Тотлебен всему подчинился. Уязвлённое самолюбие побудило его всё же подать в отставку. Салтыков и даже Фермор, не задумываясь, приняли бы её. Но, на счастье Тотлебена, в это время был уже новый главнокомандующий, сменивший вконец разболевшегося Салтыкова. Вместо графа Петра Семёновича хотели было назначить Румянцева, да решили, что он ещё молод; хотели Чернышёва, да с ним не в ладах оказался Шувалов. Остановились на графе Бутурлине. Правда, он не умел пользоваться географической картой, но зато был со всеми хорош.
Прошение Тотлебена об отставке попало к Бутурлину, но он не захотел дать ему ходу: ещё скажут, что с ним не уживаются генералы. Он отдал в команду Тотлебену все лёгкие войска и разрешил сноситься лично с ним.
Когда Тотлебен, явно довольный таким исходом и напыщенный от важности, выходил от главнокомандующего, его остановил Ивонин и обратился с просьбой избавить от телесного наказания солдата Егора Березовчука, в уважение к его отличиям под Берлином и прежней беспорочной службе. Тотлебен повёл бровями.
– Was ist's[39]39
– В чём дело?
[Закрыть] – спросил он у Бринка.
Тот, хмурясь, пояснил:
– Я велел высечь солдата за то, что он был пьян. Об этом грустном случае я рапортовал вам тогда же. Наказание откладывалось, так как виновный не оправился от ран. Ныне же он выздоровел – и на послезавтра назначена экзекуция.
– Из-за такой пустяки ви меня задерживать, – сказал, безбожно коверкая русские слова, Тотлебен. – Господин Бринк есть ганц прав. Ви сам должен понимает, что солдатом нельзя командовать без палка.
– Можно! Помилуй бог, можно! Прусским солдатом – нельзя, австрийским, может быть, тоже, а русским – можно, – произнёс рядом с ними чей-то уверенный, резкий голос.
Ивонин живо обернулся, ища глазами нежданного союзника, и даже весь задрожал от радостного волнения: перед ним стоял Суворов. За всё время он не сказал с ним и двух, слов, но в мыслях своих, которые он не поверял даже самому близкому другу, он видел его своим наставником.
– Подполковник Суворов, – с кислой улыбкой проговорил Бринк, – видит мир таковым, как ему бы хотелось, а не каков оный есть в действительности. Солдаты везде солдаты. И любящий их начальник знает, что разумное наказание всегда идёт им в пользу.
– Токсен[40]40
Болтовня.
[Закрыть], – буркнул Суворов. – Мать дитя любит, а волк овцу любит. Так и начальники разные бывают. Дозвольте мне предложение сделать. Ныне я занимаю должность начальника штаба в конном корпусе генерала Берга. Отдайте мне этого солдата, и ежели он хоть раз за целый год проштрафится, я тотчас его верну вам, господин Бринк, дабы вы ему столько палочек прописали, сколько найдёте пользительным.
– C'est assez[41]41
Довольно (франц.).
[Закрыть], – усталым голосом сказал Тотлебен. – Отдайте, Бринк, этого пьянчугу господину подполковнику, и будем посмотреть, что из сего выйдет. – Он небрежно кивнул головой и проследовал дальше, сопровождаемый разъярённым Бринком.
Ивонин и Суворов остались одни.
– Помилуй бог, обозлился как немчура этот, – сказал Суворов и вдруг скорчил презабавную гримасу.
Ивонин невольно улыбнулся и сразу почувствовал себя легко.
– Премного вам благодарен, – сказал он. – А солдат отменный: богатырь собою и страху не ведает.
– Бедная Россия! – сказал Суворов, и лицо его вдруг сделалось грустным и задумчивым. – Сколько богатырей забиты палочками! Сколько талантов погибло! Талант, сударь, есть алмаз в коре: он должен быть вынут, передан гранильщику и положен на солнце.
Он опять улыбался, а глаза его испытующе смотрели на Ивонина, и тот почти физически чувствовал этот проницательный, всевидящий взгляд.
– Дозвольте отрекомендоваться, – сказал, краснея, Ивонин – секунд-майор Борис Феоктистыч…
– Знаю, знаю! – перебил его подполковник, уморительно замахав руками. – Всё знаю про вас. Отменный офицер-с… И солдатушки хвалят. Оттого и вступился… Ввечеру уезжаю, а как вновь свидимся, приходите ужо обедать. Водочкой угощу, тары-бары поведём. А пока шлите ко мне пьяницу вашего, увезу его поскорей: неровен час, граф Тотлебен передумает. Прощайте, сударь.
Он пожал руку Ивонина своей маленькой, горячей, крепкой рукой и ушёл быстрой, чуть подпрыгивающей походкой.
…………………………………………………………………………………………….
Через час Алефан явился к новому своему начальнику. Введённый в скромно, чуть ли не бедно обставленную комнату, он увидел ещё молодого человека, сидевшего без мундира перед ярко пылавшим камином и с аппетитом уплетавшего гречневую кашу.
«Этот, что ли?» в мучительном недоумении подумал Алефан, на всякий случай вытягиваясь на пороге.
– Ты кто, братец? – спросил сидящий и, не донеся ложку до рта, склонив немного набок голову, лукаво посмотрел на него.
– Рядовой Егор Березовчук… По приказанию… В вашу команду… Потому, как…
Он вконец сбился и замолчал.
– Так… так…
Встав из-за стола, неизвестный человек обошёл вокруг Алефана, глядя на него снизу вверх, присматриваясь, чуть ли не принюхиваясь.
– Не годен! – вдруг закричал он пронзительно, так, что солдат вздрогнул. – Ступай обратно! К господину Бринку. Не годен ты мне!
– Почему же, ваш высбродь? – помертвевшими губами спросил Алефан.
– А потому, что ты водку пьёшь, в походе пьян… Наслышан о тебе. Мне солдаты нужны, а ты не солдат.
Мгновенье он смотрел на обмершего Алефана, потом подскочил к нему и, поднявшись на цыпочки, стал нагибать его голову.
Алефан покорно согнул, сколько мог, шею. Ему уже было всё равно: «Нонче жизни себя порешу, а к Бринку под плети не вернусь».
– Ты – богатырь, – шёпотом сказал странный офицер на ухо Алефану. – Русский богатырь, вот ты кто! Да будь у меня такая силища, я бы… Ты богатырь, братец, и солдат – значит, вдвойне могуч, значит, чудо-богатырь. Ты знаешь, что сие означает: русский солдат?
Алефан в растерянности моргал глазами.
– Сие значит: непобедимый воин. Он татар бил, полячков бил, шведов бил… У тебя отец-то в войске служил?
– Точно так, – только и мог выговорить Алефан.
– Ин, верно, с царём Петром Карлуса под Полтавой били. А про то, как шведов русское воинство било, слыхивал? На Чуди?
– Никак нет, не слыхивал.
Человек отпрыгнул от него, как ужаленный. Бросившись к уже свёрнутому баульчику с вещами, он проворно развязал его, порылся и вытащил тоненькую книжицу.
– Грамотен?
– Никак нет.
– Ай-ай-ай! Завтра же начнёшь учиться. И как обучишься, прочитай вот книжицу; потом спрошу тебя – чтобы всё знал.
Он подошёл к столу и налил стакан водки.
– Выпей-ка тминной, Егорушка.
– Никак нет. В рот больше не возьму её, ва высокобродь, – замотал головой Алефан.
– И дурак! Что ж ты за солдат без водки? – Алефан опять заморгал глазами. – В положенное время, да в меру, как же не выпить? Только пьяненьким не быть.
– Попутал нечистый, ва высокобродь.
– Ишь ты! – Он с таинственным видом вытянул губы, и Алефан покорно наклонил голову, подставив ухо. – А ты сам нечистого попутай. Русскому солдату и нечистый не должен быть страшен, вот он каков, Бова-богатырь, Илья Муромец наш. А теперь – пей! – строго приказал он.
Алефан взял деревянными пальцами стакан и одним духом выпил.
– Здорово! – с уважением произнёс Суворов. – Тебе, почитай, и штофа мало. А дерёшься ты как? Пулям кланяешься, от штыка бегаешь?
Тут уже Алефан совсем не знал, что сказать, и только громко засопел.
– Ну-ну, – с коротким довольным смешком сказал человек. – Не серчай. Вот я с тобой в первую баталию пойду рядышком. А то я ведь, – он оглянулся по сторонам и, сделав круглые глаза, прошептал; – я трус. А с храбрым и трусу не страшно. Вот и пойдём вместе.
Отворив дверь, он крикнул:
– Прошка!
Вошёл молодой белобрысый солдат.
– Займись вот служивым. Он с нами поедет. Да смотри у меня: через час выезжаем! – И, не глядя ни на кого, он поспешно вышел из комнаты. Солдаты остались одни.
– Как тебе мой-то, Сувор, показался? – спросил Прохор, неодобрительно глядя на влажный стакан.
– «Богатырь», говорит… Водкой потчевал… И как баталия, то, значит, со мной вместе пойдёт.
– С тобо-ой! – протянул Прохор и презрительно шмыгнул носом. – Эва, друг любезный, я за тебя пятака не дам. Там, где он, и муха не пролетит. Он-то заговорённый, а другим никак нельзя.
Он взял ложку и стал хладнокровно доедать оставшуюся кашу.
– Ну, однако, рядом с ним и ты, может, уцелеешь, – рассуждал он. – Это что же? Тминная? Везти с собой – всё одно прольётся. – Он выпил и крякнул. – Рядом с ним, с Ляксандрой Васильевичем, и заяц осмелеет, и воробей что твой орёл сделается. Ну, вот, кажись, вся… Так ты не бойсь, парень, он тебя в баталию, как в баню, поведёт, аж на самом верхнем полку побываешь. Батюшку с матушкой припомнишь. Но он же тебя и обратно целёхонького выведет. А теперь ступай-ка за мной, поможешь коней взнуздать.
Алефан всё в том же состоянии радостного ошеломления последовал за ним.