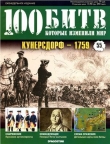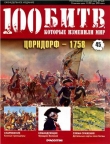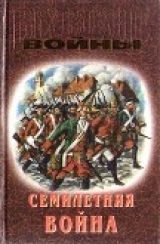
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц)
Ни смотрителю, ни коменданту не было известно, кто таков новый заключённый. «И с виду встрёпан, и умишком беден, а стерегут, как паву», недоумевали в крепости.
Но не только в крепости интересовались таинственным арестантом. На воле также следили за ним, и не в одной лишь России. Прусский король не был уверен в Петре III: чересчур глуп и бестактен, к тому же подле него супруга, эта чересчур умна. Неплохо было бы вместо этой пары посадить на русский престол вовсе не искушённого в политике, слабоумного и слабовольного Ивана VI.
И в очередном секретном письме главный конфидент Фридриха в Петербурге Таген, он же Шлимм, получил прямое предписание всеми мерами содействовать освобождении неудачливого императора из крепости и возведению его на престол.
Барон Шлимм после опалы Пальменбаха перешёл на службу к Фермору и вскоре получил доступ во все петербургские салоны. Корректный, хладнокровный, с манерами прирождённого аристократа, он примелькался всюду, отпускал изысканные комплименты дамам, устраивал pepits jeux[28]28
Игры.
[Закрыть], разговаривал с мужчинами о негоциации и политике, рассказывал сообщённые ему из Голландии новости, участливо спрашивал о военном положении.
В последнее время у него было много забот: несмотря на все старания, ему не удавалось склонить ни одного министра или хотя бы влиятельного придворного к мысли о необходимости заключения мира. Фридрих слал письма, в которых брань перемешивалась с угрозами, требовал отчётов в израсходованных суммах, – у Шлимма голова шла кругом, а тут ещё это новое поручение.
Мнимый господин Таген лихорадочно соображал, как подступиться к этому щекотливейшему делу. Государева крепость, арестант за семью замками – тут нужна помощь кого-нибудь из внутреннего гарнизона, иначе и не проникнешь в это узилище. Да где взять такого?
И вдруг словно ворожея наворожила. Однажды утром докладывают, что его хочет видеть поручик Мирович. Кто такой? Наверное, какой-либо проситель.
– Я занят. Пускай зайдёт в другой раз.
Слуга возвращается: пришедший настойчиво просит принять его.
– Ну что же, – господин Таген со вздохом запахивает халат. – Впусти.
Он с неудовольствием смотрит на вошедшего плохо одетого офицера и резко спрашивает:
– Что вам угодно?
– У меня к вам дело, господин барон, – спокойно произносит офицер.
Таген, закусив губу, говорит:
– Вы ошиблись, я не барон. И говорите поскорее, в чём ваше дело: у меня нет времени.
– Я не ошибся, барон Шлимм. И, кстати, не предложите ли вы мне присесть?
Шлимм подходит вплотную к посетителю.
– Кто вы такой?
– Поручик Мирович. Ныне служу во второй роте Смоленского полка. – Чуть приметно улыбнувшись, странный гость добавляет: – Поелику я моё знание вашей особы никому не доверил, то и злых умыслов противу вас не имею.
Шлимм призывает на помощь всё своё самообладание.
– Чего же вы хотите, господин Мирович? – Он отходит в глубь комнаты, устраивается на диване и жестом приглашает поручика сесть в кресло.
– Между дворянами принято, что за оказанную услугу ответствуют тем же. Не ведаю я, по какой причине изволили вы принять в нашей стране другую фамилию и даже, если не ошибаюсь, под другим подданством сюда явиться. Полагая это вашим частным делом, обещаю не любопытствовать посему и умолчать о том, что знаю. Вас же почитаю вправе просить, пользуясь вашими связями при дворе государыни…
Но Шлимм уже не слушал. Он обдумывал мгновенно зародившийся в его голове план. Смоленский полк, как ему известно, будет вскоре назначен для несения караульной службы в Шлиссельбургской крепости. Сама судьба послала ему этого человека.
– Послушайте, господин Мирович, – тихо говорит барон, – а что, если я предложу вам одно дело, требующее решительности и отваги, которое вам несравненно больше выгоды принесёт, чем вы сейчас даже помыслить можете?
Глаза офицера вспыхивают.
– Я готов вас выслушать.
– Тогда вот что. Здесь об этом деле неудобно разговаривать. Приходите сегодня в девять часов вечера, – Шлимм задумывается, – ну, хотя бы в бордель Дрезденши. Знаете, где это?
– Как же! – Мирович глухо, надтреснуто смеётся. – Бывал…
– Кажется, господа офицеры этот бордель перед прочими предпочитают? – смеётся и Шлимм, провожая гостя к дверям. – Но сегодня вместо постоянных удовольствий мы выберем необычное: посвятим время беседе. И поверьте, господин поручик, вы не ошибётесь, выбрав сей предмет.
Мирович машет рукой:
– Есть русское присловье: много выбирать – женатым не бывать…
– Ха-ха-ха! – смеётся Шлимм. – Очень справедливо. Так в девять часов…
Вечером в комнате самой Дрезденши, к удивлению Мировича, чрезвычайно почтительно выполнявшей все распоряжения Шлимма, Мирович услышал историю императора Ивана VI. Барон напрасно силился распознать, какое впечатление произвёл его рассказ на молодого офицера: тот сидел с невозмутимым видом изредка отхлёбывая вино, казалось, слушая только из вежливости.
Но сердце Мировича бешено колотилось. Вот он – фарт! Он освободит законного императора, посадит его на трон, а по правую руку нового государя встанет сам. Мысли кружились в мозгу. Наконец-то пришёл случай ухватить быстролётную фортуну, сорвать банк, приготовленный для хладнокровного и решительного игрока! Он, Василий Мирович, восстановит блеск родового имени, узнает сладость власти и почестей… Его била лихорадка, когда он представлял себе выгоды затеваемого предприятия.
– Вы не нарушите долга присяги, тем более – чести офицера, – умильно журчит Шлимм, – напротив, поможете законному монарху. А для успеха дела… – Он вынимает из кармана и кладёт на стол увесистый кошель.
Но Мирович почти не смотрит на золото.
– Я согласен, – говорит он и, глядя куда-то вдаль, точно силясь прочитать там свою судьбу, он раздельно повторяет: – Согласен.
Глава пятаяКороль и купцы
Весной 1760 года штаб-квартира Фридриха помещалась при его главной армии в Саксонии, между Носсеном и Мейссеном. Всякий свежий человек, едва попав туда, чувствовал ту особую атмосферу подавленности и удручённости, какая бывает и армиях, терпящих поражения. Куда девалось былое оживление, звонкое щёлканье шпор, напыщенное высокомерие офицеров! Теперь все говорили вполголоса, двигались тихо, стараясь не обращать на себя внимания и, главное, не попадаться на глаза королю.
Холодным мартовским утром Фридрих сидел у окна просторной комнаты и наигрывал на флейте однообразную тоскливую мелодию. Обстановка комнаты состояла из большего дубового стола, дюжины стульев и двух полукруглых диванов. Стол был накрыт на пять приборов, но, кроме флигель-адъютанта Геца, никого пока не было.
Фридрих выдул особенно протяжную ноту и отложил флейту.
– Мне вспоминается рассказ про одного святого миссионера, – сказал он не оборачиваясь. – Когда его поджаривали дикари, он попросил перевернуть его на другой бок. «Этот уже испёкся», пояснил он. Так и я, Гец, хочу, чтобы мне хоть на время дали отдохнуть от того, что так мучит меня. Каждый день одно и то же: военные неудачи, нехватка денег, нехватка продовольствия, нехватка фуража, нехватка людей. Non de Dieu! Я набрал двести тысяч человек, и только Колигион знает, каких трудов это мне стоило, а у противников моих уже триста семьдесят пять тысяч. Мог ли я думать о чём-либо подобном, когда начинал эту дьявольскую войну с сорока тысячами? А лошади! Едят их, что ли? Или они кончают жизнь самоубийством?
Гец, почтительно слушавший эту тираду, рискнул вставить:
– Падеж лошадей происходит, вернее всего, от бескормицы, ваше величество.
– Милейший Гец, вы неподражаемы. Именно от бескормицы. Но, как вам известно, у меня на пятидесятитысячную армию полагается тысяча восемьсот возов, что обеспечивает запас продовольствия на восемнадцать дней. Значит, на мою теперешнюю армию мне должно хватить с избытком восьми тысяч лошадей. Прибавим к этому некоторое количество для артиллерии и перевозки раненых и посчитаем двенадцать тысяч. Я же собрал пятнадцать тысяч, и всё-таки отовсюду несутся жалобы на отсутствие обозных лошадей.
Гец задумчиво почесал переносицу.
– Зато с кавалерийскими конями, кажется, дело обстоит благополучно. На днях я разговаривал с генерал-лейтенантом Зейдлицем, и он не выражал никаких претензий.
– Гец, когда вы отучитесь от этой идиотской манеры чесать переносицу? И поменьше беседуйте с Зейдлицем. Он не научит вас ничему путному.
– Мне известно, ваше величество, что генерал Зейдлиц более не пользуется вашим расположением. Да будет мне позволено сказать, что я очень скорблю об этом. Он ещё не оправился от раны, полученной при Кунерсдорфе, но…
– Довольно, Гец. Простреленная рука не оправдывает сумасбродства и вольнодумства Зейдлица. Он расшатывает дисциплину в кавалерии. Узнав, что какой-нибудь офицер уехал без дозволения из лагеря, он сам скачет вдогонку за ним, и хорошо, если настигнет, тогда он налагает на виновного наказание; если же не догонит, то хвалит за резвую езду. Служебное преступление превращается в какую-то игру. А сейчас, не время для игр, чёрт побери!
В комнату вошёл огромного роста лакей, замер на пороге и, почти не шевеля губами, произнёс:
– По вызову вашего величества явились представители берлинского купечества.
– А, наконец-то! Зови! – Фридрих схватил флейту и заиграл нечто вроде бравурного марша. – Гец, не сидите с такой похоронной физиономией, а то эти торгаши сразу поймут положение дел.
В распахнутую дверь вошли три человека. Они были одеты в добротные камзолы без всяких украшений, держались очень скромно, почти приниженно. Тем не менее Фридрих тотчас прервал игру и с раскрытыми объятиями пошёл к ним навстречу.
– Встреча Марса и Меркурия! – громогласно сказал он. – Здравствуйте, Гоцковский, здравствуйте, Вегелин. А вы, Энике, ещё растолстели. Впрочем, это понятно: говорят, вы заработали на займах четыреста тысяч серебром. А ведь серебро кое-что весит.
– Мы рады видеть ваше величество в добром здравии и по-обычному склонным к шуткам, – сказал с кислой улыбкой Энике. – Что ж до моих заработков, то, к сожалению, они вовсе не таковы. Спросите хоть господина Кегелина.
– Что, неужели это было только триста тысяч? Ай-ай-ай, Энике, этак вы скоро пойдёте с сумою! Ну, а мой добрый Вегелин всё ещё мануфактурный король в Германии? Надеюсь, никто не покушается на его титул? Это ведь не то, что быть просто королём, которого всякий может обидеть.
– Гм… – произнёс Гоцковский, представительный мужчина, с большой седой головой и хитрыми, глубоко посаженными глазами. – Если судить по вашему величеству, обидеть короля не так-то легко.
– Ах, дорогой Гоцковский, – кротко сказал Фридрих, – вам ли говорить об этом? Вы подрядились выставить для меня продовольствие на семь миллионов талеров, денежки вы давно получили, а подряд и по сю пору не выполнен. Впрочем, не хочу портить вам аппетит. Я пригласил вас, господа, чтобы приятно провести с вами время. Прошу располагаться, как дома. Я вас на минуту покину, чтобы отдать некоторые неотложные распоряжения, а затем мы воздадим должное Бахусу! Ген, ступайте за мной.
Оставшись один, купцы переглянулись.
– Всем досталось, – сказал Энике. – Узнаю нашего доброго короля. Но это, конечно, только цветочки. Интересно, за каким чёртом мы ему понадобились.
– Неужели вам это не ясно? – холодно сказал Вегелин. – Ему нужны деньги. Он высосал из нас все соки, но ему ещё мало. А больше всего достанется вам, Гоцковский.
– Ну, король и вас не обидит, – возразил, ухмыляясь, Гоцковский. – Он ведь всегда вам симпатизировал.
– Тсс… – прошипел Энике. – Я слышу шаги.
Вошёл Фридрих в сопровождении Геца. Он переменил мундир и выглядел нарядным и весёлым.
– Прошу занимать места, господа. К сегодняшнему дню я припас и бургонского, и старого рейнвейна, и лафиту… Гец, следите, чтобы бокалы наших гостей не пустовали.
– Ну, – шепнул Гоцковский сидевшему рядом с ним Энике, – если король раскошелился на хорошее угощение, значит он решил изрядно общипать нас. Давайте же хоть пообедаем в своё удовольствие.
Вино действительно оказалось отменным. Спустя полчаса языки у всех развязались. Даже король, казалось, немного опьянел.
– Не глядите на меня так подозрительно, Гоцковский, – проговорил он слегка коснеющим языком. – Вы всё ждёте с моей стороны какого-нибудь подвоха. Parbleu! А я ведь настроен сегодня мирно, как ягнёнок. Мне просто хочется отвести душу в славной компании. Я вспомнил мою юность… Угодно ли вам, господа, послушать про мои юные годы?
Раздался нестройный хор восторженных восклицаний, и Фридрих, откинувшись на спинку стула и глядя по очереди своими выпученными глазами то на одного, то на другого купца, принялся рассказывать:
– В детстве я не видел почти никого, кроме моего воспитателя, полковника Калкштейна. Отец разрешал мне видеться с матерью только за обедом. Я прибегал к ней украдкой, и мы оба трепетали, что нас застанут. Однажды король, мой отец, неожиданно явился к моей матери; я забрался в шкаф и просидел там два часа, пока он не ушёл. До сих пор удивляюсь, как я не задохнулся тогда. Вообще, жилось мне несладко. Будучи юношей, я занял раз у купцов семь тысяч талеров. Мой отец уплатил этот долг, но издал указ о том, что несовершеннолетние, даже если они королевского рода, не могут делать долги… Выпьем, господа!
Все выпили. Король заложил в обе ноздри по понюшке табаку и продолжал:
– У меня был друг, Катте. Он уговорил меня бежать, уверяя, что мне всюду будет житься легче, чем у отца. Наш заговор был раскрыт. Катте обезглавили перед окнами моей комнаты, а меня заставили смотреть на казнь. После того я просидел два года в Кюстринской крепости. За это время я понял, что значит власть. Prosit[29]29
Старинное латинское приветствие при осушении кубков.
[Закрыть], господа.
Снова было выпито, но король на этот раз только отхлебнул из своего бокала.
– В тысяча семьсот двадцать девятом году в Голландии вышла анонимная книга: «Антимакиавелли». В ней доказывалось, что государь должен властвовать посредством добра и справедливости. Мне было тогда семнадцать лет, но мой отец, узнав, что эта книга вышла из-под моего пера, очень взволновался и решил, что из меня никогда не выйдет настоящий король… Может быть, он был прав. Я действительно чересчур мягок. Вот, например, я сижу и пью с вами вино, забывая, что на мне лежит долг накормить двести тысяч солдат, защищающих моё государство, а следовательно, и ваши фабрики, господа. И теперь, как в дни моей юности, мне приходится делать заем у купцов. Prosit, дорогие гости.
– Prosit – ответил замогильным голосом Гоцковский.
– А сколько нужно вашему величеству?
– О, немного! Сущие пустяки для таких знаменитых негоциантов, как вы и ваши собратья. Всего только двадцать миллионов талеров.
– Два… двадцать миллионов! – подскочил на стуле Энике. – Это немыслимо.
– Добрейший мой Энике, – голос короля был совсем тихий, почти жалобный, – посудите сами. Когда строишь армию, начинаешь с желудка; солдат труднее уберечь от голода, чем от неприятеля. А чем мне кормить моих славных гренадеров? В последнее время меня выручал новый продукт – картофель, но его ещё слишком мало, крестьяне неохотно сажают его. А хлеб и мясо стоят теперь страшно дорого.
– Да, но ведь ваше величество недавно получили от нас пятнадцать миллионов, – возразил в запальчивости Энике. Вегелин толкнул его под столом ногой. Король же сказал ещё жалобнее:
– Боже, какая у вас память, Энике! Вы всё помните. Однако примите во внимание, что мне надо не только кормить, но и одевать моих солдат. И так многие из них принуждены в морозные ночи ложиться в тёплую золу, чтоб хоть немного согреться. Неудивительно, что у нас столь много дезертиров; иной раз за день убегают почти две тысячи солдат. Ведь люди не ангелы.
– Не будет ли с моей стороны нескромностью спросить, как обстоит дело с английскими субсидиями? – вмешался Вегелин. – Ведь англичане обязались финансировать нашу великую борьбу с врагами порядка.
– Ах! – вздохнул Фридрих. – Питт – это сущий демон. Спросите у Финкенштейна, что значит иметь с ним дело. Неужели же, если бы я имел английские фунты, я обращался бы к вам за вашими талерами? Ну, а вы что молчите, Гоцковский? Какой аргумент вы заготовили против вашего бедного короля?
– Я подсчитывал, в какой доле я смогу участвовать в этом займе. Почту за честь, если мне будет разрешено ссудить вам три миллиона.
– Вы – воплощённый здравый смысл, мой дорогой Гоцковский. Надеюсь, что все ваши собратья будут так же рассудительны. Не станем же больше говорить об этом маленьком деле.
Неожиданно Энике сказал:
– А может быть… гм… вашему величеству удастся облегчить своё положение с помощью господина Эфрема?
Вегелин в отчаянии возвёл очи к потолку, даже Гец издал какое-то подавленное восклицание. Уже второй год Фридрих чеканил неполновесную монету. Этим ведал купец Эфрем. Про талеры пели:
Снаружи красив, а внутри не совсем.
Снаружи – Фридрих, внутри же – Эфрем.
Это все знали, но об этом не принято было говорить, и не будь Энике в таком возбуждённом состоянии, он, конечно, не зашёл бы так далеко.
Король покраснел, на лбу у него надулись так знакомые всем присутствующим толстые синие жилы. Спас положение Гоцковский. Непринуждённо расхохотавшись, он произнёс:
– Будь я на месте его величества, я бы и в самом деле гораздо чаще обращался к Эфрему. В финансовых делах, как и в военных, все средства хороши. Достаточно вспомнить о сражении при Фонтенуа, случившемся пятнадцать лет назад. Мне рассказывал о нём мой компаньон, родом из Ганновера. Французы встретились с англо-ганноверской армией. Оба войска сблизились на пятьдесят шагов. Офицеры любезно предложили друг другу сделать первый выстрел. Англичане и ганноверцы решили не привередничать и дали залп. Половина французов была сразу убита, остальные разбежались. Сражение продолжалось только четверть часа.
Все смеялись: Фридрих – ещё рассерженно, Энике – испуганно, Вегелин трясся от хохота, довольный тем, что инцидент уладился. Положительно, этот Гоцковский незаменимый человек.
– Однако неразборчивость в средствах имеет и свои отрицательные стороны, – сказал вдруг Гец, – ибо противник начинает часто поступать так же. Взять хотя бы австрийцев. Они обнародовали заявление, что когда они займут Силезию и Бранденбург, то жителям этих областей будет оставлена только земля и воздух для дыхания.
Король нахмурился.
– Да, австрийцы – это не русские. В Восточной Пруссии с ними быстро примирились. Nom de Dien! Ноги моей не будет больше в Кёнигсберге.
– Да, русские умеют внушить симпатии, – сказал Гоцковский. – В злосчастной битве при Кунерсдорфе погиб какой-то поэт Клейст. Он, раненный, попал в плен к русским и вскоре умер. Русские похоронили его с почестями, словно он был генералом. Один русский офицер, заметив, что на гробе Клейста нет шпаги, положил свою, сказавши: «У такого храброго офицера должна быть шпага».
– Клейст… Клейст… Где я слышал это имя? Ба! – Фридрих вдруг хлопнул себя по лбу. – Когда-то его упоминала Барберина.
– Я давно собирался спросить ваше величество, что сталось с этой женщиной, – вкрадчиво сказал Гоцковский. – Неужто она действительно злоумышляла на вашу особу?
Фридрих помедлил с ответом.
– Полагаю, что всё затеял один Глазау. Этот негодяй бесследно скрылся, а то бы я уже вытянул из него все сведения. Барберина твердит, что она ни при чём, и сколько с ней ни бился бедняга Шиц, ему не удалось услышать от неё ничего другого. – Фридрих понизил голос. – Дорогой Гоцковский! Я знаю, что вам всегда была по душе эта женщина. Ma foi[30]30
Честное слово (франц.).
[Закрыть], она того стоит! Так как вы оказали мне сегодня услугу, я хочу сделать вам приятное. Выйдите в соседнюю комнату, я велю привести туда Барберину, и мы посмотрим, нельзя ли что-нибудь сделать…
Гоцковский низко поклонился и тотчас прошёл в указанную ему дверь. Через четверть часа к нему присоединился король. Они в молчании сидели друг против друга, пока перед окнами не застучали колеса кареты.
– Привезли! – сказал Фридрих. Гоцковский поднялся и отошёл в дальний угол. Высокий рыжеусый майор шагнул в комнату.
– Ваше величество, разрешите ввести заключённую? – гаркнул он. По знаку короля он повернулся и грубо сказал «Ну, ступай. Поживее».
В комнату вошла Барберина.
Полгода заключения совершенно изменили её наружность. Ссутулившаяся, с тяжёлой походкой, с жёлтой, блёклой кожей, тусклым взглядом… «Сколько же пришлось ей пережить!» подумал Гоцковский, и острая волна жалости к этой измученной маленькой женщине поднялась в его сердце.
Барберина, прислонившись к притолоке двери, безучастно смотрела на короля. Она ни на что не надеялась, но и ничего не боялась. В долгие бессонные ночи, лёжа на влажном полу в тёмном подвале, она почти физически чувствовала, как уходит от неё всё то, что составляло сущность её натуры: способность ощущать радость и красоту, живость воображения, острота ума. В первый раз, когда Шиц ударил её плетью, она потеряла сознание. Но потом избиения повторялись так часто, что она почти привыкла к ним. Она научилась съёживаться так, чтобы защитить голову и части тела, особенно чувствительные к ударам. Грубые мужские руки срывали с неё одежды, насмешливые, безжалостные голоса кричали ей в уши унизительные ругательства. Сперва она гневно протестовала, потом отупела. Жила, как в чаду, равнодушно надевала по утрам на себя лохмотья, выполняла чёрную работу. Где-то в глубине её сознания ещё теплился огонёк надежды. Должны же в конце концов убедиться в её невиновности! Но через два месяца её перевели из одиночного каземата в общий, и тогда её надежда угасла. Она увидела здесь такую бездну горя, о которой никогда даже не подозревала. Люди томились в заточении многие годы, не зная своей вины, подвергались издевательствам и побоям, умирали в горьких мучениях… И всё это делалось именем короля! Мало-помалу в Барберине родилась жгучая ненависть к Фридриху. Окружавшим её несчастным людям король казался далёким, почти бесплотным существом. Но она отчётливо вспоминала его выпуклые глаза, его игру на флейте, высокопарные диспуты с философами. Неужели он мог всё это делать, зная о том аде, который царит в его тюрьмах? А потом и эти мысли исчезли в ней. Жизнь, со всеми её радостями и печалями, отступила куда-то вдаль, как отступают берега от уплывающего корабля. Она словно окаменела и влачила своё существование без жалоб, без надежд, покорившись судьбе.
И вдруг этот вызов! Жмурясь от непривычно яркого освещения, Барберина переводила взгляд с короля на Гоцковского.
– Садитесь, – сухо сказал ей Фридрих, указывая на стул.
Она не пошевелилась.
Фридрих уже жалел, что затеял всё это. Гоцковскому не следовало видеть Барберину в таком состоянии. Этот остолоп Шиц не догадался даже умыть и приодеть её.
– Вы знаете, сударыня, – сказал он, – что когда-то я относился к вам с большим благожелательством. Господин Гоцковский также симпатизирует вам. Доверьтесь же нам. Скажите откровенно, что вам известно о покушении Глазау. Если же вы ни в чём не повинны и не имеете против меня и моего королевства никаких злых умыслов, то, даю слово, я велю освободить вас. Итак, говорите.
«Не имеете злых умыслов». Она содрогнулась при этих словах Фридриха. Как перед утопающим, перед ней в одно мгновенье прошла её беспросветно-долгая, шестимесячная жизнь в каземате, допросы, истязания; она увидела землистые лица людей, заживо похороненных в четырёх стенах, перевозимых из крепости в крепость, пока смерть не приносила им освобождение. Есть ли у неё злые умыслы? За эти страшные месяцы она стала врагом короля. С каким наслаждением бросила бы она в лицо этому коронованному лицемеру всё своё негодование и презрение! Но нет! Нужно выдержать искус до конца. Если она будет держать себя в руках, её, может быть, выпустят.
Вдруг одна мысль поразила её. Возможно ли теперь, когда в ней достигло огромной силы то, что прежде бродило в виде незрелого протеста, возможно ли теперь скрыть эту кипящую злобу? Ведь Фридрих хитёр и проницателен. Может быть, он сейчас читает в её душе, и в то время, как она полагает, что сумеет притвориться, на самом деле это он будет играть с ней в жуткие «кошки-мышки». А потом, когда она станет считать часы до освобождения, он прихлопнет её.
Холодный пот выступил у неё на лбу. Эта мысль оказалась неотразимой. Противоядия против неё не существовало.
– Что же вы молчите? – заговорил снова Фридрих. – Неужели вам требуется столько времени, чтобы обдумать свей откровенный рассказ? – Он насмешливо подчеркнул слово «откровенный».
Барберине почудилось, что за неприкрытой усмешкой короля кроется знание её ненависти к нему, к Шицу к зловонным казематам, ко всему, что служит опорой свирепых и бездушных порядков Пруссии.
Это лишило её твёрдости. Она не в силах была дольше выдержать.
И, чувствуя, что всё потеряно, и находя в этом какое-то жуткое удовлетворение, она ринулась очертя голову в страшившую её бездну. Она кричала, не чувствуя себя и не узнавая своего голоса. Она выплёвывала в лицо Фридриху все обиды, которые перенесла или свидетелями которых являлась; она придумывала самые язвительные слова для изображения подлости тюремщиков, для характеристики господствующей повсюду жестокости и несправедливости.
Король сидел с напряжённым лицом, не сводя глаз с Барберины. Один только раз, когда Гоцковский попытался что-то сказать, он движением руки остановил его. Внезапно Барберина закашлялась и, махнув рукой, замолчала. В комнате воцарилось тяжёлое молчание. Фридрих шумно выдохнул воздух, позвонил и, указывая на Барберину, стоявшую с повисшей головой, кратко распорядился:
– Уведите.
Когда дверь за Барбериной закрылась, он сказал, пожимая плечами:
– Мне очень жаль, Гоцковский, что так вышло, но теперь ей не будет пощады… Пусть пеняет на себя.
Гоцковский молчал, и это привело Фридриха в раздражение.
– Мне сейчас не до жалости! – вскричал он. – Я сам еле живу. Каждый сноп соломы, который доходит до меня, каждый транспорт рекрутов или денег становится либо подачкой, брошенной мне врагами из милости, либо доказательством их нерадивости. Если положение дел в Европе не изменится, нам скоро нечего будет противопоставить противникам.
– Но ведь смерть этой девушки не принесёт вам пользы, – осторожно заметил купец.
– Сентименты! Что мне до её жизни! Что мне до вас всех! Эти проклятые русские! Если хотите знать, с моей стороны почти глупо ещё существовать.
Он повернулся спиной к Гоцковскому и вышел, хлопнув дверью с такой силой, что стёкла в окнах жалобно зазвенели.