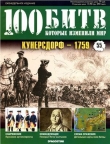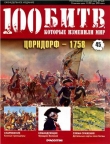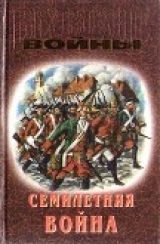
Текст книги "Семилетняя война"
Автор книги: Юрий Лубченков
Соавторы: Константин Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц)
То, что Румянцев сейчас делал, было вопиющим нарушением основополагающих принципов линейной тактики, господствовавшей в военных доктринах этого периода, кроме того – формальным нарушением всех принципов субординации и дисциплины, так как никакого приказа он не получал, что могло иметь для молодого генерала далеко идущие последствия – особенно в случае поражения. А кто в бою возьмёт на себя смелость гарантировать победу?
Румянцев шёл на все эти нарушения сознательно. Пренебрежительно относясь к закостеневшим доктринам западноевропейских стратегов, он давно пришёл к выводу, что только отказ от них может стать залогом победы. Но кто-то должен быть первым на этом пути противодействия рутине и косности. Сегодня, спеша во главе своих полков на помощь товарищам, генерал Румянцев поставил на карту всё...
Солдаты бригады Румянцева вместе с присоединившимися к ним сразу, внезапно вдруг во множестве появились на опушке. Румянцев быстро осмотрел поле сражения. Появление русских, оценил он, именно сейчас и именно здесь было чрезвычайно удачным: пруссаки повернули свои боевые порядки против фланга дивизии Лопухина и тем самым подставляли под удар Румянцева свой фланг и тыл. Командир бригады не замедлил воспользоваться этим. Увидев, что его окружает уже значительное количество солдат, он отрывисто скомандовал:
– Огонь!
И сразу же:
– Вперёд!
Бригада стремительным рывком сошлась с первой линией прусской пехоты. Минутный лязг штыков, крики раненых, умирающих и трусов, заглушаемые многоголосым «Ура!», казалось, рвущим барабанные перепонки, и пруссаки обращены в бегство. Убегающего бить легко – главное догнать. А русские, ещё не выдохшиеся в бою и чувствующие уже пряный вкус победы, догоняют. Первая линия редеет, тает, истончается. В этом ей помогает вторая линия пруссаков, принявшая своих товарищей по оружию за наступающих русских. Наконец, всё же поняв свою ошибку, вторая линия пытается дать отпор подбегающим пехотинцам Румянцева, но их сначала частично сминают свои отступающие, а затем, возбуждённые победой, на них наваливаются русские. Всё сопротивление сметено! Прусские батареи захвачены, прусская пехота и артиллерия начинают сдаваться в плен.
Русские дошли с боем почти до противоположного леса и неожиданно встречают там Племянникова с его солдатами, который, увидев наступление Румянцева, повёл в атаку и свою пехоту. Поблагодарив Румянцева за своевременную помощь, он поведал ему о потерях дивизии. Поведал кратко, устав от боя, ослабев от раны в голову. Да и что было много говорить? Лучше всех слов говорило за себя поле боя, почти сплошь усеянное убитыми и ранеными.
– Пойдёмте, Пётр Александрович, – морщась, сказал Племянников, – покажитесь Василию Абрамовичу. Он сразу понял, что это вы со своей бригадой.
– Как он?
– Вельми плохо. Так что поторопимся.
Лопухин умирал. Дышал он с хрипом, грудь его судорожно вздымалась, но воздуха генералу всё же не хватало. Увидев подошедших к нему генералов, он спросил их взглядом: «Что?»
– Победа, Василий Абрамович, – радостно произнёс Племянников, подталкивая Румянцева поближе к раненому, – узнаете виновника виктории?
– Спасибо вам, генерал, – тихо произнёс Лопухин. – Русская честь спасена. Теперь умираю спокойно, отдав мой долг государыне и Отечеству...
Генералы склонили головы над умершим. Их шляпы были потеряны в бою – им нечего было снять из уважения к герою, погибшему на поле брани, и лишь ветер развевал их волосы, присыпанные пылью, измазанные пороховой гарью и смоченные кровью.
Помолчали. Потом Румянцев повернулся к Племянникову:
– Вот и всё. И ещё одного солдата мы оставили на поле.
Кстати, эта деревушка там, в конце поля, Гросс-Егерсдорф?
– Она самая, Пётр Александрович.
– Запомним.
– Да и королю Прусскому отныне её не забыть. И детям своим передаст, что есть такая деревня в Пруссии – Гросс-Егерсдорф!
...Русская армия отступала. Это была та самая армия, что лишь малое время назад доказала всем и самой себе, что есть она на самом деле. Теперь же она пятилась к Курляндии.
После Гросс-Егерсдорфа русские несколько дней держали победное поле битвы за собой, потом неторопко пошли вперёд, но, пройдя лишь самую малость, затоптались на месте и, подумав – не понять, хорошо ли думали, плохо ли, да и чем делали сие – крепко, начали отход в сторону своих баз, на восток, в Курляндию.
Двигались в тяжелейших условиях: наступавшая распутица делала дороги почти непроходимыми, а те, по которым и можно было двигаться, могли принять лишь немногих – и если первым ещё было терпимо, то концы колонн почти плыли по жидкой грязи. Не хватало продовольствия, армейские лошади, привыкшие к овсу, по недостатку оного перейдя лишь на подножный корм, быстро теряли силы. Чёрные гусары пруссаков донимали своими уколочными молниеносными налётами. Армия таяла – отход более любого сражения отнимал солдатских жизней.
Труднее всего было раненым, повозки с которыми помещены были в хвосте. После каждого привала тихо угасших в скорбном молчании спешно зарывали при дороге. Это становилось привычным. И это пугало...
О них вспоминали редко. Ещё реже кто-либо из генералов подъезжал к ним. Румянцев был одним из немногих. Как-то раз подбежав к фурам, он встретил там и Племянникова, беседовавшего с перевязанным офицером, лежащим на одной из передних повозок.
– Вот, Пётр Александрович, – поспешно, даже с каким-то облегчением, поспешил Племянников представить раненого Румянцеву, – рекомендую: герой Гросс-Егерсдорфа – поручик Попов.
– Право, господин генерал, – замялся поручик, и Племянников наблюдал сие с удовольствием, – вся армия знает истинного героя Баталии. – Офицер выразительно посмотрел на Румянцева. Все почувствовали налёт неловкости, такой же, как всегда хорошего человека принуждают лицемерить жизненные обстоятельства. Он это делает, но так неловко, что даже окружающим за него неловко, а не видеть нельзя – слишком бросается в глаза.
– Ну, что же, господа, – неуклюже-бодро после непродолжительного молчания, – я вынужден буду вас покинуть, что я, собственно, и собираюсь сделать до приезда господина Румянцева, а вам, Пётр Александрович, – обратился он к подъезжающему генералу, – всё же ещё раз позволю себе рекомендовать нашего героя. Кроме сугубой смелости в баталиях, он так же смел и в мыслях своих.
Бригадир тут же после этих слов хлестнул лошадь и с поклоном исчез. Румянцев задумчиво покусал губы, провожая его взглядом, и повернулся к повозке с раненым, пристально всматривающимся в него.
– Господин поручик, господин бригадир как-то не очень ясно очертил, как вы слышали, тот круг вопросов, что вы изволили с ним обсуждать и что заставил его столь поспешно ретироваться.
– Ваше превосходительство, господин бригадир изволил говорить со мной о русской армии, о некоторых баталиях, в коих она участвовала. Но мы сошлись с ним не во всех оценках...
– В каких же, если, конечно, это не тайна.
– Никакой тайны, ваше превосходительство. Вы в армии имеете на это право в первую очередь.
– Это почему же?
– Как победитель Левальда...
– Прусского фельдмаршала разбила армия, предводительствуемая фельдмаршалом Апраксиным, молодой человек.
– Коий ею в бою не управлял...
– Попрошу вас...
– Слушаюсь. Впрочем, это не суть. Я лишь хотел сказать, что почту за счастье услышать ваше мнение, – мнение человека, делом доказывающего, что он имеет на него право, что оно истинно его, а не заёмное, – о некоторых положениях нашего разговора с господином бригадиром.
– Слушаю вас.
– Итак, мы говорили с ним о различных баталиях, проходивших с участием русской армии; и мы совершенно не могли прийти с ним к согласию в оценке значимости этих побед...
– Вы отрицали их значение? Или приумаляли?
– Ни в малейшей степени. Просто господин бригадир расценивал их как суть свидетельство нашей русской силы, я же находил в них проявление нашей слабости.
– Казуистический вывод, достойный древних софистов, – спокойно-добродушно усмехнулся Румянцев, глядя на разгорячённого своими словами поручика как на расшалившегося ребёнка. – И на чём же вы основываете своё столь неординарное умозаключение? Ведь для подобного вывода, как вы сами понимаете, одного посыла недостаточно. Тут должно иметь стройную систему взглядов, из коих и проистекает подобный тезис...
– Да, разумеется, я всё понимаю. Даже то, что мои слова вы не воспринимаете всерьёз. Господин бригадир вёл себя так же. А потом, как вы заметили, отъехал весьма поспешно.
– И каким же доводом, – насмешливо бросил генерал, – вы обратили его в столь бесславную ретираду?
– Я лишь сказал ему, что наши солдаты воюют почти без воинского умения.
– То есть как это, господин поручик, а кто же тогда побеждает, как не русские солдаты? Вот хотя бы у Гросс-Егерсдорфа?
– Ваше сиятельство, вы не изволили дослушать. Я разумел под умением воинским всю совокупность ремесленных навыков войны, без коих он всегда будет суть существо страдательное. Русские же солдаты пока воюют и побеждают – пока – благодаря лишь смелости и цепкости природным, кои были воспитаны в нас предшествующими веками.
– Значит, надо, по-вашему, готовить из русских солдат куклы военные?
– Нет, не надо. Как и не надо мысль мою поворачивать лишь одной стороной. Вот листок, – он взял оказавшийся на повозке кленовый лист, – с одной стороны – темнее, с другой – светлее. Так и мои слова. Если к смелости и разумной осмотрительности нашего солдата добавить ещё и прочное владение им воинской наукой – его никто не победит. А пока он воюет и добивается побед слишком большими жертвами, слишком большой кровью.
– Разумно.
– Как разумно и то, что кровь эта льётся не токмо из-за солдатской неумелости, но и – даже больше – из-за неумелости их командиров. Наши генералы – я не вас, разумеется, ваше превосходительство, имею в виду...
– Да уж, конечно...
– Наши генералы либо вообще ничего не знают из военной теории и норовят переть – как древние рыцари – грудь в грудь, силой силу ломать, либо, затвердив два-три образца из прошлых времён, все хотят их в своих войнах применить...
– Сие справедливо.
– А ведь полководец-то должен быть ярым мыслителем. Ведь на войне всё может смениться за миг, и сие должно уловить и использовать к своей выгоде. Знание, разум, острое чувствование – вот что такое водитель полков. А у нас? Вот вы, ваше сиятельство, ведь у Егерсдорфа поступили так – и победа. А ведь правила-то нарушили!
– Нарушил. Но ведь, поручик, сии правила европейские. Как же без них-то?
– А вот так, как вы делали. Я ведь не зову всё иноземное копировать. Я хочу, чтобы свою силу сохранив, мы всё доброе и за морями взяли – ведь целые фолианты в Европе написаны о полководцах – вот бы изучить. Изучить, но не заучить, знать, но не слепо копировать. А все их правила, как солдат собственных давить – нам без надобности. У них своё, у нас своё. И если мы начнём у них брать что ни попадя, то мы возьмём себе и их поражения.
– Значит, брать не будем?
– Плохого не будем. А хорошее пока не умеем. Или не хотим. Наши генералы ещё пока слабы: ничего не знают, да и солдатам не верят. У Фридриха же его военачальники как волки натасканы – они ещё накажут нас.
– За что такая пагуба ждёт нас?
– А за то, что если из своих поражений мы ещё умеем извлекать уроки, то из побед – никогда.
– Хорошо и сильно сказано. Но, подмечая в своём народе столько дурного, не грозим ли мы ему и себе вместе с ним жалким прозябанием?
– Я хулю лишь то, что должно. И не нахожу в этом приятности. Достойное же хвалю. Невозможно излечение больного без определения его болезни.
– А не опустит больной руки, вызнав всё? Не лучше ли приоткрыть ему истину не целиком, а частично?
– Ложь во спасение? Она хороша, как вы мудро подметили, для больных. Народ же наш, пока он есть, в основе своей здоров. И для него необходимо знать правду. Иначе, не вызнав её, он будет всё глубже и глубже низвергаться. Но всё же вы правы – должно соблюдать золотую середину. Жизнь многолика, и всегда можно набрать из неё кучу грязи или кучу одних лепестков. Знать суть – вот задача.
– Господин поручик, вот вы изволили сказать сейчас, что народ наш здоров? А что есть нездоровье народа? Где сие? И в чём здоровье нашего?
– Ваше сиятельство, античная история учит нас, что жизнеспособны суть те народы, кои имеют сильных землепашцев...
– А наши сильны?
– Да.
– А в чём же сие проявляется?
– В их твёрдости следованиям заветам предков, завещавших им жить на земле...
– Сие не их заслуга – такова воля их господ. И к тому же, господин поручик, как вы знаете: если ранее землепашца нельзя было продавать отдельно от его нивы, то теперь сему закон не препятствует... Так в чём же сила? Иные страны же давно отменили у своих селян крепь – стало быть, по-вашему, они сильнее нас?
– В чём-то – да. Но там государь и его приближённые имеют дело с каждым селянином, стоящим одиноко, у нас же между ними стоит община. Она предохраняет деревенского трудника от разных невзгод, ниспосланных на него богом и злыми господами. Мир делит зло и добро на всех, давая тем самым возможность жить и дышать.
– Стало быть, наша сила в общине, а слабость иных – в её отсутствии.
– Или слабости.
– Хорошо. Или слабости. А в чём тогда болезни? Или слабость и есть болезнь? И тогда нам одним жить, а все иные – уже обречены?
– Слабость не есть болезнь. Но уже как бы её преддверие. Когда во главу угла ставится польза не мира, а своя...
– Стало быть, и вы, и я больны, ибо не в общине?
– Для нас вся держава – община.
– А для иных нет? Для французов, например. Для тех же испанцев? А если нет, тогда что же такое Реконкиста?
– Ваше превосходительство, я знаю, что значит Реконкиста. Десятилетия внешней опасности сплотили народ испанский. За нами же – века и века сей угрозы. Насколько же мы крепче... Иные народы те же века живут как бы и спокойно. Хотя и воюют, но не ощущая при этом за своей спиной ужаса исчезновения. Страх же контрибуций – не страх.
– Значит, наша сила в предшествующих несчастьях... И стоит нам зажить без войн, как мы себя потеряем, ибо, как мы уже выяснили, только что, одной общины при нашей сегодняшней жизни маловато... Ведь селянин наш не греческий да римский там гражданин, даже не новгородец наш старинный, а раб, колон, холоп. А какая сила с раба? Вот и остаётся война...
– Не все наши крестьяне рабы. И мир деревенский живёт... И память народная о великом и злом жива...
– Верю тебе, верю, не сердись, поручик. Просто мне, как, вижу, и тебе, хочется понять, кто мы, откуда и куда идём – вот и пристаю я к тебе с вопросами. Другой бы меня спросил – я бы отвечал бы, как ты вот сейчас. А уж коли довелось мне побывать в облике спрашивающего – удержаться не мог.
– Так, стало быть, вы со мной согласны?
– Согласен, согласен. Но в чём? Что мы лучше других? Но вот ты же не смог мне доказать сего. Ведь я не услышал же на свои вопросы таких ответов, после которых спрашивать уже нечего. Ведь так?
– Да, но...
– Вот видишь. Мы не лучше и не хуже. Просто мы – немного иные. Как и все прочие. Не надо сим ни гордиться, ни ужасаться. А просто понять и принять. И жить, исходя из сего постулата. Зная сильные и слабые свои стороны, можно усилить первые и попытаться избавиться от вторых. Понимать своё место в череде иных народов и жить, исходя из этого. Ты всё, Дмитрий, говорил верно о том, кто мы, но, может быть, просто, переводя свою душу в слова, что-то теряешь неуловимое. Сие невозможно объяснить – с сим можно токмо родиться. А уж коли родились, то и жить должно так, чтобы не стыдно было признаваться в том, кто ты.
– Истинно так.
– Вот и хорошо, что согласен. Верю, что ещё не раз наши дороги пересекутся. Выздоравливай давай, – мы ещё пригодимся!
И Румянцев, хлестнув коня, погнал его в голову колонны. Попов же, проводив его взглядом, улёгся на спину и долго смотрел в небо.
Глава III
ПОЛЯ ПРУССИИ, ИЛИ СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛКОВОДЦА
Военная кампания 1758 года совершалась русской армией уже без фельдмаршала Апраксина, отстранённого от командования. Опального полководца вызвали в Россию и взяли под стражу. Там, в заточении, он и умер от апоплексического удара на одном из первых допросов.
Столь немилостиво судьба обошлась с недавним победителем Гросс-Егерсдофским всё из-за его очень уж поспешного отступления с места баталии, вызвавшего подозрение в Петербурге, ибо циркулировали слухи, что сие столь не характерное для медлительного по натуре фельдмаршала лихорадочно-быстрое движение не токмо акция военная. Но и сугубо политическая. Поскольку в это время, именно в это, императрицын двор пребывал в неустойчивой лихорадке ожидания – Елизавета всерьёз занемогла, надежд на выздоровление было мало, стало быть, вставал вопрос о преемнике. Или преемнице – канцлер Бестужев-Рюмин, ненавидя официального наследника трона – великого князя Петра Фёдоровича, намеревался способствовать воцарению супруги Петра – Екатерины.
Канцлер отписал о сей болезни фельдмаршалу. После чего началось движение русской армии к своим границам, возможно, для того, чтобы в нужный момент бросить тяжесть её штыков на неустойчивую чашу весов выбора преемника умирающей ныне императрицы – Пётр или Екатерина. Но Елизавета выздоровела. Канцлер за пессимистические намёки в переписке был приговорён к смертной казни, правда, заменённой ему ссылкой с лишением чинов и орденов. Конец Апраксина известен.
На следствии ему инкриминировали поспешность и необъяснимость отступления. Его объяснения – провианта, мол, не было, – вызывали вроде бы резонный вопрос:
– Почему отступал к границе, а не повёл войско к Кёнигсбергу?
– Так ведь там пруссаки! – наивно-испуганно оправдывался Апраксин.
– А ты на что, фельдмаршал хренов? Тебе на что войско было дадено: противника бить, города брать или людей в нём морить? – грозно вопрошал допрашивающий подозреваемого член «Конференции» Александр Иванович Шувалов.
– Так ведь осада дело долгое – провианта же нету!
Эта сказка про белого бычка, как ей и положено, шла по кругу. Вслух не произносилось главное – думал или не думал полководец подправить штыками престол. Но в воздухе это главное постоянно витало. Как-то не учитывалось, наверное, со страху перед положительным ответом, ведь, как известно, лиха беда начало – что решение об отступлении принимал не Апраксин единолично, а военный совет, собиравшийся трижды. Среди же членов его лишь незначительная часть могла чувствовать себя приобщённой к большой политике двора. Да и фельдмаршал был не из тех людей, что потрясают вселенные. И войны были редки, малорезультативны – у солдат не успевал воспитаться культ полководца, зато все прекрасно помнили о царях, водивших самолично армии, так что незачем было Апраксину идти в Петербург. Из всех русских полководцев подобное могли бы сделать лишь через годы и годы – находясь в зените своей славы – лишь Румянцев и Суворов. И, говорят, Екатерина II, умирая, оставила о сём предмете бумагу, собираясь, использовав авторитет этих людей, лишить трона своего сына Павла и отдать его внуку Александру. Но это когда будет!
Пока же, ныне – на допросах химерического преторианца – по-прежнему «да» и «нет» не говорили, правда, пригрозив молчальнику пыткой, чего он и не перенёс. Дело – за отсутствием главного виновника – закрыли. А на его место – главнокомандующим – был назначен генерал-аншеф В.В. Фермор, англичанин по происхождению, бывший некогда начальником штаба у Миниха, а последнее время служивший главным директором императрициных построек.
Армия под его командованием по первому зимнему пути снова двинулась в Восточную Пруссию и в короткое время в январе 1758 года заняла её, благо и Левальда там уже не было – его корпус был переброшен в Померанию против шведов. В этом походе Пётр Румянцев командовал одной из двух наступающих колонн и занял Тильзит. Затем во главе своих частей он вместе с войсками генерала И. Салтыкова вступил в Кёнигсберг и Эльбинг. Вступил уже генерал-поручиком – чин сей был пожалован ему на Рождество.
Из Кёнигсберга вновь испечённый генерал-поручик был отправлен в Столбцы, что около Минска, – переформировывать кавалерию. Здесь учли его опыт 1756 года, когда он формировал новые гренадерские полки. Через три месяца Румянцев привёл в Мариенвердер 18 эскадронов, оставив на месте кадры для дальнейшего пополнения. Это, вместе с переформированными им же кирасирами, дало до семи тысяч регулярной конницы. С частью её он и маневрировал до последовавшей в августе осады Кюстрина.
Ох, Кюстрин, Кюстрин! Несчастливый для русских городок. Как ни крути, – а несчастливый. Ведь с него всё началось, а уж как закончилось-то!
Вообще-то, Кюстрин после занятия Восточной Пруссии стал главной стратегической целью военного плана Конференции. Эта крепость была узлом дорог и переправ при слиянии Варты с Одером на правом берегу последнего. «Чрез то король прусский лишился бы всей Померании и части Бранденбургии», – отмечалось в плане.
«Конференция» считала, что, «овладев Кюстрином, можно по справедливости удовольствоваться тем почти на всю кампанию нам и нашим союзникам». Это был типичный подход западноевропейской стратегии. Стратегия эта проявилась и в том, что сформированные в западных областях России пополнения были организованы – вместо того, чтобы влиться свежей кровью в поредевшие полки ветеранов – в отдельную группу, названную Обсервационным корпусом и двигавшуюся из района формирования с отставанием от главных сил армии, шедшей из Нижней Вислы. Фактическое разделение армии на две группы имело своим следствием ошибочную мысль Конференции и Фермора решать различные самостоятельные задачи каждой из этих групп. Планировалось направить Обсервационный корпус к крепости Глогау и Франкфурту-на-Одере с целью овладения ими только силами этой группы.
Фермор вышел с зимних квартир в конце мая, но лишь 4 августа 1758 года русская армия подошла к Кюстрину и после жестокого обстрела всей своей артиллерией зажгла крепость. Фридрих во главе тридцатидвухтысячной армии поспешил на помощь гарнизону. Тогда Фермор приказал снять блокаду и отступить.
Согласно его распоряжениям, армия заняла позицию на обширном поле, имея в тылу деревню Цорндорф. Поле было всё в холмах, его перерезали два больших оврага. Словом, для человека, свято верившего в линейную тактику ведения боевых действий, Фермор выбрал не самую лучшую позицию.
В ночь на четырнадцатое Фридрих в обход правого фланга русской позиции зашёл Фермору в тыл. Тот, перепутав прусскую армию с турецкой, решил построение своей армии скопировать с классических каре, применяемых против осман. Продолговатый четырёхугольник со спрятанными внутри его обозами и артиллерией – таково было построение русского войска. Поскольку пруссаки зашли Фермору в тыл, то тот был вынужден с утра перевернуть фронт армии, то есть первая линия стала второй, правый фланг – левым.
По приказу главнокомандующего русская кавалерия в самом начале боя устремилась на левый фланг пруссаков с явным намерением врубиться в ряды пехоты и паникой решить исход баталии. Но Фермор не учёл всё более доминирующей роли артиллерии на первых этапах боя и того, что Фридрих – талантливый полководец – усовершенствовал линейную тактику и атаковал всегда один фланг противника, охватывая его затем своим сильным флангом. Это создавало перевес живой силы в нужном месте в нужное время. В данном случае сильным своим флангом Фридрих считал как раз левый...
И поэтому русская конница на подходе к боевым порядкам пруссаков была встречена сильным артиллерийскими ружейным огнём. Батареи Фридриха били с высот севернее деревни. Кавалерия повернула назад и подпала под огонь своего каре, палившего в клубах поднявшегося дыма наугад.
Тогда около одиннадцати часов утра прусские порядки в свою очередь предприняли атаку правого крыла русской армии, где стояла дивизия князя Голицына. Под всё усиливающимся артиллерийским огнём, под натиском одной из лучших пехот Европы русские стояли неподвижно.
При первых же неприятельских залпах ближайшее окружение осторожно обратилось к Фермору:
– Ваше превосходительство, не послать ли за подкреплением – ведь Румянцев недалеко. А ведь, хотя солдаты и держатся, но ведь известно: кашу маслом не испортишь!
– Ах, господа, – взвинченно вскинулся главнокомандующий, – разве вы не видите, что уже слишком поздно? Его королевское величество Фридрих не таков полководец, чтобы из своих рук выпустить законченную победу. Но для очистки совести пошлите, пошлите к Румянцеву. Хотя и не думаю, что что-нибудь это изменит!
Почти тотчас же после этих слов командующий исчез, оставив подчинённых наедине с их собственной судьбой, и несколько дней где-то скрывался. Дурной пример, как известно, заразителен: почти весь генералитет последовал примеру Фермора. Но солдаты и офицеры не воспользовались лукавой подсказкой начальства – и армия продолжала бой.
– Не робей, ребята, не робей, – подбадривал солдат совсем ещё молодой и зелёный поручик в забрызганном своей и чужой кровью мундире. Он морщился, когда кто-нибудь случайно задевал его левое плечо, но в остальном старался выглядеть как можно более уверенно и бодро.
– Ништо, сами бы не заробели, – вполголоса ворчали старые солдаты. Но говорили они это вполголоса и с таким расчётом, дабы офицер их не услышал. – А то уж и поярче мундиры тут были, а какая робость напала!
Офицер услышал, наконец, словесные экивоки подчинённых и покраснел. Но не от гнева, а от стыда – действительно, чего уж тут: сбежали...
– Ребята, так ведь долг наш...
– Знаем, ваше благородие, – перебили поручика. – На войну приведены и воевать будем. А смерть что – на то и война, чтоб умирать.
– Отставить разговоры, – теперь уже и рассердился молодой офицер. – На войне не умирать, а побеждать должно! Побеждать. Слушай команду! Ружья снарядить! Залпом – пли!
В ответ на ружейный треск пруссаки ответили огнём батарей.
Вздыбившаяся земля вновь на мгновение закрыла солнце. Когда пыльная мгла рассеялась, солдаты увидели лежащих рядом поручика и нескольких своих товарищей, среди которых был и тот, знавший общий долг на войне.
И тогда правое крыло русских – пехота и кавалерия – пошли в контратаку, и прусские батальоны были опрокинуты штыковым ударом. На левом крыле пехота Обсервационного корпуса, также совместно с кавалерией, не дожидаясь прусского наступления, сама перешла в атаку и полностью разгромила противостоящую пехоту Фридриха. Но отсутствие руководства и управления в русской армии сказывалось всё фатальнее: кавалерия противника, втрое превышавшая число русской конницы, терзала фланги. Фридрих умело маневрировал и ему удалось нарушить боевые порядки неприятеля.
Под беспрерывным молотом артогня, ружейных залпов и конных атак угол русского каре начал пятиться сначала чуть-чуть, потом всё сильнее. Ещё несколько минут такого движения – и не будет боевого монолита, но лишь толпа, в которой каждый ощущает себя одиноким.
– Стой! – подпоручик с измученным и насмешливым лицом раскинул руки с зажатыми в них пистолетом и шпагой. – Докуда бежать думаете? Неужто прям до России? А сил хватит?
– Хватит! – произнёс сивоусый солдат, вызывающе глядя на офицера.
– Это хорошо, – неожиданно легко перешёл на мирный тон тот. – Ежели у тебя сил хватает до дому бечь, может, немного отдашь и сейчас? Пруссакам, а?
– Можно, чего не отдать, – с восхищением поглядев на офицера, примирительно ответил сивоусый. – Ох, хитёр ты, ваше благородие!
Остальные солдаты, начавшие столь деликатно освобождать пруссакам пространство боя и давно уже окружившие говорящих, теперь тоже одобрительно загалдели.
– Ну а если можно, тогда слушай меня! Пробежки ваши на сем кончим! Ружья зарядить. Лечь и ждать: стрелять по моей команде. В штыки идти тоже всем по команде. И кучно.
Через несколько секунд вместо беспорядочной толпы, пытающейся обогнать свой страх, лежали, выставив оружие в сторону врага, четыре густых ряда пехоты. Появились быстро приближавшиеся пруссаки.
– Огонь! – Залп для королевской пехоты был неожиданным. И весьма ощутимым. Но инерция набравшего силу движения, гнала их вперёд, и остановить их сейчас могло лишь такое же встречное движение – пули в данном случае были уже бессильны. Офицер понял это:
– В штыки! Вперёд!
Его солдаты набрали необходимый разгон и встретили пруссаков грудь в грудь. Лязг стали, тяжёлое, запалённое дыхание людей, знающих, что сейчас они живут свои последние мгновения, крики – победные и скорбные – раненых и умирающих в момент наполнили всё пространство тем шумом, услышав который не стыдно и поседеть.
Мало кто мог выдержать штыковую атаку русской пехоты. Не оказались исключением и солдаты Фридриха. Прекрасно обученные профессионалы, они умели и любили воевать в монолите строя, чаще – с помощью ружейного огня, и всегда – под взглядом строгих, но мудрых начальников. Бой на штыках же – бой индивидуальный. Когда ты сам себе командир, когда ты сам для себя решаешь – упасть ли тебе, притворись мёртвым, в надежде, что пронесёт и тебя не заметят, или встретить блеск стали твёрдым взглядом. Прусская армия не горела неукротимым желанием положить животы своя во славу короля Фридриха, и поэтому поле боя осталось за русскими. Новая контратака – солдат в атаку гнали унтера и офицеры – и снова после прямой сшибки пруссаки откатились обратно. Как волна, набрасываясь на утёс, откатывается вновь и вновь, оставляя пену – убитых и раненых.
Таким был один из островков сопротивления – разорванное русское каре не разбежалось, а дралось малыми группами, понемногу опять начиная соединяться в единое компактное целое. Как ртуть.
Преданные и брошенные начальством русские солдаты стояли и умирали каждый на своём месте. Но не отступали. «Мёртвые сраму не имут», – говорил князь Святослав. Действительно, с точки зрения стратегии и тактики этот бой был проигран русской армией – её атаковали, она невероятно медленно отступала, сжимаясь во всё более и более плотное ядро, теряла свою живую силу, но она не поддалась панике, она не бросила оружия и не сдалась на милость счастливого победителя и тем самым поломала его намерения, лишив его окончательной военной удачи.
Румянцева не было в этом сражении – его корпус Фермор направил к Шведту, расположенному также на Одере на расстоянии порядка шестидесяти километров от Кюстрина, где ожидалась переправа неприятеля. Не удовлетворясь этим, Фермор приказал отделить Румянцеву от своего корпуса отряд генерала Рязанова – для осады Кольберга. Командир корпуса предупреждал главнокомандующего, чем может кончиться подобное распыление сил, но ему не вняли, й теперь, в день боя, он ждал распоряжений Фермора о своих дальнейших действиях, расположившись лагерем у одной из многих измученных войной немецких деревень.