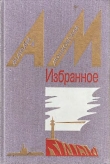Текст книги "Галактический патруль"
Автор книги: Юрий Тупицын
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Глава 11
Дом, который чуть не сто лет назад из лиственницы и корабельной сосны поставил в Болотках прадед Славки, Сергей Федорович Потехин, только снаружи выглядел как обычная изба-пятистенок. Внутри же он был полностью перестроен и превращен в дом современной планировки со всеми удобствами. Наличие в Болотках электричества, подаваемого по линии, сделанной с большим запасом по мощности передачи, позволяло, умеючи конечно, решить все проблемы организации жилья городского типа. Инициатором этой переделки была мать Славки, соответствующие инициативы она проявила в медовый месяц, половину которого супруги Лазорские проводили именно в этом доме. Старик Потехин отнесся к этой затее одобрительно и принял в этих делах посильное для своего возраста участие не только плотницким и столярным трудом, но и разумными советами. Он проявил покладистость еще и потому, что уже второй десяток лет жил со своими теперь уже взрослыми внучатыми родичами в соседнем, тоже пятистенном доме, а в своем только поддерживал порядок и время от времени протапливал, чтобы не сырел. Берег для любимого внука Сережи, который уже со студенческой молодости использовал этот дом как дачу, наезжая сюда с близкими друзьями.
Возразил старик Потехин только против ликвидации русской печи, вместо которой Нинель Лазорская замыслила поставить камин. Он терпеливо выслушал восторги невестки по поводу удобств и красот настоящего английского камина. Относился дед к своей невестке по-доброму. Нинель неплохо готовила, используя для этого электроплиту, исправно мыла посуду, убиралась и стремилась к порядку во всех бытовых делах. К этому времени богема с ее бесшабашностью и неустроенностью надоели ей хуже некуда. К тому же Нинель была красива, а главное – искренне влюблена тогда в своего Сергея, была от него без ума, по ее выражению, что конечно же не укрылось от деда. Выслушать-то свою невестку старик Потехин выслушал, но потом отрезал:
– По нашему климату камин не годится – все леса в округе в трубу улетят. Вообще, нет в мире ровни русской печи по удобству для крестьянского дома. Она и варит, и парит, и жарит; день и ночь тепло держит. Открой заслонку – чем не камин? Хошь на вертеле готовь, как французы предпочитают, хошь на углях жарь – на решетке, как сами англичане больше любят. Так что, Нина, печь в доме, а с ней и кухня – останутся.
Нинель пожаловалась Сергею на упрямство деда и попросила поддержки, но тот знал, что слово Сергея Федоровича нерушимо: сказал, как отрубил. Он и сам любил русскую печь, к тому же знал, что его дед, кузнец первой руки, известный по всей округе, человек грамотный, по-своему начитанный и умудренный долгой жизнью, уважая англичан за их техническую хватку и смекалку, посмеивался над ними за неумение чисто организовать свое житье-бытье.
– У нас у каждой семьи баня – либо на несколько дворов, либо своя. А у англичан их вообще нет! Ванны же – только у самых богатых. Да разве ванна – настоящее мытье? Лежит человек в собственном поте и прахе, в грязной мыльной воде, срам, а не мытье.
Когда Сергей принялся защищать высокую культуру англичан, дед его спокойно остановил:
– Я ведь не о культуре машинного дела говорю, не о театрах и картинах, а о культуре каждого дня жизни, Сережа. А у хорошей крестьянской семьи каждый день – трудовой. И самих себя обиходить надо, слуг-то нет, и скотина ухода требует. Грязнится в труде человек. У меня вон рукомойник стоит, в него ведро воды входит. Смыл струйкой грязь с рук, потом с мылом их промыл, за лицо принялся, – и все в проточной воде. А англичанин твой наливает воду либо в таз, либо в заткнутую пробкой раковину и плещется там как гусь. Да что говорить, от века простой англичанин под домом не чистый подпол держал, как россиянин, а выгребную яму с дерьмом. Задницу свою, видишь ли, боялся отморозить в уличном клозете. Это при альбионском-то климате с его Гольфшремом да с цветочками на зеленых лугах посреди зимы!
В общем, знал Сергей Потехин-Лазорский, что говорить с дедом насчет замены русской печи на камин – бесполезно. Тогда он подбросил жене претенциозную светскую идею: организовать на кухне своего рода бытовой музей. Сменить старую, уже потемневшую деревянную облицовку печи, заменив ее новыми досками из светлого, трижды проолифенного дерева; он показал жене эти золотистые, как бы сияющие таинственным внутренним светом доски, и Нинель с ее артистической, чуткой ко всякой красоте натурой пришла в восторг. Справа и слева от этой золотистой чудо-печи Сергей предложил на полках, подставках и просто на полу разместить русскую печную и кухонную утварь. Он предложил жене научиться растапливать и протапливать печь, готовить в ней исконно русские блюда и приглашать на такие пиршества приятных сердцу городских гостей. Нинель загорелась этой идеей, и вопрос о переделке русской печи на английский камин отпал сам собой.
В этой кухне-музее с золотистой печью, добро улыбавшейся Славке своим огромным полукруглым ртом, прикрытым заслонкой, находился и лаз в подпол. Славка откинула тяжелую деревянную верхнюю крышку, обнажив защитную плиту из железного листа в палец толщиной. Она слышала от папы Оси, что без автогена или новомодного плазменного резака пробиться через эту плиту невозможно. Выйдя в сени, где находился распределительный щит с двумя пробками, Славка поменяла их местами. Левая пробка была с секретом: при дополнительном повороте ее головки из донной части ее выскакивал полуторасантиметровый контактный штырь. В левом гнезде распределительного щита никаких секретов не было, а вот в правом, куда Славка переставила эту пробку, было потайное контактное гнездо, прикрытое заподлицо пружинной заслонкой. Проделав необходимые операции, Славка включила электролампочку, установленную над дубовой входной дверью, запертой на массивный железный засов, кованный самим дедом Потехиным. Через секунду после того, как сенная лампочка загорелась, из подпола донесся приглушенный гул работающего двигателя. Пробежав на кухню, Славка увидела, как защитная плита медленно, сантиметр за сантиметром сдвигается, открывая крышку – примерно такую же, как у обычного сейфа с цифровым шифр-замком телефонного типа. В создание этого хранилища для коллекции скрипок Коган, по его собственному выражению, вложил, майне цорес, целый воз денег с прицепом. Утешал он себя тем, что, во-первых, это были деревянные, все быстрее и быстрее теряющие свою ценность деньги, и, во-вторых, существенная часть этих денег была заменена бутылками пшеничной водки, которую Коган закупил по твердым государственным расценкам и которую многие умельцы с истинно золотыми руками брали охотнее любых денег. По ряду замечаний и комментариев папы Оси, касающихся этой, по-своему уникальной коллекции, Славка догадывалась, что он не оставляет надежды, дождавшись стабилизации финансов, выгодно запродать эту коллекцию, оставив для себя лишь самую малость. Конечно, для этого ему требовалось согласие Славки, которая формально являлась совладелицей инструментов, но, судя по всему, папа Ося был убежден, что на этом пути особых трудностей у него не будет. Для этого у него были основания. Он и Славка ладили, причем без всякой фальши, искренне симпатизируя друг другу так, что мама Неля упрекала мужа за равнодушие к Людмиле, что конечно же не было правдой.
Если бы в коллекцию входили только подлинные инструменты, она была бы, по выражению энтузиастов, бесценной, а по деловым меркам оценивалась бы десятками миллионов долларов. Однако истинных подлинников в коллекции были единицы, хотя подделок в ней не было вовсе. Основу ее составляли реставрированные скрипки с очень разным уровнем первичной сохранности. Скрипки восстанавливались известным во всем музыкально-скрипичном мире реставратором Константином Абрамовичем Зверевым, а сбор коллекции в виде своеобразного скрипичного лома начал его отец, Абрам Митрофанович – первая скрипка симфонического оркестра Одесского театра оперы и балета.
В разгар Гражданской войны в Одессу хлынул поток богатых беженцев, мечтавших выбраться из Советской России за границу. Они везли с собой все самое ценное и транспортабельное: деньги, золото, драгоценные камни, картины известных художников и… скрипки, принадлежащие главным образом прославленным школам итальянских мастеров. На старинных роялях, на старинных трубах, кларнетах и флейтах не играют, они звучат хуже новых инструментов, а то и вовсе не звучат. А вот скрипки, если это произведения подлинных мастеров, с возрастом отнюдь не теряют прелести своих голосов, напротив, их звучание становится еще более чистым и звонким. Поэтому старые скрипки, в отличие от старых роялей и труб, имеющих лишь скромную музейную ценность, ценятся очень высоко. А если они изготовлены, скажем, руками Антонио Страдивари или Гварнери Дель Джезу, то стоят поистине бешеные деньги. Но если это хорошо известно музыкантам и антикварам, то для большинства солдат и матросов, которые проводили досмотры багажей беженцев-буржуев, скрипки были чем-то вроде балалаек. Поэтому скрипок в процентном отношении в Одессу удалось провезти куда больше, чем, допустим, золотых червонцев или драгоценных камней. Одесса превратилась в своего рода склад скрипок самого разного достоинства, причем это отнюдь не преувеличение для красного словца, а довольно грустная, варварская действительность. Скрипка – тонкий и хрупкий инструмент, требующий бережного хранения, а Одесса в разгар Гражданской войны представляла собой переполненный людьми, беспокойный город, где царствовал Мишка Япончик и процветал разбой и откровенный бандитизм. Скрипки ломались и случайно, и по-варварски намеренно, подобно тому, например, как был сломан, а точнее, попросту сброшен со второго этажа знаменитый «Стейнвейн» Рахманинова – ради потехи и надругательства над землевладельцем.
Вести о скрипках, скопившихся в Одессе, дошли до Москвы. И в мае 1920 года в этот город был направлен специальный сотрудник ВЧК Прокофьев с заданием отыскать и доставить в Москву все ценное. Для хранения и транспортировки скрипок Прокофь-еву по специальному указанию Ленина был выделен целый железнодорожный вагон, причем не простой, а комфортабельный – так называемый классный. Усилиями Прокофьева и тех людей, которые помогали ему, для России было сохранено множество уникальных инструментов, которые составили основу Государственной коллекции скрипок, хранящихся в Большом зале Московской консерватории.
Но параллельно с уникумами группа Прокофьева собрала скрипки разной исторической и музыкальной ценности, в том числе поврежденные и так называемый скрипичный лом, с которым тогда не было времени толком разобраться, – хоть на растопку их пускай, благо древесина сухая. Тогда-то на Прокофьева и вышел Абрам Зверев, попросивший этот лом передать в его распоряжение для детального исследования и возможного восстановления. Абрам Зверев был не только первой скрипкой симфонического оркестра, но и реставратором-любителем. К его услугам обращались многие скрипачи: музыканты – народ легкий на развлечения и рассеянный, а скрипки – инструмент ломкий, они повреждаются куда чаще, чем это представляется неискушенным в таких делах людям. Вооружившись нужными документами и захватив с собой великолепную скрипку, доставшуюся ему по счастливому случаю, – изделие Ивана Андреевича Батова, прозванного в музыкальном мире русским Страдивари, Абрам Зверев явился к Прокофьеву на прием. Попросив разрешение сыграть и получив оное, он исполнил «Цыганские напевы» Сарасате. А потом рассказал об изготовителе скрипки, на которой только что играл, о мастере-самородке Батове, который родился в семье крепостных крестьян графа Шереметева. Обучившись в Москве мастерству скрипичных дел, Батов вернулся в графское поместье, из-готовил много инструментов для знаменитого шереметевского крепостного оркестра, получил за свое искусство вольную и, поселившись в Петербурге, посвятил любимому делу всю оставшуюся жизнь. Скрипки Батова славились не только в России и Европе вообще, но даже в Италии – родине величайших мастеров скрипичного дела.
Чекист Прокофьев был тронут рассказом о прославившемся на весь мир крепостном мастере. Он полюбовался скрипкой Батова и попросил сыграть что-нибудь еще такое, чтобы славянским духом полнилось. Прослушав «Славянский танец» Дворжака, Прокофьев тут же удовлетворил просьбу Абрама Зверева и выписал на его имя модный в те времена мандат.
Вряд ли бы сам Абрам Зверев сумел извлечь из этого мандата практическую пользу. Но к сбору и скупке всего, что представляло интерес, активно подключился близкий приятель Зверева – Авиэзер Коган, дантист по профессии, совсем неплохо, по любительским меркам, игравший на скрипке. Профессия дантиста открывала Когану легальные пути к купле-продаже золота, он был человеком денежным и оборотистым. При его участии и было положено начало частной коллекции реставрированных и восстановленных скрипок, которой на равных паях владели Коганы и Зверевы: первое семейство добывало инструменты, второе – отбирало все, заслуживающее внимания, и работало над их восстановлением. На волне исхода в столицу, которая унесла из Одессы многих ищущих лучшей доли людей, в том числе и будущих знаменитостей мира литературы и искусства, отбыли в Москву и Коганы, и Зверевы. С ними прибыла в столицу и коллекция скрипок, которая потом перешла во владение старших детей этих семейств – Константина
Зверева, мастера скрипичных дел, и Осипа Когана, известного скрипача, который был на двадцать один год моложе своего партнера.
Полтора года тому назад Константин Зверев, семидесятитрехлетний старик, оставил дела, продал московскую квартиру вместе с мебелью и отправился на свою родину – в Одессу, к внучке, которая давно звала его к себе, и к подруге юности, с которой он переписывался всю жизнь и которая жила теперь в полном одиночестве. Коллекцию скрипок он рознить не пожелал, а фактически подарил Осипу Когану, получив довольно крупную сумму рублевых отступных. Однако же, по сравнению с подлинной стоимостью коллекции, она была чисто символической. Помимо отступных, Константин Абрамович потребовал от Когана вовсе неожиданной уступки: вместо себя он сделал официальной совладелицей коллекции Ярославу Лазорскую. Этот пункт завещания должен был вступить в силу, когда ей исполнится двадцать один год – год настоящего совершеннолетия, по мнению старика.
– И потом, Ося, – сказал старый мастер ошарашенному этим неожиданным пунктом сделки Когану, – двадцать один – это как раз тот срок, на который я тебя старше.
– Не пойму, на черта это тебе нужно, Константин Абрамович, – растерянно бормотал Коган, выслушав это ультимативно сформулированное условие. – Славка, конечно, хорошая девочка, я люблю ее не меньше тебя, – как отец. Но что она понимает в скрипках? Зачем они ей нужны?! Не обижайся, но, по-моему, ты не головой, а тухисом думал.
– Может быть, и тухисом, – покладисто согласился Зверев. – Только ты Славке не отец, а отчим. По отце она до сих пор тоскует.
– Что, скрипки отца ей заменят? Возьми еще отступного, купи ей бебей, – в разговорах со Зверевым Коган любил жаргонить, – купи ей кольцо, колье, диадему, что ли, – вот что нужно в двадцать один год! При чем тут скрипки, которые мы собирали всю жизнь? Откуда ты схватил этот бзик?
– Не только мы, Ося, фатеры наши тоже к этому делу руки приложили.
– Ну и что? Из-за этого разве ты свою половину коллекции девочке завещаешь?
– Из-за этого. Только не перебивай меня, Ося. Последи за моей мыслью.
– Да какие там у тебя мысли? Бред собачий!
– Последи за моим собачьим бредом. Последи, другого тебе не остается. Я боюсь, если передам тебе всю коллекцию, так ты ее таки пополовинишь, а то и вообще разоришь. Что поценнее и хорошо звучит – оставишь, а остальное, больше музейное, чем музыкальное, – загонишь. А я хочу, чтобы коллекция в целом виде сохранилась. Вот Славка мне и поможет: без ее подписи сделка не будет действительной, а подпись ее до двадцати одного года силы иметь не будет. Понял, как я тебя опутал?
Коган горестно покачал головой:
– Наивный ты человек, Константин Абрамович. В наши-то дни? Какие там подписи! Был бы хороший чохыс.
– На грязный гешефт ты не пойдешь, Ося, – уверенно отпарировал старый мастер. – У тебя имя в мире музыки, тебе его беречь надо. Ну и совесть.
– Что?
– Совесть, Ося, совесть. Обмануть Славку тебе совесть не позволит.
Коган рассвирепел, его византийские глаза запылали демонически.
– Выходит, Славку я обмануть не смогу, совесть мне не позволит, а тебя – смогу и совесть мне позволит? На это ты намекаешь, а?
Константин Абрамович легко выдержал гневный взгляд своего экспансивного собеседника.
– Не ерепенься, Ося. Человек вообще существо таинственное и многозначное, а уж музыканты… Ты сам знаешь, богема – она и есть богема.
– Это я богема?
– Неужели нет? Пока я живой, Ося, ты свое слово, мне данное, держать будешь. А вот когда я помру, все изменится, разве нет? А я скоро помру, Ося, чую. Поэтому и в Одессу еду.
Коган потерянно молчал, он всегда терялся, когда с ним откровенно говорили о смерти, – он ее ужасно боялся.
А Зверев, помолчав, продолжал:
– И потом, долг я перед Славкой испытываю. Я ведь с дедом ее приятельствовал, которого она никогда в глаза не видела, с Василием Сергеевичем. В Сочи с ним я подружился, в гостинице «Приморская», что стоит на самом берегу Черного моря. Я там один проживал, а он с супругой, Катенькой, и с сынишкой, Сережей. – Константин Абрамович задумался и недоуменно пожал плечами. – Какой-то злой рок над семейством Потехиных тяготеет, Ося. Дед Славки, с которым я дружен был, был летчиком-инспектором в ВВС. Поехал он инспектировать в Михец Цхакая и погиб во время ночного полета в Кавказских горах, ни обломков самолета, ни его самого так и не нашли. Сильно убивалась Катенька! Грешен, предложил я ей тогда руку и сердце. Отказала. И вскоре погибла, улицу переходила – и под самосвал, под «КрАЗ».
– Никогда ты мне не говорил об этом, Константин Абрамович.
– А чего зря воздух сотрясать? Сын Василия, Славкин отец, в тех же горах, только не Кавказских, а Тянь-Шаньских, под лавиной похоронен. И как у отца, нет у него могилы настоящей. А прадед Славкин, Сергей Федорович Потехин, переживший не только сына, но и внука, пошел в своих Болотках в лес, по грибы. Крепкий был старик в свои девяносто с лишним лет, все зубы у него были целы. Пошел – и как в воду канул. И у него настоящей могилы нет. Ну разве не злой рок? Не раз я думал, неужели и Славке, падчерице твоей, уготована такая же судьба? Жаль мне ее, хорошая девочка – настоящая барышня, без изъяну. Вот и сделал я ее своей наследницей, Ося.
Славка, конечно, ничего не знала и никогда не узнала об этом разговоре. С Константином Абрамовичем она распростилась тепло, но несколько рассеянно – не совсем она еще отошла тогда от стресса, вызванного неожиданной гибелью отца. По той же причине она не особенно удивилась тому, что стала по завещанию Зверева формальной совладелицей коллекции скрипок, о чем ей сообщил папа Ося уже после отъезда Константина Абрамовича в Одессу. Коллекцию эту она знала хорошо, не раз она разглядывала разные, часто вовсе не похожие на обычную скрипку инструменты, размещенные в нескольких застекленных шкафах гостиной Зверева, и с интересом слушала его рассказы о происхождении и развитии этих поющих разными голосами творений рук человеческих. Воображение девочки поражали не только разнообразие размеров и форм инструментов, но и удивительные различия в окраске: они красовались лаковыми покрытиями разных цветов – от желто-золотистого до темно-вишневого. Прослышав где-то, что именно лак делает скрипку голосистой и что рецепты лака составляли главную тайну скрипичных мастеров, подаривших людям лучшие скрипки, Славка поинтересовалась у Константина Абрамовича, правда ли это. Он улыбнулся и лукаво сощурил свои синие, как незабудки, глаза.
– Скрипка – маленькое чудо, Славка, королева музыкальных инструментов. Маленькая пустая деревяшка, а поет почти человеческим голосом, да так звонко, что целый симфонический оркестр не может заглушить ее. Вот, как и всякое другое чудо, она и обросла легендами. Одна из легенд – лак. – Видя разочарование на лице девочки, он успокоил ее: – Скрипка красива не только по звуку, но по виду. Посмотри, она как живая! У нее маленькая головка с завитком и колками, длинная, как у лебедя, шейка, широкая грудь, тонкая талия, украшенная отверстиями – эфами, и умеренно полные бедра. Писаная красавица!
– Только ног у нее нет, – засмеялась своей мысли Славка.
– А зачем ей ноги? Скрипка или спит, лежа в футляре или шкафу на мягком бархате, или бодрствует и поет. Ноги скрипке вовсе ни к чему. Как и всякой красавице, скрипке нужно подобающее платье. Лак и является ее платьицем, почти незримым, а таким ярким. Она ведь не выглядит голой, правда?
– Правда, дедушка.
Константин Абрамович усмехнулся:
– На голой, без лака скрипке в бане надлежит играть, а не в концертном зале. Но не только для красоты нужен скрипке лак. Как и всякая одежда, он ее греет, жизнь ей хранит и голос бережет. Небось видела, как оперные тенора шарфами в стужу свои шеи укутывают? Нет? А ты обрати внимание, почище барышень кутаются. Вот и скрипку лак окутывает, не дает проникать в древесину влаге, микробам всяким и грибкам. Старая скрипка поет даже лучше, чем новая.
Славка удивилась:
– Вы же говорили, что она как живая!
– Ну?
– Разве старики поют лучше молодых?
Константин Абрамович покачал головой:
– Вот ты куда загнула! Видишь ли, Славка, скрипка не просто живая. Если, допустим, сравнивать ее с женщиной, а она женского роду – и по названию, и по характеру, то она – не просто женщина, а богиня. Она вечно молодой остается, как, ну, например, Артемида. Слыхала про такую?
Славка помотала головой:
– Нет.
– Римляне ее в Диану переименовали. Видишь, слыхивала. Вечно юная дева, эта Артемида, сестра солнечного бога Аполлона. Строгая девица! Когда один юноша, Актеон, задумал подсмотреть, как она купается, так она его в оленя превратила. Скрипка – тоже создание строгое, вольностей да небрежности не терпит. Чтобы она запела настоящим голосом, тонкое искусство требуется. Видела, как Осип, отец сестры твоей Милы, на скрипке играет?
– Я больше слушала, дедушка.
– И правильно делала. А ты еще и посмотри! Посмотри, как он любовно скрипку к плечу прижимает, как пальцы его по грифу бегают, будто гладят, как смычок скользит и плавает по жильным струнам ее души.
Зверев бережно погладил по струнам и верхней деке скрипку русского Страдивари Батова, которую демонстрировал девочке.
– Старости у хорошей скрипки нет – всегда молода звонким голосом. А вот, как у человека, детство у нее есть и девичество тоже наблюдается.
Славка слушала с таким интересом, что даже бровки нахмурила.
– Самое главное в скрипке – деки, особенно верхняя. Итальянские мастера делали ее из тирольской ели, но идет на нее и другое дерево – северная ель, пихта, сосна. На нижнюю деку шла либо плотная липа, либо, еще лучше, клен – не всякий, отборный, в Италию аж из Турции завозили. И не всякое дерево даже самой лучшей породы шло на скрипку. Брали дерево прямостойное, что растет на тощей земле в долинах, защищенных от ветров, – у такого дерева древесина ровная и плотная, хорошо пилится, строгается и шлифуется. Выбирали такие деревья, на которые птицы предпочитают садиться. Считали, что птицы, они же прирожденные певуньи, тянутся к тому, что может потом и само хорошо запеть.
Скрипичный мастер постучал узловатым пальцем по верхней деке скрипки.
– Все дело, Славка, в правильной толщине этой дощечки и вот этой, что донышко скрипки образует. Их настраивают еще до сборки инструмента, выстукивают, выслушивают и состругивают в нужных местах лишние слои древесины. И все равно бывают промашки. – Константин Абрамович усмехнулся. – Соберешь скрипку, проведешь смычком по струнам, а она не запоет, а заверещит, как поросенок, или замяучит, как голодный кот.
Славка захохотала, не особенно доверчиво, впрочем, поглядывая на старого мастера.
– Право слово, слушать противно. Тогда разбирай скрипку и настраивай ее заново. Знаешь ведь как бывает с детьми. Ты в каком классе?
– Во втором, дедушка.
– Ну, тогда присмотрелась уже. Один ребенок послушный да старательный, а другой – капризный да упрямый, нехочушка, одним словом.
– У нас Владик такой, – сообщила девочка.
– Вот и среди скрипок при их рождении попадаются такие Владики-нехочушки. У каждой свой характер! Иная, почитай, сразу запоет – любо-дорого слушать. А с другой – месяцами бьешься и без толку. Случалось, по молодости, я ломал в сердцах таких упрямых бестолковок. Брал за гриф и об угол верстака – хрясь! И нету скрипки, вылетела из нее душа, да какая там душа? Пар один – с визгом вместо голоса.
Заметив неодобрение в глазах девочки, Константин Абрамович виновато пояснил:
– Молодой я был, глупый. Потом поумнел, перестал нехочушек ломать. Я наказывать их стал.
У Славки широко открылись глаза от удивления.
– Да, наказывать, – подтвердил старый мастер, пряча в усах улыбку. – Положу ее на антресоли годков на пять, вроде как в тюрьму сажаю за упрямство. Скучно ей там, одиноко. Потом достану, пыль вытру, приласкаю… Смычком по струнам проведу – и, глядишь, запела скрипка, прорезался у нее голос.
– Это сказка такая?
– Зачем сказка? Правду тебе говорю. Такое наказание не всегда, конечно, помогает. Но если вот дерево недовыдержанное подсунули, сыроватое, толк бывает. Знаешь, сколько скрипичную древесину сушат? Не менее шести лет. Сыроватая ель или сосна никогда не запоет по-настоящему. А отлежится скрипка на антресолях, дерево подсыхает, и пустой пар в поющую душу превращается.
Константин Абрамович бережно уложил золотисто-коричневого Батова на черный бархат подстилки, улыбнулся девочке и разгладил усы.
– Правильно настроенная скрипка тоже не сразу запевает полным голосом. Ее еще к музыке приучить нужно, обыграть, как мастера говорят. Какую больше, какую меньше, но обыграть обязательно – исполнить на ней пьески сначала попроще, а потом посложнее. Каждая клеточка скрипки должна напитаться гармонией звуков. Гармонией, Славка, слово-то какое – гармония! Напитается ей скрипка, и голос ее станет чище и звонче. А вот если необыгранную скрипку положить на годок-другой, допустим, в кузнечный цех, где стукотня, шум и какофония, то навсегда она испортится – хрипеть будет. Вот какие дела, Славка.
Двигавшаяся, как сонная черепаха, защитная плита наконец-то добралась до упора и застопорилась. Гул электродвигателя смолк, а Славка оторвалась от воспоминаний о Константине Абрамовиче, которого девочкой в разговорах со знакомыми называла иногда своим зимним дедушкой. А летним ее дедушкой был ее прадед – Потехин. Зимой Славка бывала в Болотках редко, разве что на каникулах, вот и появился в ее детском житье-бытье особый, зимний дедушка, живший в самой Москве. Набрав на шифраторе нужный шестизначный код, это были числа и месяцы рождения Людмилы, мамы Нели и самой Славки, девушка повернула до упора ручку сначала по часовой, а потом против часовой стрелки, ухватилась за скобу и подняла крышку люка. Послышался щелчок, и электрозамок намертво зафиксировал крышку в таком положении. Теперь закрыть ее можно было только после снятия блокировки электрозамка, соответствующий переключатель находился в подполе. Эту страховку папа Ося демонстрировал Славке с особенным удовольствием. Он страдал легкой клаустрофобией, и перспектива оказаться замурованным в подполе-хранилище его просто ужасала.
Подпол был хорошо освещен, две лампы под матовым полушарием включались автоматически при открытии крышки люка. На нижней его крышке в специальном зажиме покоился электрофонарь с ремешком – еще одна предосторожность папы Оси, который, как и всякий клаустрофобик, боялся оказаться в темноте при случайном обесточивании электросети. Славка, как ее учил папа Ося, проверила, загорается ли фонарик, повесила его на шею и начала спускаться по деревянной лестничке с перильцами в подпол. Эта лестничка была здесь единственным предметом, оставшимся от первоначального оборудования подпола. По существу, подпола не было – он был превращен в подземную комнату, обшитую светлыми, плотно подогнанными друг к другу, гладко обтесанными, некрашеными досками, отчего здесь стоял приятный запах дерева. В хранилище было тепло и сухо, нужный микроклимат поддерживался электрокамином с терморегулятором-автоматом. Ступив на деревянный пол хранилища, Славка повернулась лицом к его длинной стене, где размещалась экспозиция скрипичных инструментов… И ахнула – экспозиция исчезла!