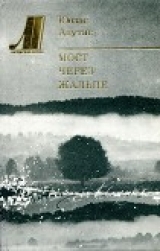
Текст книги "Мост через Жальпе (Новеллы и повести)"
Автор книги: Юозас Апутис
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Тадеушасу уже лучше, ему опять дают читать книги, шпарит он от корки до корки и литературный еженедельник, наверное, скоро и вовсе поправится, потому что уже хохочет, наткнувшись на страничку, где дают выволочку писателям; ведь приятно жить, когда видишь, что судьба карает всех почти на один манер.
Дай боже, чтобы Тадеушас окончательно поправился, а мы, не раз уже хворавшие и поправившиеся (отчего бы не похворать по-людски), не раз пытавшиеся видеть не саму жизнь, а лишь тусклое ее изображение, давайте попробуем ответить на два вопроса: 1) почему так загадочно исчез мусор? 2) что следовало делать Тадеушасу, чтобы уйти от такого неприятного финала?
Ответов, без сомнения, может быть много и разных, никто не собирается навязывать свое мнение, но почему бы не порассуждать? Вопросов мы получили два, а для окончательных выводов представляем три гипотезы, которые, пожалуй, чем-то помогут: 1) давайте не смешивать литературу с жизнью; 2) раз уж люди решили очиститься, то и очистятся; 3) раз уж люди решили очиститься, то когда-нибудь решат и омусориться.
Итак, – если вы проведаете Тадеушаса и захотите сказать ему что-нибудь приятное, скажите: терпение, терпение и еще раз терпение.
Особенно следует подчеркнуть один момент: главное – выждать.
ЗНАКОМСТВО С СЕДОВЛАСЫМ СТАРИЧКОМ
На самом деле он не такой уж старый, только седой, как лунь. Держался до шестидесяти лет, а седеть стал после того, как вдруг захворала корова и ветеринар ничем не мог помочь, хотя и запузырил Черноспинке в брюхо, как сам похвастал, целый литр лекарства. Дня два коровенка еще тянула, но чахла на глазах, а на второй вечер жалобно замычала и дрыгнула задними ногами. С тех пор он и стал седеть. Когда отвозил в лесную чащу и когда хоронил, было ничего, зато потом несколько ночей не мог заснуть, все мучался и прикидывал, как придется жить дальше. С той поры и поседел. Его толстенная жена, такая толстуха, что во всей Литве второй такой не сыщешь, тоже переживала, но не так сильно, больше внешне, а он все брал нутром. Сказывают, толстой она была с девичества. Когда в омуте забиралась в речку, то ниже по течению купальщики чувствовали, как вода поднималась до колен – ее задерживала запруда из жены Винцулиса. Она большая любительница поохать; если ее послушать, то за всю ее жизнь в этом доме не было ни единого веселого, радостного часа, но она просто умеет выговориться, выкричаться; когда пала Черноспинка, она себя утешала и мужа успокаивала:
– Перестань! Слезами горю не поможешь. Не у нас одних. Купим.
– А откуда куплево взять?
– Сказал! С книжки снимем.
– А ты прыткая! Снять-то снимешь, а откуда опять положишь?
Неизвестно, положили опять или не смогли, однако коровенку купили, за пятью деревнями сыскался человек, который перебирался к детям в город и вынужден был продать отменную, нестарую еще и удоистую корову. От покупателей отбоя не было. Хотела купить и старушонка, жившая бобылкой, – ее восемнадцатилетнюю Пеструху сосед недавно отвез на заготпункт, сунул заготовителю трехлитровую банку самогона, чтобы тот принял эти мощи, старушка и деньги за свою дохлятину успела получить, несколько дней подряд ходила к соседу, приценивалась, торговалась, да никак не могла сторговаться. За вырученные деньги ей причиталась лишь половина этой хорошей, удоистой коровы, хозяину которой вскоре предстояло на грузовике – он решил прихватить и свою стародедовскую мебель («Папенька, – говорила его дочка, – мы тебе новый шкаф и диван купим, а ты нам с Теодорасом отдашь свои старинные, одну комнату мы собираемся обставить под чистую половину избы времен твоей юности…») – уехать в город и пить белое молочко уже не из коровьей титьки, а из широкогорлой бутылки. Старушонка-то, может, и добавила бы немалые деньги, собранные за много лет за молоко той же Пеструхи, но в прошлом году заглянули к ней какие-то нехорошие джинсовые парни и эти денежки отобрали. Все удивлялись, зачем она деньги держала дома, а не в железном шкафу сберкассы. Теперь ей по карману была только телка, вот она и решила помаяться год-другой без своего молочка, зато вырастить животину на свой вкус. Будущий горожанин вконец озверел, еще круче взвинтил цену на корову, и все жители ближних деревень в один голос сказали: а пускай он удавится, когда никто у него не купит, придется коровенку увезти в город и держать в панельном доме. Его зять, этот самый Теодорас, который, пока тесть собирался в город, частенько наведывался в деревню – надо было аккуратненько разобрать избу, бревна были сносные, – сам-то зять работал не то на стройке, не то в управлении каком-то, достанет новых, если не хватит, из этих бревен, отмытых добела, он собирался отгрохать избенку за городом, на садовом участке. Зять у него был голова, все наперед рассчитал: фундамент будущей деревенской, в национальном стиле избушки, как выражался Теодорас, уже был готов, и не только фундамент, а глубочайший подвал под всем домом, в два, а то и три этажа, – полюбилась в наши времена людям глубинка, – так вот, его зять, этот самый Теодорас, даже матюкнулся: а пускай они удавятся, пускай не покупают корову, пускай не дают требуемое, хороший кореш Теодораса, председатель колхоза, купит для своего хозяйства, и еще ему, этому хозяйству, тестева коровенка каким-то образом сойдет за свою, то есть, подлатает колхозные планы, или как там, разве поймет несведущий человек. Однако тесть оказался человеком стародедовским – ему хотелось, чтобы животина попала в руки к хорошему человеку, и понемногу эта весть долетела через пять деревень до начавшего седеть хозяина – кажется, упоминал уже, что звали его Винцулисом, – и тот выбрался в путь. Назавтра вернулся, и вдвоем с женой поехал в райцентр, в сберкассу, где снял с книжки деньги, с тем человеком Винцулис уже ударил по рукам, однако все-таки снял на пятьдесят рублей меньше.
– Скажу, что до последней копейки выскреб.
– А если не отдаст? – забеспокоилась жена.
– Отдаст, никуда не денется.
– А может, не гоже так, Винцулис?
– Поймешь теперь, что гоже, а что негоже. А ему столько драть гоже?
Покупать Винцулис поехал один, жена вернулась поездом, Винцулис объявился дома под вечер третьего дня – корову вел за веревку, по дороге доил и недорого продавал молоко туристам – коровенку-то он вел больше по берегам речек, где туристов что блох на собаке. Ругают, ругают все эту молодежь, а вот одна девчонка попалась совсем порядочная – вызвалась даже подоить корову Винцулиса. И что – подоила просто мастерски, поэтому, когда дала Винцулису деньги за молоко, Винцулис рубль ей вернул, а девчонка охала:
– Не надо, дядя, не надо, вам нужнее (мать девчонки три дня назад получила аванс, а за комнатку в городе в тот раз заплатила вперед), – и Винцулис, украдкой покосившись на рубль, забрал-таки его, хотя вроде бы и уступая. Корову гнал пешком, поскольку грузовик нанимать жутко дорого, вдобавок случается, что на дрянной дороге животина в кузове ломает ногу или ребра. Тесть Теодораса проводил корову грустным взглядом, но долго глядеть на ее хвост было некогда – во дворе уже урчал грузовик, заваленный стародедовской мебелью, тестя торопил зять, уже сидевший в своей легковушке, злой, как черт: взъелся на Винцулиса за то, что не оказалось у него этой полсотни. Детей в этой деревне, в соседних домах, еще оставалось несколько, выпятив животики, они с хохотом провожали Винцулиса с коровенкой, а когда процессия удалилась, вдруг перестали смеяться: на детей тоже накатывает грусть при расставании.
Добравшись до хутора, корова – теперь уже Винцулисова – вскоре стала бегать, задрав хвост, и это говорило о том, что она довольна, что вся эта дальняя дорога для нее нипочем.
Выпал неописуемо грибной год, и Винцулис с женой даже картошку не копали, даже детей – уже студентов – по воскресеньям в лес посылали, труба над избой дымилась не переставая, у Винцулиса была даже своя сушильня построена, вся округа пахла боровиками, которым несколько месяцев спустя предстояло осчастливить запахами городской базар.
Ездить Винцулис начал за неделю до Рождества, получил неплохое местечко под крышей и едва успевал в этой толчее отвечать на вопросы: почем, не сбавит ли, не червивые ли («Сам бы ты сгорел, не только червяк – такая жарища в печи»), вскоре вокруг него собиралась толпа, и торговля шла на редкость бойко. Аккуратная ушанка, надвинутая на лоб, седые короткие усики, которые он отрастил недавно, словно угадав, что так будет выглядеть симпатичнее, так и притягивали людей к Винцулису. Некоторые даже лишний рубль прибавляли, особенно дамочки с накрашенными губами, цедившие сквозь белые зубки слово «Прибалтика». Когда распродажа подходила к концу, Винцулис, улучив свободную минуту, уже с гордостью думал, что вскоре его грибочки на поездах и самолетах отправятся в далекие прекрасные города, может, доберутся даже до Варшавы и Кракова, где кто-то попробует его грибочков и, может, вспомнит Винцулиса, расскажет, как выглядел этот старичок, какой он симпатяга, как он кумекал не только по-русски, но и по-польски, и рассказывал, что бывал в Кракове, когда в польское время служил в армии. И Винцулис чувствовал, что этими грибочками он выплывает если и не на очень широкие, то уж, во всяком случае, не тесные воды, приобретает интернациональный масштаб.
Однажды, быстро распродав свой товар, Винцулис пожалел, что не прихватил жену: вдвоем больше бы привезли, а привозить было что – насушили-то без счета. Хотя лучше не хвастать. Правда, как-то прикатили вдвоем, но торговля шла через пень-колоду, и Винцулис навсегда отказался от услуг жены – чертовщина какая-то, но всех больше к тебе тянет, когда ты один, да и сам ты пуще стараешься, а эта… Нехорошо говорить, но… топчется, как медведь, за прилавком… Окончательно могла испортить настроение дочка Тереселе – студентка, как уже говорилось, изучала она (сказать стыдно) литовский язык с литературой, или что-то в этом роде, как будто мы без науки по-литовски говорить не умеем… И приди же в такую минуту, когда он распродавал последние грибы! Дескать, одни такие штаны приглядела, бесенок, носит под полой черномазый, «Сафари» прозываются (а ну их в пекло!), большая редкость. Ужас, как подумаешь, – два килограмма за эти портки! Была бы хоть ее наука наукой, а то кончит – все равно будет у меня из кармана тянуть, ветеринар как-то обмолвился, что нынче в такие науки идут только дефективные, которые ни на что больше не годятся. Ветеринар-то считает, что у него – единственная стоящая наука, что после университета Тереселе будет бегать с голой задницей, до гроба будет заглядывать отцу в карман. Альбертас – другое дело: тот постигает торговые науки, способный был, чертяка, поступил без всякого блата, эти пять килограммов сушеных боровиков ведь не в счет. Сказывают, тысячи суют. Говорят, даже в тюрьму некоторых из тех, что берут, посадили. Альбертас и сейчас уже то да се приносит, еще только третий год учится, покамест только с практики, а все ж не из дома – в дом. Да ладно, как-нибудь уж выкарабкаются дети. Никуда не денутся; друг другу подсобят, поддержат.
Идет Винцулис, распродав грибочки, гуляет себе по базару, озирается, у толстой черной приезжей бабы покупает полкило орехов с толстой скорлупой – привезет жене; ходит вдоль прилавков, то и дело трогая внутренний карман – бывают ведь люди, которые хотят все иметь, но пальцем о палец не ударят, вытянут денежки, только зазевайся. Останавливается у столов, где старики постарше Винцулиса и красномордые мужики торгуют мясом, один такой щекастый поцапался с покупательницей, которая не пожелала вместе с мясом взять и кусок сала; даже небольшая толпа вокруг них собралась. Щекастый, наконец, не выдержал:
– Лучше на себя погляди… А хочешь, чтоб у животины сальца не было!
Покупательница взъерепенилась – он, видите ли, еще издеваться, оскорблять будет, господи, что стало теперь с деревенскими, похуже фабричных алкашей! Вот те и деревня! – насмешливо думает Винцулис, конечно, заступаясь в душе за щекастого, ведь в самом деле – откуда возьмешь мясо без жира-то? Настанет время, все сожрете, что ни покажем, да еще руку поцелуете!
А вот этот дед спокоен на диво – с улыбкой отвешивает телятину, смотрит на пляшущую стрелку весов, а, говорит, пускай будет больше, сам-то я ведь не покупаю, что тут из-за грамма… Услышали его божеские слова все, кто только понял, а такие слова понимают все до единого, уже выстроились в очередь, уже говорят: добрый человек, а дед переводит дух, устал он нагибаться, смотрит минутку перед собой, забыв обо всем на свете, глядит в какую-то далекую точку, потом опять наклоняется, берет и кладет мясо на весы. Винцулис подходит еще ближе, спрашивает о цене, хотя слышал, как пять человек спрашивали и как пять раз дед отвечал, но такая уж мода на базаре, надо самому спросить. Слышит и даже рот разевает: ну и цена! Стоит ли растить теленка до осени, мучиться, не лучше ли сразу зарезать и на базар привезти? Конечно, комбикорма не получишь, и ну его в болото!
Воротившись домой, Винцулис весь вечер, почти до полуночи, толкует с женой, советуется и принимает решение: теленка надо зарезать и отвезти в город. Надо попробовать, никто за это голову с плеч не снимет. За стеной, в своей комнатушке, вслух читает Тереселе – приближаются какие-то экзамены или зачеты, приехала на воскресенье и понедельник: в понедельник, сказала, не ахти какие важные лекции, пропустит, будет зубрить, что поважнее. Читает что-то вслух, а Винцулис за всеми своими мыслями да прикидками слышит только одно ее слово: драматизм, драматизм… Видать, значит оно что-то нехорошее, очень уж устрашающе звучит. Придется спросить у дочки, хорошо-таки, что оба с женой дружно решили: давай прирежем, попытаем счастья, попытка – не пытка.
То, что теленка надо резать, одобрил и ветеринар. Он тут же выхлопотал соответствующую бумагу, без которой выпотрошенный теленок не мог бы очутиться на длинном, обитом жестью базарном прилавке. Ветеринар даже вызвался доставить Винцулиса со всем товаром в город – зачем тебе, дядя, тащить на спине, моя машина бегает хорошо, у меня тоже дел накопилось, за бензин заплатим пополам, пока я помотаюсь по городу, ты успеешь все распродать. И распродал! Винцулису повезло, пожалуй, даже лучше, чем с грибами. Другие продавцы, тоже распластавшие перед собой телят, даже сердились, что перед Винцулисом выстроился такой хвост, но сердись не сердись, давно известно: человеку важно не только справно работать, но и уметь слово сказать. А Винцулис за словом в карман никогда не лез, правда, иногда их не хватало, если был не в духе, но тут он знай швырялся словами, будто музыкой:
– Для больного, говоришь? Да уж, для больного нужен самый лучший кусочек, больной сам не возьмет, сам не купит, ему только мы, здоровые, можем посодействовать… Этот?
– Спасибо, дядя, большое вам спасибо.
– Пускай поправляется, пускай поправляется…
– Ребенку велели какое-то время одну телятину…
– Ребеночку-то? Вот этот будет в самый раз, уж лучше…
– Спасибо. А через неделю вы будете, дядя?
– Через неделю? Откуда? Телята – не грибы…
Однако этот шальной вопрос покупателя уже застрял в голове Винцулиса. А может, поездить по деревням да прикупить? Ведь нашлось бы мясо-то. Есть ведь разные старики, которые уже не могут свой товар – живой или неживой – доставить на базар или заготпункт. Предложил бы неплохую цену. Сказал об этом по дороге домой ветеринару, тот несколько раз покосился в зеркальце, словно проверяя, нет ли какого лишнего человечка на заднем сиденье, приподнял свою толстую задницу, шлепнулся обратно – даже спинка сиденья трепыхнулась.
– Надо обмозговать, – сказал равнодушно, выпуская из рук баранку и потирая руки.
Двух телят Винцулис обнаружил сразу – не в своей, а в другой деревне, неподалеку: ведь давно всем известно, что всякое, ох, всякое в жизни бывает, чаще всего всякие беды случаются, людям надо менять планы и начинать жить по-другому. Вот и нашлись люди, которые собирались выращивать телят, а понадобились деньги – кому на поминки, кому на свадьбу, ни поминальщиков, ни свадебников телятиной потчевать никто не собирался, и Винцулис два воскресенья подряд с ветеринаром ездил в город, и ветеринару от этого тоже польза: дал Винцулис на бензин и дал лишку, хорошему человеку не жалко. Целых два воскресенья подряд покупал у Винцулиса телятину седой писатель с козлиной бородкой, который во второе воскресенье Винцулису сказал:
– Жаль, что больше не собираетесь бывать у нас. Приятно у вас покупается. Вы настоящий человек. По нашим временам – уже редкий человек.
– Спасибо. Рад слышать, – ответил Винцулис, следя, как седобородый человек идет через павильон, что-то бормоча под нос, а через людскую гущу прокладывает себе путь ветеринар.
По дороге домой Винцулис пожаловался ему, что люди ждут, а в следующее воскресенье везти на базар нечего…
– Найдем, – ответил ветеринар, и машина, кажется, сама прибавила ходу. – Пошевелим мозгами – найдем. Дороги теперь хорошие, снега мало, покатаемся по дальним деревням, найдем.
И нашли. Если не теленка, то бычка, а случалось, и целую корову спасал из когтей болезни острый нож ветеринара, а Винцулис вскоре стал своеобразной достопримечательностью большого города, обзавелся постоянными клиентами, которым, раззадорясь, иногда продавал дешевле, и они уходили, восхваляя столь редкого, настоящего человека. Когда животину находил не он, Винцулис, а ветеринар, продавали на троих, лишь третья часть доставалась Винцулису; жене дома он говорил, что ветеринар – золотой человек: ни разу не усомнился, отдает ли ему Винцулис эти две трети целиком, да и платил он Винцулису много. За что? Да за то, что продает. Летом Винцулис приобрел мопед и объезжал самые далекие, числящиеся за ветеринаром хутора, договаривался заранее. Не всегда получалось по уговору, но когда выходила осечка у Винцулиса, перебои аккуратненько заполнял ветеринар, грибы зимой продавала жена Винцулиса, она тоже поднаторела в торговле, стало везти и ей. Устраивалась за прилавком подальше от Винцулиса, чтобы всякими лишними флюидами друг другу не мешать.
Года через два Винцулис стал строиться – основательно отремонтировал избу, с обеих сторон отгрохал по крыльцу, на чердаке оборудовал две комнатки, жена, вспомнив девичьи денечки и свою маму, у которой в палисаднике почти до заморозков пестрели цветы, обсадила дом кустами да цветами, посеяла цветы, и еще через год их дом посетила комиссия и прибила к стене доску – усадьба Винцулиса оказалась самой красивой во всем районе. Его сын, успешно завершив учебу, остался работать по торговой части в большом городе, сразу же завел легковушку, летом и осенью часто приезжал к родителям, привозил гостей, с иными жена Винцулиса и договориться не могла, не знала она столько языков, появлялся ветеринар, но редко, он почему-то старался поменьше маячить на виду у приезжих; может, оно и правильно: ветеринару положено больше времени проводить с животинами! Винцулисова жена стала веселее, даже не выглядела такой толстой: ветеринар или какой-то его родственник познакомил ее с хорошей портнихой в большом городе, та шила ей такие платья, что толщина куда-то пропадала. Однажды, когда Винцулиса высадил во дворе из машины ветеринар, завоняв дымом весь двор, а вечером, лежа в соседних кроватях, Винцулис долго беседовал с женой, она вдруг вспомнила мелкую такую подробность из своего детства.
– Видать, уже старость, Винцулис…
– А что же?
– Которую ночь все снится да снится… Был такой случай, но почему теперь снится, а?
– Снится, говоришь? Наверно, парни из давних лет?
– Ты уж всегда, Винцулис… Случай такой снится. Это еще при поляках было. Все бродят нищие из двора в двор. И хлеба или там картошки им не подашь – выйдет из ворот и зашвырнет в кусты, другой даже за ворота выносить не станет. А у нас тогда свежатина была. Корова-то гвоздь проглотила. Даже солому, смоченную в керосине, в пасть ей совали, ничто не помогло, ветеринара тогда поблизости не было…
– Не то что сейчас…
– Зарезал отец, когда корова уже подыхала. Зашла к нам побирушка, отец и говорит матери: «Дай горемыке мяса». А мать: «Что ты себе думаешь, Юозулис, что говоришь?.. Мы-то можем есть, мы хорошо знаем, как оно было, сосед может есть, он тоже знает, как было, а подашь нищей – станет болтать по всей деревне, расскажет людям, пожалуется – падалью угостили… Лучше полезай на чердак, отец, отрежь-ка ей сала». – «Выдумываешь», – сказал отец, однако полез на чердак…
Тихо в доме Винцулиса. Лишь старенькие часы идут, позванивая, стерлась со временем цепочка, для родителей Винцулиса тащила она годы по зубчатым колесикам, и для родителей этих родителей… Поэтому теперь частенько стопорится, а гирьки тащат вниз, через силу тащат, и часы пугающе хрустят. Еще страшнее отбивают они время. Хорошо еще, что получасовой удар пропускают. Подскакивая, медный молоточек лупит по стальной скрученной проволоке, и звучище такой, что зубы ноют. Однако так бывает лишь с человеком, который редко слышит этот бой, Винцулисы-то его не слышат, хотя только что пробило три часа ночи. По другому берегу речки носится соседская лошадь – каждую ночь она стучит копытами по земле, так стучит, что кажется, будто поезд грохочет или какая-то машина побольше поезда – по песку отлично передаются звуки.
– Тоже мне невидаль, – равнодушно говорит Винцулис. Нет, это ему хочется сказать равнодушно, но какой-то злосчастный бесенок повис на кончике языка, что-то скрывает и от жены, и от самого Винцулиса.
Тра-ба-бах – слетает цепочка часов с зубчика.
– Винцулис, – тихо говорит жена, так тихо, что даже старенькие часы как будто прислушиваются. Глупость какая – что они могут услышать от двух стариков! – Винцулис… Тебе не кажется, что ветеринар… Нехорошо это, Винцулис…
– Чего? Ишь чего выдумала! Выбрось из головы! – в тишине внезапно выкрикивает Винцулис, отворачивается к стене, но засыпает не скоро, только закроет глаза – и тут как тут побирушка с крашеными губами, только закроет глаза – и тут как тут…
Рано утром во двор влетает легковушка ветеринара, а днем, когда он стоит на рынке большого города, Винцулису приваливает счастье: его снимает знаменитый фотограф, сам фотограф объясняет, кто он такой, а несколько месяцев спустя, когда к Винцулису съезжаются приятели Тереселе, они вручают ему журнал, на обложке которого голубоглазый Винцулис улыбается в белые усики! И радости, и хохота полон двор. Вскоре мимо проезжает ветеринар – он тоже заметил журнал, купил в районном киоске, привез Винцулису, а сейчас идет к нему, читая подпись под снимком: «Настоящий деревенский человек».
Молодежи полон дом, некоторые прикатили на легковушках, другие на автобусах и поездах – день рождения Тереселе. Альбертас не смог приехать, Альбертас торговые дела уже ведет то ли в Африке, то ли в Азии, придется спросить у Тереселе – где. Мать с полными подносами снует с кухни в комнату гостей, слышно, как в верхних комнатах рокочут мужские и щебечут женские голоса, направляясь назад, мать встречает Тереселе, ее сопровождает такой молодой человек с сытым лицом, припухшими глазами и черными усами, матери кажется, что этот не просто так сопровождает Тереселе, может, присмотрел ее дочку, может, между ними уже что и… Легковушка у него есть, но не собирается ли он ее продавать и новую купить, поскольку Тереселе намедни спрашивала у отца, не может ли он одолжить три тысячи? Кому? Одному хорошему человеку надо. Вдруг усач и есть этот хороший человек?
Один долговязый паренек уже полчаса вместе с чернявой девчонкой глядит на деревянное распятие, глядит, сложив руки на животе – так он выглядит еще задумчивее, солиднее – его объемистый зад обтянут джинсами. Трое, скорее всего, возвращаются от векового дуба, слышны их голоса:
– Вот так древность!.. Может, он даже князя Витаутаса помнит?
– А что ты думаешь!..
Вечером, уже под газом, усач подошел к Винцулису и, закатывая глаза, сказал:
– Папа, вы настоящий деревенский человек… Таких уже мало осталось.
– Как есть, так уж… Никуда не денешься… Как уж есть… – польщенный, а может, и не очень, ответил Винцулис.
– Спойте нам что-нибудь… этакое старинное… И вы, мама, тоже.
Винцулис уже принял, ему легче, затягивает, прищурясь, поначалу ему подпевает Тереселе, басит что-то усач, потом они смолкают, подключается мать, изредка смахивая слезу краем передника. Есть из-за чего смахивать! И у Винцулиса дрожит голос, может, вспомнил о чем-то, пока пел, может, отца да мать родную или свои поездки в большой город.
– Браво! – взревел усач. – Браво!
Это же слово выкрикивали и другие. Потом и они попробовали затянуть песню, да ничего не вышло – не хватило духу, мало выпили, наверно. Может, потом попробуют.
Спустя какое-то время усач спрашивает у Винцулиса:
– Как, по-вашему, снимать зеркало с машины или тут не надо?
В поздний час Тереселе провожает поднабравшихся парней в верхние комнатки, один жутко горланит, однако наверху тут же замолкает, видно, засыпает, другие, скорей всего, садятся, может, еще пьют, начинают о чем-то спорить, и захмелевший Винцулис, лежа с женой в нижней комнате, несколько раз снова слышит это проклятое слово, которое в тот год поминала Тереселе:
– Было бы ничего, стиль-то у него есть. Только вот чего нету – драматизма… А произведение без драматизма, это… это как девка без…
Все радостно гогочут. Они гомонят еще долго, купленная когда-то Винцулисова корова уже несколько раз успела подойти к двери хлева; дверь-то открыта, но чтоб она не выбралась, Винцулис поперек приколотил доску. Молодежь гомонит, а корова высовывает голову из двери, кладет шею на перекладину и глядит в теплую ночь. Черт знает, куда она глядит – может, на дорогу, по которой сюда пришла?








