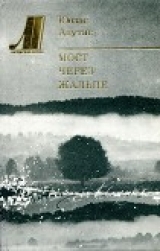
Текст книги "Мост через Жальпе (Новеллы и повести)"
Автор книги: Юозас Апутис
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
УЧИТЕЛЬНИЦА В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ
Вначале разговор почти не клеился. А так много об этой поездке говорили, случайно встретившись на молу, уходящем в море – надо увидеть, надо объездить, надо вспомнить… Рашпилем воспоминаний пройтись по заскорузлым сердцам! Высокий стройный профессор, художник, до войны учившийся в заграницах, говорит о дороге, по которой они едут: не такой она была когда-то, больше сорока лет назад, когда они, несколько художников, молодых еще парней, пешком путешествовали по этому краю, по Жемайтии, и писали ее пейзажи, костелы и людей.
– Не узнать, ничего теперь не узнаю, – несколько раз повторяет он.
– Чего хотеть – столько лет, – говорит водитель автомобиля, фотограф; на голове у него фиделевский картуз, он ловко маневрирует, объезжая рытвины. Другие двое, сидящие за спинами профессора и фотографа, – заведующий архивом и скрипач – еще не произнесли ни слова, поэтому профессор оборачивается к ним:
– А вы впервые?
– Это я-то? – переспрашивает архивариус. – Бывал. Сразу после войны. Переписывали.
– Переписывали? – снова оборачивается профессор.
– Скот… И кур… Я тогда ходил в активистах. И на заём подписывали.
– Кур подписывали? – спрашивает фотограф. Все смеются.
– Вот оно как… Кур и скот… Интересные здесь края, и так связаны с великими нашими людьми. И речь здешних людей красочная, писатели могли бы больше вовлекать в литературный обиход. Вы, по-моему, жемайтиец? – наконец профессор находит причину, чтобы заговорить со скрипачом.
– Да вроде, только не из этих краев… От Крижкальниса.
– Славное место! – вставляет архивариус.
– Это только теперь. Прославилось, когда на холме поставили эту высокую женщину. Раньше, говорят, здесь была славная корчма.
– Ха! – громко выдыхает профессор.
– Вместе со студентами университета мы собирали здесь фольклор, – скрипач почесал бороду внушительных размеров – он единственный внешне доказывал свою принадлежность к сословию художников.
– Вот видите! Придется все рассказать, – снова говорит профессор. – Тебя-то я не спросил, много ли раз сюда ездил? – кивает он в сторону фотографа.
– Еще сколько! И фотографий много нащелкал…
– Верно, верно, виноват… – вспоминает профессор. – На твоей же выставке были.
– Мне запомнился жемайтиец в широченной шляпе… такой малюсенький! – почему-то радуется архивариус.
– Ну и память! – приосанивается за рулем фотограф.
– Запоминающийся кадр! – гордо отвечает архивариус.
И снова разговор проваливается будто в яму.
– Стало быть, фольклор собирали? – спустя некоторое время начинает профессор. – Люди-то здесь, наверно, не певуны?
– И певуны, и говоруны. Это пока не расшевелишь, а потом тараторят поживее дзукийцев…
– Как итальянцы… – смеется профессор.
– Как испанцы… – подхватывает фотограф.
– Кажется, неподалеку мы и жили тогда! – восклицает скрипач.
– Заедем? – притормаживая, спрашивает фотограф.
– Да стоит ли? – сомневается скрипач, тем не менее обозревая округу во все глаза.
– Он не желает растравлять раны юности, – снова громко и молодо смеется профессор.
Архивариус с немым вопросом смотрит на скрипача.
– О чем речь? Конечно, заглянем. Ну, где вы жили? Поройтесь в памяти… – остановив автомобиль, продолжает фотограф.
– Минуточку, минуточку… – не в памяти, а в бороде копается скрипач. – Кажется, вот этот проселок.
Однако вскоре пришлось спрашивать дорогу – проселок вреде бы кончился, на нем валялись камни. Увидев человека на картофельном поле, скрипач идет к нему и здоровается. Человек для начала обводит взглядом оставшихся в легковушке, не очень-то ему нравится аппарат в руках фотографа, потом оглядывается на свой хутор и, наконец, отвечает:
– Школа? Начальная? Были они и по эту, и по ту сторону дороги.
– Примерно двадцать пять лет тому назад…
– Боже!.. А, знаю, знаю… Школы-то уже нету. Новую за холмом отгрохали. Верно, верно, вы к старой едете… Только камней поостерегитесь, может, придется и убрать один-другой с проселка.
– Там озеро было…
– Во-во, она самая, есть школа, есть…
Автомобиль натужно карабкается среди камней в гору, женщина с хутора бежит вниз, к картофельному полю…
Наконец-то взобрались. С обеих сторон заросшего травой проселка высятся груды гниющих досок и бревен, на полуразрушенном каменном фундаменте греется кошка с котятами.
– Глянь-ка, целых пять штук! – удивляется архивариус.
– Здесь был хлев, там сеновал, дальше клеть, – задыхаясь, объясняет скрипач.
– А где же школа? – любопытствует архивариус.
– Да вот, – показывает скрипач на покосившееся здание и замолкает. Один конец дома отрублен или отпилен, к нему пристроена будка из закопченного кирпича. Толстая женщина в дешевом лыжном костюме выглядит еще толще. Несомненная заслуга цивилизации: человек больше не боится показать, что у него есть. Только не в голове, конечно… Четверо замурзанных ребятишек в похожих лыжных костюмчиках выстроились за ней.
– Добрый день, – на правах хозяина здоровается скрипач.
– Добрый, – несмело и неприветливо отзывается женщина, вытирая руки о лыжный костюм. Один из ее отпрысков при виде бороды ударяется в рев.
– Не бойся, – успокаивает его профессор. – Этот дядя хороший. Он этот домик, – показывает на школу, – когда-то построил.
Не зря говорят, что у строителя самая мирная профессия – плакса успокаивается и делает шажок вперед, держась за мамину руку.
– Четверть века назад он здесь влюбился, а теперь ищет те времена… – объясняет женщине профессор.
– Возможно… – отвечает женщина. – Было, было… Когда мы этот дом покупали, школа была в другом месте.
– С обеих сторон было по крыльцу. У меня даже снимок сохранился… А это что? – скрипач показывает на пристройку из закопченного кирпича.
– Тут калтины клутили, – совсем оживает плакса.
– А, правда, был клуб. Видишь, ребенок лучше знает.
– Мда… – продолжает скрипач. – Вот, и озеро виднеется, – он показывает рукой на запад, все глядят, даже женщина, а тем более ее дети. – Озеро, наверное, как и было?
– Что?.. Озеро, и ладно. Откуда мне знать… – отвечает женщина, и в эту минуту из-за горки, с двумя ведрами воды в руках появляется мужчина неопределенного возраста в таком же лыжном костюме. Странно, что он даже не здоровается с приезжими, а когда архивариус говорит ему «здрасьте», человек обводит всех настороженным взглядом и все равно не отвечает.
– Тут… люди… Этот человек бывал, когда еще школа была, – почему-то виновато объясняет женщина.
– Возможно, – буркнув, мужчина с ведрами медленно удаляется за дом.
– Не будем больше мешать. Будьте… здоровы, – говорит скрипач.
– Ага, ага, – торопливо отзывается женщина. – Будем…
С другой стороны дома, где торчат остатки построек, человек моет свою красную легковушку, загнав на широкие доски, брошенные в грязь. Приезжих он и теперь как будто не замечает – с головой ушел в работу.
– Блеск наводите? – не выдерживает профессор.
– Угу. В район ехать. А там придурков хватает – иной из-за грязи прицепится…
– Так, так… – фотограф невольно косится на свою легковушку. Он прицелился фотоаппаратом в школу, но замечает недобрый взгляд мойщика машины и направляет объектив на озеро.
– Ничего себе местечко, – говорит архивариус, когда легковушка лавирует мимо камней с горки. – Значит, в этой избе вы жили?
– Парни в одном классе, девчонки в другом. Прихватили мы с собой и «капелек», так что на новоселье решили пригласить учителя. Это предстояло сделать «демократу» – так девчонки называли его за доброту и отходчивость – и мне. Вошли, а учитель на старомодной железной кровати лежит. Когда мы пригласили его, спросил: «А галстук надо?..» – «Да бог с вами! С какой стати?» – удивился «демократ», и учитель повесил цветастый галстук на шишку в изголовье кровати. Поначалу учитель смущался, но после «капель» веселел, становился разговорчивей. Поскольку таких, которые собирают фольклор, ждет примерно такое будущее, как учителя, хотелось разведать, как ему живется. «Такие чудесные места – пригорок, озеро в двух шагах, школа тоже сносная», – пристал к нему «демократ». Учитель буркнул: «Не приведи господи». – «Да что вы?» – «Не приведи господи! Удавиться можно. Я уже и крюк облюбовал. Для того дела или для другого этот крюк в потолочную балку загнали, а пригодится». – «Перестаньте! – взвизгнула одна девчонка за столом. – Еще приснится…» – «Могу и перестать… Понимаете, никому я здесь не нужен!.. – и бухнул кулаком по столу. – Никому!..» – «А детям тоже не нужны?» – возразил «демократ». – «Детям?.. Им… нужен. Но скажите, почтенный, кому они сами будут нужны?»
Так с ходу никто не смог ответить на этот смертельный вопрос учителя. Даже сам «демократ»!..
– И это все? – с некоторым нетерпением спрашивает архивариус.
– А чего вам еще?
– Примечательная вещь!
Профессор и фотограф хранят молчание.
– Вскоре учитель уехал к родным помогать косить сено. Мы отправились в Вильнюс через две недели.
– Примечательная вещь, – уже спокойнее повторяет архивариус.
– А что вы в этом видите примечательного? – спрашивает профессор. Скрипач обращается в слух.
– Пока можем рассказать, это… Надо записать…
– А!.. – оборачивается к нему фотограф.
– А вы уже записали, как считали кур и коров? – наверное совсем напрасно рассердившись, спрашивает скрипач.
– Пока нет… – невозмутимо отвечает архивариус.
Они въезжают в городок, и профессор подается всем телом вперед. Из кустов взлетает на забор петух и трижды кукарекает.
– Никак меня приветствует! – улыбается профессор. – Здесь обязательно надо остановиться… Вот в этом месте находилась коновязь… – с неподдельным волнением начинает он, когда все выходят из машины. – А здесь стоял дом, в нем я тогда жил. Встаю рано утром и ухожу в поле. Хорошо работалось, как-то легко.
Остальные трое молчат. Быть может, вспоминают пейзажи профессора, задумчивые глаза женщины. Может, это и не так, но даже распятый на кресте человек как будто говорит, что и распяли-то его лишь для того, чтобы ему, молодому художнику, чтобы всем людям веселее жилось.
Из домика им навстречу идет старушка. Подойдя, пристально разглядывает чернявого архивариуса. Внимательно изучает картуз фотографа…
– Добрый день, бабушка, – обращается к ней профессор.
– Добрый, добрый… – старушка останавливается, и у фотографа появляется работа – он бегает с аппаратом вокруг них, стараясь, чтобы все попали в объектив, а старушка – непременно крупным планом. Старушка поправляет непослушными пальцами юбку, платок и улыбается.
– Бабушка, вот этот человек художник, давным-давно он тут жил… Писал… то есть рисовал. Не помните? – обращается к старушке и скрипач.
Старушка думает изо всех сил, в ее выцветших глазах вроде бы начинает мелькать былое, она хочет что-то оживить в памяти, но не может.
– Нет, не припоминаю… – И внимательно смотрит на профессора. – Стара стала, куда уж мне, ребятки… Девятый десяток доживаю, голова во какая пустая.
– Тут лошадей привязывали, – говорит профессор. – А вон там, – показывает рукой через площадь, – был домик. Погоди, как звали хозяйку-то? Жил я у нее… Вот те и на – запамятовал… Видали, что творится! – сердится на себя профессор.
– Господи!.. Никак Канишаускене? – шамкает губами старушка.
– Канишаускене! Точно. Вот видите, у вас-то память лучше. – На мгновение взгляд профессора застывает на месте, где стоял домик Канишаускене… – Может, жива еще?
– Канишаускене-то? Значит, не знаете? Да откуда вам знать-то… Померла далеко отсюда… – Старушка испытующе смотрит в глаза профессору. – А дети вернулись. Девчонка в Тельшяй живет или в Скуодасе, не скажу, а сын – вроде бы в Вильнюсе. А может, в Каунасе или Шяуляй… Приезжают проведать… родные места. Ох, народу теперь тут много бывает… Все едут да сдут. Ага, значит, и вы у нас бывали. Так давно. Так давно.
Профессор бросает взгляд на мостовую; среди булыжника проклюнулась трава.
– Костел закрыт? – спрашивает он.
– Закрыт, закрыт… Боимся держать открытым. Зайти хотите? Я сейчас сбегаю… – и она «бежит» в свой дом, потом спешит обратно со связкой ключей и тряпкой. Пока они разглядывают костельные своды и образа святых, старушка тряпкой смахивает пыль с исповедальни.
– Здесь находился любопытный образ кисти народного художника, – говорит своим спутникам профессор.
– Образ? Никак Иисуса? Находится еще, уважаемый, находится… – старушка, шаркая, семенит к двери, с шумом сваливает стремянку в углу и показывает большой холст – промокший под дождем, заплесневелый Христос несет тяжкий крест.
Профессор качает головой.
Архивариус ставит на место стремянку.
Когда старушка с неожиданным проворством запирает дверь и они выходят к воротам костельной ограды, скрипач сует ей деньги, которые старушка с таким же проворством берет – цапает искривленными пальцами.
– Спасибо, спасибо, что не забываете… – и, подойдя вплотную к скрипачу, спрашивает – тихо, но все слышат: – А этот черненький, часом, не еврей?
– Еврей, бабушка. Угадали.
Старушка осторожно поднимает глаза на архивариуса, качает головой:
– Господи, господи, вот я и говорю…
Архивариус смеется в полрта, по-старчески смешно прыскает и старушка.
На родине великой писательницы проворнее других бегает архивариус. Дольше всего стоит он перед листочком с завещанием, на котором в последний раз вывела подпись писательница.
– Ну и ну, ну и ну… – удивляется он, однако никто не понимает, о чем он.
– Вы только посмотрите – какие прекрасные руки, – вполголоса говорит скрипач.
Руки писательницы, как у святой. Фотограф делает снимок. Ему хочется сделать снимок и чулана со старым очагом, откуда, едва сторожиха приоткрыла дверь, повеяло прахом столетий.
– А уж крыс-то сколько тут было! – говорит сторожиха. – А сейчас ни одной не осталось.
– Ветхозаветная жизнь! – замечает архивариус.
Когда они выходят на двор, внизу, в прудах, их приветствуют кваканьем лягушки.
– Вот одиночество, так одиночество… – говорит скрипач.
– Это теперь так кажется… Привыкли мы носиться. А в те времена все было другим. Если здесь родился и живешь, все выглядит по-другому, – профессор глядит на заросший осокой луг.
По пути останавливаются перед столовой. Дверь ее – как у старинного амбара. Внутри стены обшиты досками, которые местами закопчены до черноты. Перед тем как войти, рядом, у магазина, видели старика, который объяснял женщинам: «Закрыто, закрыто… И я жду. Санитарный час…»
Садятся поближе к окну, за которым урчит огромный заляпанный грязью трактор. Фотограф со скрипачом идут к окошку, из которого уже глядят четыре внимательных глаза – в доказательство того, что чужие сюда забредают не часто.
Профессор, поморщившись, бросает взгляд на грохочущий трактор.
– Вот как они экономят!.. – со смехом говорит он архивариусу, и его слова и смешок долетают до мужчин, сидящих в углу. Двое в спецовках, один в вязаном свитере. Который в свитере, порывается встать.
– Хе! У нас в стране – солярки что дерьма, хоть ведрами черпай! – восклицает он не совсем трезвым голосом и порывается двинуться к профессору.
– Зигмас, Зигмас, – унимают его приятели. – Не цепляйся к людям…
– А чем ему моя техника помешала? Он первый прицепился…
– Может, лучше пойдем отсюда? – подойдя к столику, спрашивает скрипач.
– Почему? Посидим. Даже забавно, – краснея, отвечает профессор.
– Зигмас, уймись! – грозит из окошка кулаком женщина в грязном халате и снова втягивает голову в недра кухни.
– А!.. – отмахивается Зигмас. – Хватит меня учить! А этот бородач похож на того, что Христа…
– Зигмас, Зигмас, больше ни капли не получишь…
– Это ты не дашь! – разъяряется Зигмас. – Запретишь мне, да? Помнишь – гаишник меня остановил? И еще с ним был такой плюгавый фотограф… – Зигмас смотрит на фотографа у окошечка кухни. – Этот решил пристыдить меня: «В каком ты виде, говорит, ведь дома небось у тебя семья, ты ихнее пропиваешь, не только свое». А я: «Пропиваю, уважаемый… Мы, маканизаторы, во сколько загребаем, семье тоже остается…» А ну, кыш, кыш, гаденыши! – кричит на детей, которые пытаются взобраться на трясущийся трактор.
– А права не забрали? – спрашивает один из тех, что в спецовках.
– Забрали. На другой день председатель съездил и привез. А куда они без меня денутся? Куда они денутся без нас? Пойду лучше покалякаю с этими человечками!
– Зигмас, Зигмас!..
– Или не стоит? Раз не хотите, то не пойду… Давайте лучше споем! Петь можно, а плакать нельзя. Тракторист не плачет!..
Мы, трактористы, добра не наживаем,
Что заработаем, то и пропиваем!..
Поначалу никто не подтягивает, но чуть позже, когда свита профессора оказывается на дворе, к песне в столовой уже присоединяется несколько голосов.
На дворе пышет жаром и трясется крупной дрожью трактор Зигмаса. Когда легковушка сворачивает на асфальт, фотограф откидывает голову и затягивает:
Мы, трактористы…
Архивариус фыркает.
Из-за желтеющей листвы на площади городка видны дети. Показывая на верхушки деревьев, что-то говорит им молоденькая учительница. Она в розовом вязаном костюмчике, на руках у нее перчатки. Когда легковушка проезжает несколько десятков метров, профессор еще раз оборачивается, чтобы бросить взгляд на площадь, но теперь виден только угол школы из силикатного кирпича.
ОЩУЩЕНИЕ ГАРМОНИИ, НАХЛЫНУВШЕЕ НА ПОЖАРНОЙ ВЫШКЕ
Я – лесничий Палкабалиса. Палкабалис – это старинная деревня, расположенная по обе стороны холодной речушки, такая старинная, что о ней написаны толстые книги. У прямолинейных современных пассажиров так называемая идеализация всего минувшего частенько вызывает страх, хотя, рассуждая по-человечески, нечего трусить: многовековой опыт доказывает, что всегда приятнее пройденное время – как и умерший сосед, брат или родственник – поскольку ты, живой, с былым временем или бывшим человеком можешь поступать по своему усмотрению, на выборку черпая из них то, что тебе приятнее; с другой стороны, вникнув поглубже, можно бы понять: раз так манят минувшие, туманные времена, то не очень хорошо сейчас, или, по крайней мере, прошлое не смыкается с настоящим, в истории людей или всего края появилась трещина, подрывники не на месте прорыли овраги, на дне которых все равно нет влаги: сохнут деревья и даже трава.
Лесничество Палкабалиса построено не так уж давно, однако не из силикатного кирпича, а из бревен. Тягостно видеть лесное учреждение, выстроенное из противного белого кирпича. Я еще молод и в Палкабалисе недавно – в июне будет два года. Живу я в деревне у одинокого Винцулиса, а лучший мой друг – лесник Свирнялис. Он-то уже не молод, ему скоро на пенсию. Свирнялис живет в другой деревне, старинной, как и Палкабалис, только книги о ней пока не написано. Жена Свирнялиса Марите с пожарной вышки, прищурив по-ястребиному глаз, каждый день обозревает наш песчаный, зеленеющий соснами мир, ее обязанность – сразу разглядеть вскинувшийся не на месте дымок. По субботам и воскресеньям на вышке обычно стоит, прижавшись к стеклу, сам Свирнялис, поскольку у Марите бывают дела в городе.
Как уже говорил, я лесничий Палкабалиса, а два года назад был инженером в лесхозе. Два года назад, как нам всем известно, были другие времена, которые вскоре, быть может, мы тоже станем идеализировать, а в те стародавние времена на берегу дивного ручья Шальтис стояла еще более дивная банька лесхоза. Как инженер лесхоза, я мог париться где мне заблагорассудится, однако эта банька была комфортабельнее других. Если бы социологи распространили анкету, и все по нынешним временам честно бы ее заполнили, то через сто лет эту баньку можно было бы увешать мемориальными досками – столько знаменитостей перебывало в ней. А тогда одни боги ведают, по какому случаю приехал министр – настоящий медведь и безразличный ко всему, как дырявое ведро. Директор лесхоза всполошился не на шутку: чтоб напоить допьяна такого человека, он, сами понимаете, не был готов. Выручил тамошний лесничий, и добрый час спустя гость помолодел, ожил, стал, хихикая, философствовать об охране природы и о здоровье населения республики. Неизвестно почему вспомнил он про знакомого мне инспектора по охране природы – ах да, зашел разговор о людях, наивно сражающихся с ветряными мельницами – о том, как этот инспектор на берегу заповедной речки попросил одного рыболова предъявить разрешение на рыбалку. Рыболов, дескать, долго насаживал неугомонного червяка на крючок, а потом раскатистым генеральским басом спросил:
– Скажи мне, парень, когда тебе удобнее отправиться на четыре месяца на сборы – со следующего понедельника или еще через неделю?
Инспектор по охране природы, дескать, язык проглотил.
– Ладно, ты парень симпатяга, вот и я с тобой по-людски – явишься через неделю. Все документы будут готовы.
Вот как сострил тогда рыболов, а про этот случай рассказал в баньке осоловевший министр и, рассказывая, до того мерзко гоготал, до того противно не желал видеть в этом современную басню Крылова, где волк набрасывается на ягненка, что я, тогда еще инженер лесхоза, не выдержав, сказал:
– Тот рыболов был волком, а вы – грязная свинья! – сказал я тогда, и вот уже второй год я лесничий в Палкабалисе.
Иду вдоль деревни, тропинка тянется по краю луга, луг цветет-заливается желтыми цветочками, по этому цветнику бродит длинный как жердь кот Винцулиса – ищет птичьи гнезда; иногда он скачет над цветочками – испугавшись пчел, вжикающих перед глазами и ушами.
Неделю назад мы со Свирнялисом решили забраться в воскресенье на пожарную вышку и просидеть на ней до заката. Свирнялис сильно прихрамывает, на щеке у него – давно заживший глубокий рубец. Эти вечные отметины – на память о послевоенных годах. Я бывал у него дома, он, как и большинство людей в этих краях, живет возле самой речки. Вышли мы к речке, уселись. Свирнялис слово за слово стал рассказывать свою жизнь. Мне запомнилось, что, целый час рассказывая, он так и не поднял глаз от реки, с клокотом несущейся через упавшие в воду ольшины.
– Ты знаешь, – сказал он, – в том амбаре пол был обледеневший, скользкий, потому как врезали меня по щеке, покачнулся я, поскользнулся на ледяном полу и полетел прямо на веялку… Веялка выдержала, а нога – нет.
Условившись неделю назад со Свирнялисом целый день провести на вышке, мы, конечно, не знали, что деревня сегодня будет хоронить Роже – знаменитость Палкабалиса, дождавшуюся преклонного возраста и три дня назад тихо, спокойно умершую. Перед смертью она приподнялась, дрожащей рукой вынула из вазочки желтый цветок лесной анемоны, с этим цветком и умерла.
Волнами, с интервалами, прорываясь между старыми постройками Палкабалиса, догоняет меня псалом, пульсируя, подобно радиостанции далекой страны. С каждой набегающей волной мелодии у меня подкашиваются ноги – не могу сказать, почему так больно стегает меня по поджилкам этот кнут жизни-смерти. Почему так колотится сердце?
Чем выше поднимаюсь, тем сильнее ветер, он уже отбрасывает в сторону авоську с термосом, которую держу в руке. Свирнялис открывает будку пожарной вышки, оттуда пышет жаром, будка-то вся стеклянная, в ней открыта лишь маленькая форточка. Я ищу гвоздь, чтобы повесить авоську. Свирнялис ковыляет в угол, приносит оттуда шаткий стул.
Боже ты мой! Ах, красоты вы мировые, горы зеленые да желтые луга, славные мои крикуньи-пигалицы, и ты, редчайший черный аист, только что пролетевший мимо нашего стеклянного домика в небе! Ах, скорбная ты процессия, видимая отсюда как на ладони, хромой да изувеченный Свирнялис, стоящий рядом и тоже глядящий на толпу, растекающуюся по улице… Я ищу взглядом этого высокого, сутулого человека, которого не раз встречал за рекой. В первый раз не знал даже, что и делать – так горько плакал этот рослый, старый пьяный человек, глядя на дом Роже по ту сторону реки. Роже как раз сошла с крыльца и медленно ступала, точнее даже – не ступала, а ползла по двору. Смешным мне показалось лицо Пятраса – продолговатое, как лошадиная морда – и залитое слезами.
– Неприглядно выгляжу, лесничий, а удержаться не могу… Весь век, весь век одно и то же…
Каждое утро выходит он из дому, дети разбрелись по белу свету, жена копошится на огороде, а он катается весь день на поезде туда и обратно, а возвращаясь, останавливается на том месте, откуда виднеется двор Роже.
Пятрас ужас как любил Роже, любила и Роже его, и было это давно, в туманном уже для нас времени. Пятрас остался без рубца и со здоровой ногой, однако надолго пришлось ему распрощаться с Палкабалисом. Роже ждала много лет, не дождавшись, вышла за другого, родители и прочая родня ее заставили. Этот другой – совсем малюсенький, вот он идет за гробом Роже, идет и ее сын – мужчина с сединой на висках, идет, не снимая ушанки, у него с головой нелады, и шептун велел пять зим и пять лет не снимать шапки.
Я встречал Роже, пока она была жива. Лицо сморщенное, но глаза необыкновенно живые. Меня поразила ее толстая, как будто дощатая, юбка.
Меня берет за локоть лучший мой друг Свирнялис. Может, это и грешно, может, и ужасно, но мы выпиваем по капельке, в кружках дымится наш кофе. Черный аист летит теперь в другую сторону – так он еще привлечет какого-нибудь разбойника к своему гнезду…
– Видишь? – спрашивает Свирнялис.
Вижу – идет сутулый Пятрас в хвосте процессии, идет, спотыкаясь, не поднимая головы, а впереди – одетые в белое дети, дальше Винцулис с крестом, за ним – молоденький ксендз, тоже в белом.
На маленьком сельском погосте люди разбредаются среди могил, среди догнивающих сосновых крестов, ксендз, размахивая руками, рассказывает о неправдоподобно прекрасной загробной жизни, ветер доносит до нашего домика отдельные слова, под толстой сосной стоит, сутулясь, Пятрас, пигалицы вот-вот ухайдакают кота, который в ярости отбивается передними лапами, тщетно пытаясь поймать хоть одну, тысячи пчел согласно точнейшим навигационным планам взмывают с одних аэродромов и летят к другим.
Четверо мужчин уже опускают Роже в холодную яму, мелькает желтый песок. Я гляжу на своего друга Свирнялиса, на его рубец, вижу Пятраса, все еще стоящего под вековой сосной. От псалма дребезжат стекла нашего домика. В эту минуту я чувствую в себе такую скорбную гармонию, такую скорбную и натуральную гармонию… Маниакальная сила гудит в моем теле. Пусть только покажется какой-нибудь великий мира сего, попирающий человека, пусть покажется!
Да – и это ощущение гармонии ясно говорит мне: быть тебе в скором времени лесорубом, лесничий Палкабалиса!








