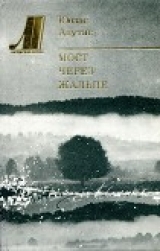
Текст книги "Мост через Жальпе (Новеллы и повести)"
Автор книги: Юозас Апутис
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
ВЫСТРЕЛ ПОД ДУБОМ МАРАЗИНАСА
(Краткая лекция о творческом процессе)
Произойдет это в середине мая, в полдень. Несусветная жара. Во дворе куры глубоко зарылись в песок, торчат только гребни.
Если глядеть прямо, то за двором увидим большой дуб, уже дряхлый, с выгнившим нутром; к целому боку прибита доска, на которой выжжена надпись, утверждающая, что дуб является памятником природы – чуть ли не пенсионером всесоюзного значения. Когда забредают сюда джинсовые любители старины, они тут же разводят руками: «Вот дерево так дерево, сколько оно может поведать о нашей седой старине…» А если во дворе оказывается старик Винцулис и заводит с ними любезный разговор, то любители распускают слюни, забывают оставленные в городе идеи и вещички, знай, глаза закатывают: «Вот потому и влечет меня старая деревня… Какой титанический дух… Спасибо, папаша, спасибо».
Да засуньте вы этого папашу в свою купленную за родительские гроши легковушку, доставьте в свою уютную квартирку, забальзамируйте живьем – и будет у вас безделушка – недорогая и этакая одухотворенная…
Итак, середина мая, полдень. Вековой дуб. Прямо под дубом стоит небольшая конура, в которой лежит, высунув от жары язык, престарелая сука Маразинаса. У нас за спиной, слева, зеленеет пригорок. На нем как раз в эту минуту появляется жена подсачивателя, прикладывает руку к глазам и смотрит в сторону дуба. Когда случается выпивон (а он случается!) и когда в нем участвует молодой молочник, она, опрокинув рюмочку-другую, кладет руку молочнику на плечо и говорит:
– Этого ребеночка я вырастила…
Что правда, то правда: когда перебрался сюда работать, молочник был почти ребенок, снимал у подсачивателя комнату, жена подсачивателя и вырастила его настоящим мужчиной. В деревне у многих срывается с языка, что не только вырастила, но и научила…
В происшествии участвует и автор этой лекции. Нахлобучив на глаза кепку, он сидит на камне перед избой.
Прямо напротив него – изба старика Винцулиса. Автору известно, что Винцулис сидит в комнате, перед окном которой цветет яблоня. Если не похолодает, Винцулис осенью досыта наестся яблок.
Вот-вот все начнется! Повернув голову влево, автор замечает марширующего по дороге молочника. На нем шляпа с вороньим пером. В руке он несет ружье. Ему очень идут голубые джинсовые штаны. Дойдя до середины двора, он жестом останавливает крадущихся за ним ребятишек, а сам по прямой топает к дубу.
Маразинас стоит за аккуратным заборчиком. Там находится и упитанный щенок, которому вскоре предстоит занять конуру.
– Сделай, чтоб сука вылезла из конуры, – говорит молочник.
– Ну, иди сюда, иди! – уговаривает суку Маразинас.
Сука вылезает. Она очень смешная, потому что с белыми-белыми усами.
Чего доброго, из-за подслеповатости она не видит молочника.
Хоть и жара, выстрел бабахает мощно, стоящая на пригорке жена подсачивателя рывком сбрасывает приставленную к глазам руку. Куры, вздымая в воздух легкие песчинки, удирают в сарай. Пороховая гарь и дым разносятся по всему двору.
– Спасибо, Юргис, – говорит Маразинас.
– Пожалста. Не за что, не за что.
Молочник вешает ружье через плечо и марширует обратно, высунувшие языки ребятишки расступаются, дают дорогу.
Автор вытирает ладонью пот со лба. Почувствовав, что в этом выстреле есть какой-то смысл, он устремляет взгляд в окно Винцулиса.
А как же! Хоть окно и скрыто цветущей яблоней, автор хорошо видит приплюснувшегося к стеклу, расставившего руки Винцулиса, который глядит на уходящего молочника. Он стоит, будто прикованный, видны даже его выцветшие от времени глаза, и весь он похож на звериную шкурку, распластанную за стеклом. Глаза зверька со страхом следят за удаляющимся молочником. Внезапно Винцулис замечает автора, догадывается, что тот смотрит на его окно, и вздрагивает. Вскоре он уже выходит из своей двери на двор, и только чуть-чуть трясутся его штанины. Приближается дробными шажками и говорит:
– Слыхал, как бахнул по сучке Маразинаса?! Аж двор дымом провонял!..
Голос его громок, полон наигранной бодрости: да, да, ничего особенного не произошло, Винцулис тоже перешел в лагерь стреляющих и сильных!
Эта непритязательная история, пожалуй, и вся. Однако, чей там мотоцикл блестит справа на пригорке? Ах, мы же забыли про подсачивателя! Он тоже участвовал в этой истории, – с того самого дня, когда сдал комнату молочнику, – а только что слышал выстрел, видел, как его жена рывком отняла руку от глаз, как в сопровождении ребятни удалился молочник… И теперь он насилует подножку мотоцикла, а тот как на грех не слушается.
И все-таки: почему на молочника мы все глядели как на некую неприкосновенную силу, которая внезапным своим вторжением смутила наши чувства, и всех нас подхватила волна действия? Почему мы не попытались глубже узнать этого человека, почему не вывернули его перед собой наизнанку, как тулуп? Почему столь часто тех, что своими гусеницами беспощадно катит по нашим спинам, мы оставляем в неприкосновенности, принимаем их как должность, словно сам господь бог ниспослал нам их такими?
ВАЙШВИЛА СВОРАЧИВАЕТ С ДОРОГИ
Говорят же: не бросай дорогу ради тропинки. Бросай, если только попалась сносная тропа, а по дороге все несутся как угорелые длиннющие машины с бревнами и порожняком, да еще какой-нибудь трактор тарахтит как по ребрам. Казалось, сам сатана затеял где-то за лесом строительство смоловарни.
Вайшвила уже несколько раз собирался свернуть на тропу, но все не попадалась приличная. Груз у него широкий, занимает много места, и шоферы поосторожнее издалека уже сигналили. Увидев грузовик, двигающийся навстречу с длинными железобетонными бревнами, Вайшвила решил перебраться через глубокую канаву и спуститься к речке. Должна же быть там какая-нибудь тропа!
Много лет он ходит по этому шоссе, иногда остановится легковушка, высунет голову бородатый юнец и спросит дорогу, но не было таких, чтоб вызвались подвезти. Правда, некоторые просили, чтобы Вайшвила им продал свой товар.
– Не продам! – отвечал Вайшвила. – Сделал на заказ и несу отдавать…
Не было никакого заказа, каждый раз носил на базар, там люди если и покупают, то и используют его изделие по назначению, а такие вот бородачи их на лампы под потолком вешают. Все, все перемешалось – когда нет определенной жизни, то нет определенного, своего места и у вещи!
Идет Вайшвила вдоль реки, зная, что должна быть тропинка, была ведь три десятка лет назад, уходит все дальше от этого дурацкого шоссе, его корзины издалека кажутся пузырями на спине, сильно смахивают на олимпийские кольца, не хватает только надписи: Moscow, 1980.
По тропинке ходьба так ходьба! Возле тропы живет птица побольше, славно цветут подснежники, из вспаханного клочка земли высунули макушки хвощи – хилые у них стебельки, но какая без них была бы весна? Топает себе Вайшвила по берегу речки, тащит корзины на базарь на душе полегчало, спало злополучное напряжение, кукушки, знай, кукуют на березах!
Ну и жизнь у человека! Такая простая штука, как хождение по тропе, а ведь уже тридцать лет он сюда не ступал, и сейчас все так, будто идет он по неведомой земле. Откуда здесь такая славная поляночка, этот пригорок, заросший белой кашкой, с высокими березами по краям? Да и берез этих не было. И фундамент какого-то здания – совсем аккуратный, почти не потрескавшийся, только замшелый по бокам. Несколько подснежников, знай, цветут возле того места, где бывает крыльцо. Зато внутри, из глубокого погреба, уже успели на целый метр над фундаментом вылезть темные елочки, а березки так и рвутся к свету.
Вайшвила попробовал было усесться на угол, только испугался, увидев сквозь дужку одной корзинки маленькую девочку, которая сидела среди трилистников, срывала одуванчики и складывала их в кучку.
– Что тут делаешь? – не совсем спокойным голосом спросил Вайшвила.
Девочка нахмурила лобик и ничего не ответила.
– Где твой дом?
Девочка усмехнулась и опять ничего не ответила.
Вайшвила попятился, потом повернулся и торопливо побрел дальше, задевая корзинами за кусты. Не страх это – человека в таких годах так быстро не напугаешь – а все равно что-то пощекотало спину, озноб пробежал. Дьявольщина, зачем ребенок торчит возле этого фундамента? И чем дальше он шел, тем больше лезла в голову всякая чушь.
За тридцать лет не только деревьями все зарастает, но и великое множество людей отдают концы. Вайшвила-то еще не отдал, но разве он тот, что был? Одно слово, хворостинка, а было время, в лютую стужу босиком ходил, снег таял, исходил паром – столько в нем жару было. Может, за эту его силищу во времена коллективизации несколько раз люди из уезда и волости уговаривали его стать председателем. На том последнем собрании, на котором, как писала уездная газета, люди деревни Гарспьяунис решили создать артель, были даже смешные моменты.
– Ты же последний нищий, извини за выражение, так чего артачишься? – спросил упитанный человек из города, вызвав по списку самого подходящего. Звал выйти из-за школьной парты, подойти к столу, накрытому красной материей, однако тот – ни с места.
– Да какой я вам нищий?.. – рассердился человечек. – И зачем мне туда ходить, и так все услышите… Фундамент основательный отгрохал…
– Со всеми пойдешь – другим человеком будешь…
– Раз вам хочется – и будьте!..
Человек из уезда рассердился. Всегда сердишься, когда наметил провернуть дело побыстрее, а тебе мешают. Хорошо, что был и другой достойный гость – в синем плаще и кирзовых сапогах. Он обоих утихомирил:
– Темный, как ночь! Дадим срок, пускай одумается.
Думать пришлось в помещичьем амбаре, много голов думало. К вечеру следующего дня все присоединили свои участки к обобществленным землям.
Когда было сказано, что председателем надо бы поставить Вайшвилу – люди даже ногами затопали – потому, что любые выборы всегда вещь приятная, и потому, что на других, умеющих карандаш по бумажкам гонять, такая беда уже не выпадет: председатель-то ведь нужен один!
Когда все затихли, человек из уезда добавил:
– Теперь, уже как председатель, может, пожелаешь что сказать? Причешись и толкни речь.
Это была первая изящная шутка гостя из уезда – все должны были понять, что и он человек как человек: так сказать, один за столом, другой – когда дело в шляпе. Как этот Вайшвила причешется, если вместо волос у него на голове только три больших родинки. И лицо у него было в родинках.
– Ничего не могу сказать, – сказал Вайшвила, покраснев и покрывшись испариной. – Поживем – увидим.
Пожили. Вместе с ним постоянно жили люди из уезда и волости, а чаще всего этот в синем плаще и кирзовых сапогах. Иногда какая-нибудь бабенка осмеливалась спросить его:
– А что мы получим за эту общую работу?
– А как же? Получите. Только надо работать так, чтоб пена шла… Жареные цыплята с неба не падают…
И не падали: синий плащ представителя синел где-нибудь на травке – его хозяин, устав от трудов праведных и наугощавшись, спал, а люди, когда Вайшвила поворачивался к ним широкой спиной и глядел через дверь сеновала в поле, молотили снопы на гумне, ссыпали зерно в мешки, а потом в сумерках растаскивали их по домам.
Корзины раскупили в миг, многие заказали и на следующий базарный день, куда как лучше продавать подальше от дома – никто не скажет, что слишком много собрал или плохо сделал. И топает себе бывший председатель обобществленных земель домой, уже и рюмочку успел в буфете опрокинуть, идет по тропинке вдоль реки, всегда теперь так будет ходить – как только отделяешься от этой грязи и шума на шоссе, становишься похожим на человека, и память как бы отмыкается.
Опять эта поляна с замшелым фундаментом! Ах, чтоб тебя! Столько всего навспоминал, а не может вспомнить, как было дело с фундаментом!.. Господи, и эта девочка – как оставил ее среди одуванчиков и кашки, так она и сидит. Может, это кукла? Вайшвила подходит поближе – ничего подобного: шевелится, бормочет что-то себе и улыбается как и прежде.
Это, пожалуй, уже странно. Вайшвила проходит мимо, торопится в ольшаник, однако не выдерживает, оборачивается и спрашивает:
– А почему домой не идешь?
Девочка хлопает в ладоши, мычит что-то:
– Мгу-гу…
– А чья ты? – берется за поля старой шляпы Вайшвила.
– Чья, чья, а дяде не все равно, чья?.. Продаешь себе корзины, набиваешь карман, и радуйся!
Ничего не может понять Вайшвила, поэтому топает вдоль речки дальше, в сторону дома, на шоссе подниматься не станет, пока только можно, будет идти вдоль речки, в другой раз опять обязательно понесет корзины и пойдет вдоль… Вдоль речки? Значит, опять мимо этого фундамента?.. И может, опять эта кукла?..
Что поделаешь – придется идти. Ведь что-то отпустит в голове, и он вспомнит. Не может быть, чтоб все там уже заледенело навеки.
ВЗДРЕМНУТЬ ПЕРЕД ПЕЧКОЙ
Казалось, обойдется, а вот и озябла. Поначалу Полёния не хотела брать тулуп, хотя Гапшене и совала. Полёнии-то казалось, что и на дворе так же тепло, как в низкой избе Гапшене. Вдобавок Полёнию согревала изнутри «отрава», которую Гапшене гнала, готовя завтрак для Гапшиса и пойло для свиней. Иногда получалась необыкновенно хорошая, особенно двойной перегонки, тогда сбегались мужики со всей деревни и канючили, обещая вспахать сотки, привезти дровишек, скосить луг, обмолотить ячмень, вскопать картошку, свезти с поля свеклу, подбросить Гапшене со свиньей до города, где она эту свинью обычно продавала, предлагали хоть завтра прийти подлатать крышу, замазать глиной треснувшую стену, привезти Гапшису доктора, если только требуется, и, слыша все эти посулы, дряхлый и с незапамятных времен маявшийся грыжей Гапшис стонал, закутав голову в рваное одеяло, стонал от бессильного бешенства, что сам ничего уже не может. Когда все эти обещания не действовали, поскольку Гапшене по опыту знала, насколь они пусты и лживы, парень побойчее, особенно если уже был под градусом, пускал в ход верное оружие, перед которым капитулировали королевы и их дочки: принимался хвалить красоту Гапшене, ее почти не поседевшие волосы, румяные щеки, расписывал, какая изящная у нее походка (вот это была чистая правда: ходила Гапшене точно обученная этой науке горожанка), говорил, что руки, если только она позволит, он бы целовал весь день. И накидывался с поцелуями. Гапшене рук не вырывала, а парень притягивал ее поближе, прижимая к богатырской груди, и Гапшене меняла гнев на милость: приносила из кладовки последние капельки. А когда наступала страда, ставила новую, потому что все эти обещания, как мы с вами уже догадались, обещаниями и оставались, каждый прокос приходилось заливать самогонкой.
Наплакалась Гапшене вволю: пока Гапшис был здоров, рожала детей чуть ли не погодков, а они все помирали. Потом рожать перестала и примирилась с мужниной хворью, хотя иногда под хмельком и признавалась неболтливой соседке, что «вспомнить былое» иногда было бы неплохо. Признавалась раньше всего Полёнии, которая сейчас идет домой от Гапшене: уже ночь, декабрь, мороз все-таки нешуточный, ветер дует вовсю, и Полёния застегивает соседкин тулуп. У Полёнии одна нога короче, если кто из соседей в этот час вышел за сарай по нужде, то слышит, как ритмично короткая нога Полёнии тукает по мерзлой земле, и узнает Полёнию по этому туканью. А она ковыляет уже по лугу Будильника, щеки у нее горят, и такая доброта накатывает, что мысли скачут от одной радости к другой, от одной печали к другой. А чего, господи, желать-то? Прожито неплохо и уже немало, время пробежало, точно конь белогривый в песне…
Плакала Полёния, когда Зигмантас взял ее в жены. Войдя в убогую мужнину избенку, восславила Христа, отец Зигмантаса не ответил, хотя и был дома, вылавливал из щелей между бревнами тараканов, был он в одной сорочке и не пальцами ловил, а выжигал их лучиной, и тараканы падали наземь.
Полёния стояла, скрестив руки, была она тогда хороша собой, особенно, когда стояла и не приходилось шагать короткой ногой. Зигмантас был не робкого десятка, однако отца побаивался, так что и он стоял враскачку, пока отец не управился с делом и не повернулся к ним, отбросив дымящуюся лучину и яростно почесывая почерневшими ногтями себе бок.
– Ну так топайте сюда, – сказал он, еще яростней почесав теперь уже другой бок. Полёния пошла, наверное, самой изящной за всю жизнь походкой, всего два шага сделала, даже Зигмантас ничего такого не заметил, а свекор сразу раззявил пасть:
– Э… Ну-ка, в каком это у тебя местечке треснуло?..
Были слезы, но чем они помогут перед сокрушительным натиском жизни? К счастью или несчастью, старик немного погодя помер; шел посреди лета по белой ржаной стежке, надев белый полотняный картуз, остановившись, загляделся на кружащего в небе ястреба, прикидывая, на какой хутор с таких высот ястребу будет сподручнее нырнуть, а потом сам закружился, грохнулся во весь рост наземь да больше не поднялся. Что старика не стало, вскоре все почувствовали: тараканы стали прыгать не только в похлебку; Полёния утром нашла одного даже между ногами у малыша Волесюса, под пеленками, и сразу же стала уговаривать Зигмантаса перебраться куда-нибудь поближе к лесу, построить там избу.
И построились. Точнее, одну только избу и построили, на Зигмантаса напала лень, поэтому загнал он в землю четыре кола, к ним лозой прикрутил жерди, а жерди переплел еловым лапником – хлевок для лошади, коровы, овец и свиньи получился на славу, только стены каждый год приходилось менять, поскольку хвоя за лето осыпалась. В избенке тепла зимой тоже было всего ничего, потому и кашляли все – начиная с крошки Волесюса, который вообще-то рос крепышом и здоровяком, и кончая овцами, которые кашляли без перерыва.
Когда овцы ягнились, их переселяли в избенку, и крошка Волесюс не раз лежал вместе с мягкими и чистыми ягнятами.
Выпадали и славные деньки, грех жаловаться. Лучше всего, насколько помнит Полёния, бывало весной, когда Зигмантас на ветхой телеге уезжал на свое небольшое поле, а Полёния оставалась дома, готовила завтрак и кормила скотину; по утрам с болота Сяндварис поднимался красивый туман, и впрямь похожий на молоко, в туман с визгом убегал белобрысый Волесюкас, вспугивая жалобно кричащих чибисов. В эти короткие мгновения на глазах выступали слезы, и ей казалось, что, как ни верти, человек создан для красоты и добра на этом свете – если и не для сотворения всего этого, то хотя бы для понимания того, что всю эту красоту кто-то за тебя уже сотворил.
Наверное, так надо было. Полёния уже давно свыклась с той мыслью, что благодатные часы выпадали редко, все катилось в другую сторону; чем дольше они жили, тем больше Зигмантас бесился, проклинал любую работу, честил жизнь и даже Волесюкаса, а потом стал смертно пить. А непоправимо пошатнулось все той осенью, когда цыгане увели лошадь Зигмантаса, разодрали лапниковую стену и ускакали. И хоть бы Полёния не сказала, она-то слышала сквозь сон, что у хлевка шебаршат, разбудила Зигмантаса, но тот и ухом не повел, сказал, какому дурню понадобилась такая дохлятина, как его кляча. И снова смачно захрапел. Успокоившись, заснула и Полёния.
В довершение всего той же ночью цыгане увели и Каштана у двоюродной сестры Зигмантаса – Палубинските, хотя эта Палубинските жила от них в двенадцати километрах. Ну просто перст судьбы. Дознались быстро, Палубинските была самогонщица, как и Гапшене, водила со всеми дружбу, а ее дотошные приятели посоветовали караулить ночью на шоссе, дескать, цыгане сидят где-нибудь в чащобе, а вечером вылезут, лошадей-то им все равно надо увозить на машине, которую они будут ловить в полночь. Зигмантас, Палубинските и еще несколько ее приятелей расположились в наиболее вероятных местах, и что вы скажете – посреди ночи цыгане вывели из кустов краденых лошадей, уселись возле канавы да принялись преспокойно закусывать в ожидании машины. Ну, тут все на них и набросились, один цыган сразу сбежал, а второй попытался прыгнуть на лошадь, но Палубинските огрела его как следует колом, цыган рухнул, но черт его не взял, – когда захотели его связать, сбежал и этот.
Поначалу отмечали это дело у Палубинските, потом оба на Зигмантасовом коне добрались до Полёнии, поскольку Зигмантас похвастался, что припрятал дома бутылочку. Полёния радовалась, ничуть не сердилась, что они пьют, сама опрокинула чарочку, звала Палубинските ночевать, как, дескать, она теперь пойдет в такую даль, но Палубинските имела какие-то намерения или не пожелала стеснять семью Зигмантаса, – заартачилась и заявила, что пойдет домой. Пошли провожать ее оба с Полёнией, но когда добрели до ольшаника, Полёния испугалась за оставленного Волесюса и вернулась, а Зигмантас сказал, что проводит гостью хоть до деревни Пабалте.
Ну, и адский же в них вселился огонь, раз случилось все это не в кустах, а посреди двора у Роже. Роже эта, может, и не была отъявленной блудницей, но все знали, что к этому делу она относится с большим снисхождением: на сеновал складывать сено Роже всегда приходила, натянув одно-единственное платье, да еще красивое, прямо на голенькое тело; мужики над ней посмеивались, правда, с некоторой робостью.
А ну ее, эту Роже, пускай делает, что хочет, позволим людям жить по своему разумению, но Роже-то не позволила. Какое-то бешенство не давало ей в ту ночь спать, и она увидела, как Зигмантас со своей двоюродной сестрой Палубинските повалился у нее во дворе наземь. Роже поначалу глядела через подпертое бревнышками оконце и собиралась, как и мы, позволить им… да не вышло, не выдержала, бросилась к двери, но пока отодвинула длиннющий засов, дверь жуть как загремела, и Зигмантас с Палубинските успели удрать. Зигмантас, еще немного проводив счастливую Палубинските – каждый обрадуется, найдя украденную лошадь, – вернулся другой дорогой, огибая двор этой противной Роже (тут, по-видимому, и была его ошибка), однако следов скрыть не смог: утром, когда Зигмантас был в поле, Роже прибежала к Полёнии и все ей выложила. Может, еще и приукрасила. Роже не сплетница, рассказала одной Полёнии, больше никому, но этого хватило: ко всему привычная Полёния к этому привыкнуть не смогла и несколько дней, хныча, расспрашивала Зигмантаса, отогнав ребенка подальше:
– Зигмантас, как там было?..
Ну разве не веселая женщина? Зигмантас, потупив глаза, отвечал:
– А что там было? Ничего, дура эта Роже…
Прямого удара Зигмантас, стало быть, избежал, зато косвенный пострашнее: Полёния плакала каждый вечер, усадив к себе на колени Волесюкаса и ничего не говоря Зигмантасу. Что ж, понятно, каждый имеет какой-то предел. Покажется человеку однажды, что все, точка. Может, кто-нибудь и мог вернуть Полёнию к жизни, но она сама – никак. Зигмантас тоже. Тот и вовсе рехнулся: напившись, избил Роже, а потом руки ей целовал, чтоб простила, и эта добрая женщина сжалилась, подозрительно ласково гладя лохматую голову Зигмантаса, но кары небесной Зигмантас все-таки не избежал – следующей весной поцапался с соседом Гоптой, тот был известный силач, бухнул кулачищем Зигмантаса по башке, и Зигмантас повалился наземь. Очухавшись, вскочил, пнув ногой Гопту, вмешалась Гоптене – вечное желание женщин наводить порядок на всем белом свете – бросилась сперва к своему мужу, потом к Зигмантасу, умоляя их прекратить, но Зигмантас и Гопта успели наугощаться «отравой» Гапшене, поэтому Зигмантас врезал Гопте ногой меж коленок, а когда тот, сцапав Зигмантаса, собирался уже накормить его землицей, Зигмас ударил еще раз и теперь попал ногой в живот не Гопте, а Гоптене, которая, как потом, протрезвившись, узнал Зигмантас, была в положении. Ясное дело, Гопта излупил Зигмантаса изрядно, но и этого было мало – состоялся суд, и Зигмантас угодил в тюрьму, потому что Гоптене выкинула. Когда все так обернулось, Полёния про свою обиду почти забыла. Провожала Зигмантаса в тюрьму без слез, только прошептала ему на ухо новость:
– Зигмантас, я в положении. Вот отсидишь, вернешься и найдешь.
У Зигмантаса еще не прошло бешенство, поэтому он ответил:
– Ладно, когда опростаешься, отдай Гоптене, авось меня раньше выпустят…
Никак она уже на полпути к дому. Полёния почти успокоилась. Почему же? А потому, что все эти передряги кончились бог знает когда, вместе с дурной привычкой молодого или не совсем старого человека все принимать близко к сердцу. А сейчас она идет, закутавшись в тулуп Гапшене, и все, что мелькает в ее голове да перед глазами, кажется чьей-то другой жизнью, не ее.
Зигмантаса увезли. Она дозналась, что его отправили строить мост в Лидувенай. Попыталась было Полёния отправить ему с оказией вареного цыпленка, но цыпленок вернулся уже несъедобным: Зигмантасу передать его не разрешили. Пока Зигмантас строил мост, Волесюкас стал почти взрослым, пас корову, даже пахать пробовал, одно слово – правая рука. Как-то его не было дома, Полёния сидела за столом со своей младшей сестрой, хорошенькой и с ровными ногами, а тут в избу ввалился немчик, молодой и вроде бы лейтенант. Немчик не стал требовать ни яиц, ни сала, а сразу схватил Полёнию да повалил ее тут же на порожек. Сестра попробовала было защищать Полёнию, однако немчик отпихнул ее ногой. Когда немчик ушел, Полёния долго утирала слезы и дрожащим голосом повторяла:
– Хорошо, что не тебя. Мне-то теперь все равно.
Сестра в сердцах отвернулась: то ли эти слова ей не понравились, то ли еще что.
Вслед за немчиком вместе с фронтом вернулся и Зигмантас. И обнаружил в колыбели щекастого мальца, которого звали Адзюсом. Долго ласкал он этого Адзюса, очень уж истосковался на этом проклятом мосту по пеленкам и детскому писку.
Зачем бог дал человеку язык, если он не стоит коровьего хвоста? И надо же было сестре Полёнии как-то вякнуть про этого немчика. Шел себе да ушел, и пропади он пропадом! Хотя Полёния и говорила, когда Зигмантаса угоняли к мосту, что она в положении, но чертов червяк с каждым днем все глубже вгрызался в сердце. Адзюс уже носился весело по двору, был он шустрый, бойкий ребенок, а Зигмантас, бывало, поглядит на него, поглядит да как рявкнет:
– Катись колбасой, гад!
Адзюс катился колбасой, его страх еще не был настоящим, боялся схлопотать по шее, и ничего больше, всегда можно было спрятаться за мамину юбку, но Адзюс все равно чувствовал, как слезы Полёнии капают на его остриженную наголо голову.
Зигмантас ничего особенного и не говорил, только, бывало, вдруг накричит на Адзюса или Полёнию. Когда обобществили землю, Зигмантасу стало вольготнее, мог почаще лодыря гонять да и на выпивку времени прибавилось. И тут случись еще одна беда. Завел он привычку уходить с похмелья в лес да, забравшись на самую высокую ель, глазеть оттуда по сторонам. Наверняка он глядел с тоской туда, где строил деревянный мост, потому что жить там ему, пожалуй, было лучше. Однажды, когда он так озирался, грянул выстрел. Зигмантас не упал с дерева потому, что прострелили ему только ногу, по подозрению, что он озирается с каким-то нехорошим умыслом. Ногу он залечил, но так и остался хромым, да еще пришлось походить по всяким следователям.
Домишко уже недалеко, тут не задувает, Полёния расстегивает тулуп Гапшене, огибает хлевок, стены которого в этом году еще не меняли. Зигмантас даже этого уже не делает, придется ей самой. В избе чертовский холод, Зигмантас, видать, заночевал у кого-нибудь за столом, Полёния разводит огонь в печке, отыскивает настойку на травах или гадюке, еще малость себя подогревает, огонек тоже дает немало тепла, полешки, знай себе, постреливают, и славно вот так посидеть спокойно и уютно перед огнем, а то и вздремнуть. Забот теперь немного, Волесюс который уже год как ушел к жене, Адзюс в армии, тишь да гладь.
Под утро появляется и Зигмантас, успокоившийся и счастливый, он заговаривает с Полёнией, однако та не отвечает, – не отвечает, и не надо, Зигмантас кое-как добирается до кровати, ложится передохнуть, а утром встает с больной головой и слышит, как жалобно скулит его Полёния…
«Скорая» может добраться только до центральной усадьбы, туда Зигмантас доставляет Полёнию на лошадке, сопровождает на «скорой» до города, а потом уже на грузовике возвращается с Полёнией обратно, гроб купил за свои деньги, но председатель сказал, что подкинет, не оставит человека в беде, соседи уже дали телеграмму Адзюсу, тот успел примчаться, а больше всего помогал с похоронными хлопотами Волесюс. Когда похоронили, все собрались в избе Зигмантаса, где стало тепло – от людей. Час спустя кончилась самогонка, и Волесюс с Адзюсом побежали к Гапшене, которая сама лежала и хворала, но раз уж такое дело, выручила, однако напомнила-таки, что сгорел ее тулуп, а не Полёнии, и Волесюс добавил деньжат еще и за тулуп, а потом оба спешили, позвякивая бутылками, по той же самой мерзлой тропе, по которой той ночью так ритмично тукали ноги Полёнии, их матери.








