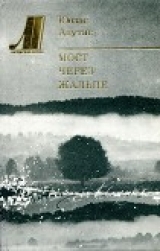
Текст книги "Мост через Жальпе (Новеллы и повести)"
Автор книги: Юозас Апутис
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Казалось, что наконец-то все миновало. На какое-то время исчезли самолеты, выбросили черные точечки и взмыли вверх, улетели, сделав круг, туда, где небо сплошь застилал дым.
От шоссе он успел уйти недалеко, видел, как колонна грузовиков свернула на обочину и, рыча, ползла рядом с шоссе, наверное, дорогу разбомбило. Слышал, как ржут лошади возле прудов. На западе словно разорвали пополам черную тучу, одна ее часть ползла у самой земли, а другая медленно поднималась, щель все ширилась, сквозь нее стал уже пробиваться свет. Крытые грузовики, первые из которых сейчас снова сворачивали на шоссе, объезжая воронки, смахивали на исполинских пауков.
Однако ничто еще не кончилось. Вскоре снова на бреющем полете пронеслись полчища самолетов, одни из них улетели дальше, и там, вздыхая, задрожала земля, а здесь уже завжикали пули, раздались вопли, немцы соскакивали с грузовиков и падали рядом с машинами.
Отец Бенутиса бросился наутек. Потемнело, от дыма першило в горле, разъедало глаза. Бежал он, спотыкаясь, а пули вонзались в землю совсем рядом. Он все бежал в надежде, что наконец-то оставит позади это треклятое поле, скроется от солдат, из-за которых и летали здесь эти пули. Но пули все вжикали и вжикали; страшней всего было, что летели они из невидимого неба.
Ударился в дерево, на ощупь бросился к чему-то черному впереди и уперся руками. Поняв, что это строение, попытался нашарить дверь, потом заметил, что нижний венец сруба покоится на больших бутовых камнях, и забрался под пол. Даже сквозь едкий дым ударил в нос запах плесени, мышей и крыс. Прижимаясь к прелой земле, всем телом чувствовал, как она дрожит – словно усталое или озябшее животное. Из своего укрытия видел, как неподалеку пули хлещут по свекольному полю. Казалось, по полю носятся белые молнии – во все стороны разлетались изрешеченные пулями свеклины, ударяясь даже о крышу амбара.
Все кончилось так же быстро, как и началось. Когда осторожно выползал наружу, больно обжег крапивой руки и ноги. Странное дело, хотя затихли пули и грохот, ни на дворе, ни где-нибудь поблизости не слышалось голоса человека или животного. По-видимому, хутор был брошен, люди куда-то попрятались.
Выбравшись из-под амбара до половины и опершись, он увидел на свекольном поле человека, который шел медленно, сутулясь, не глядя по сторонам и что-то бормоча себе под нос. Отец Бенутиса встал, сделал несколько шагов к нему, к свекольному полю, но в это время воздух снова сотрясли взрывы, от шоссе донесся вопль, вспыхнуло пламя. Видно, загорелось сразу несколько грузовиков. Бенутисов отец бросился обратно, забрался в свое убежище, только теперь задом, пятясь, как делают собаки. Немецкие солдаты, по-видимому, недалеко успели убежать по обочине шоссе, если пули опять решетили свекольное поле. Он видел, как солдатский отряд залег возле изгороди. Вдруг перед его глазами мелькнула ясная картина: старичок с прудов. Не торопясь и не оглядываясь, шел он к другому краю свекольного поля. Отец полз к полю, глядя в ту сторону, где летали в воздухе, словно рассеченные мечом, свеклины.
– Быстрее прячьтесь! – закричал он, но сквозь грохот человек не мог его услышать.
Забыв про страх, подбежал к старичку, схватил в охапку и потащил к своему убежищу.
– Пустите… Не надо, – тяжело дышал старичок, но отец уже залез под амбар, осторожно потянул за собой и старичка.
– О господи! Не дадут своей смертью… – шептал старичок, больше не говоря ни слова, лишь беззвучно шевеля губами. Он лежал на боку и дышал с присвистом.
На мгновенье все снова затихло. Бенутисов отец осторожно вылез, обошел вокруг амбара, оглядел двор, увидел стоящий посередине деревянный крест. Нигде не было ни души. Вернувшись, сказал:
– Пойдем. Все как будто успокоилось.
Старичок пошевелился, однако вылезть не успел: снова налетели самолеты, теперь они стреляли точнее, пули ложились левее, где проходило шоссе. Отец снова забрался под амбар, видя в свете взрывов спокойные, выцветшие глаза старика. Впереди, на свекольном поле, уже не было так страшно, лишь изредка взлетал в воздух белый осколок свеклины. И вдруг амбар приподнялся, хрустнул, накренился, и только тогда раздался какой-то свистящий удар. Шепча что-то, шевелились губы старичка.
Потом грохот замолк надолго. Когда они выбрались наружу, Бенутисов папа в полумраке увидел посреди двора зияющую воронку. Она зловеще чернела на том месте, где недавно стоял деревянный крест.
Шли они очень медленно, пока не добрались до железной дороги, по которой в эту минуту только что прополз, пыхтя и раскачиваясь от перегрузки, поезд. Спустились в долину Жальпе, потом долго, то и дело отдыхая, поднимались на склон. Старичку трудно было идти, как-то он даже схватил за руку папу Бенутиса, хотел что-то сказать ему, но воздуху недостало.
Казалось, что и бог войны, если он еще существовал, в этот час с удовлетворением и спокойствием глядел на замолкший край. Луна успела уже подняться над верхушками деревьев, ясно освещая по-осеннему пустынные поля, застывшие и напуганные деревья. Слышно было, как внизу безмятежно журчит вода. Вся долина казалась темно-лиловой. Вдалеке, как бы за далью столетий, гудели на шоссе машины, но все это уже относилось к другому миру, не к этому, этот, казалось, был отдан безмятежной жизни. Холодные осенние звезды сияли на удивленье ярко. Он подумал, что таких звезд давно уже не видел. Вспомнил, что в руке все еще держит лопату, и со злостью швырнул ее в канаву.
Остановившись, старичок посмотрел на нее.
– Иди ты один. Я не успеваю. Мне некуда спешить, – хватая ртом воздух, сказал старичок.
Отец взял его за локоть:
– Пойдем вместе. Медленно пойдем и успеем. Будем отдыхать почаще и придем.
– Куда? – старичок глядел на папу Бенутиса с опаской, ничего не понимая.
– Домой. Ко мне домой пойдем.
– Попусту буду занимать место в твоем доме.
– Бенутису веселее будет. Он любитель всяких рассказов.
– Сын?
– Ага.
– Большой?
– Маленький, но уже подрос. Только его ранили, беднягу.
– Шрапнелью?
– Жеребенок лягнул. И страшно.
– Господи, господи… Раз так, то пошли… Жеребенок!..
Когда долина реки осталась позади, стало совсем темно – наверно, от высоких деревьев, растущих здесь. Луну, которая, выбравшись из-за туч, прежде освещала дорогу, теперь часто застилал черный дым. А когда изредка она появлялась, то казалась испуганной, одинокой и очень холодной.
Дойдя до развилки, они увидели белеющий внизу деревянный мост. Кто-то недавно сменил на нем перила. Под мостом клокотала Жальпе.
Старичок остановился, поискал место, где сесть. Устроившись на большом камне, он сказал папе Бенутиса:
– Кто-то говорит, что мне не стоит идти…
– Кто?
– Не знаю толком, но очень просит никуда больше не ходить.
– Сейчас отдохнем и потопаем. Уже больше половины дороги прошли.
– А где моя шапка? – вдруг испуганно спросил старичок, и отец Бенутиса только теперь заметил, что старичок сидит на камне с обнаженной головой. – Сам не знаю, где и когда ее проворонил. Господи, шапки не стало…
– Может, с телеги упала. Ведь вас собирались перевезти в безопасное место.
– Везли. Точно везли. Потом лошадь понесла, и я, наверно, вывалился. А может, и сам слез… Не помню, не могу сказать… Такое землетрясение.
– Что поделаешь, теперь уж не найдешь.
– Тогда пошли, может, твой дом недалеко от края моего детства…
Старичок неожиданно быстро встал, сделал три шага вперед, вымытыми добела глазами глядя в темную даль. Так же резко он споткнулся, приложив руку к боку и говоря:
– Хватит, всего уже хватит.
Нагнулся и рухнул бы на траву, если бы отец Бенутиса не схватил его за плечи и не придержал.
Когда отец понял, что старичок мертв, озноб пробежал по всему телу. Он стоял какое-то время в оцепенении, а потом осторожно прислонил старичка рядом с камнем, а сам, сипя и задыхаясь, бросился бежать в сторону своего дома, не зная, почему так делает. Остановившись в лесной чащобе под елью, почувствовал, что покрылся холодным потом, и еще больше испугался. Спокойно глядел на него деревянный святой за холодным стеклом в деревянном домике, приколоченном к стволу ели.
Какой-то голос шепотом приказал ему вернуться. Шел он медленно, подойдя, наклонился к старичку, посмотрел на открытые, ничего не видящие глаза, закрыл их, а потом потопал дальше, вскоре добрался до места, где бросил лопату. Найдя ее, удивился тому, как медленно шли они – так много времени прошло с той минуты, как он бросил лопату, до его смерти, а теперь он так быстро за ней сбегал.
Яму выкопал здесь же, возле камня. Перед тем, как опустить тело в могилу, он аккуратно застегнул сорочку старичка и пуговицы тоненького пиджачка, печально подумав при этом, какое бесчувственное существо человек; почему за все это время он не догадался, что старичку могло быть холодно?
«Будто сон мне снится… Не только в этой темноте и сумятице придется мне помнить про эту могилу. Я буду помнить про нее все время, весь свой век, в буднях, когда кончатся все эти войны и меня по этой дороге понесут куда-нибудь мои ноги», – думал Бенутисов папа, насыпая высокий холмик.
Управившись с этим делом, лопату не бросил, прихватил с собой.
Высокая ель, до которой он успел добежать тогда, к утру низко опустила свои ветви, тускло поблескивало стекло часовенки.
И впрямь – бог войны в это утро вздремнул, и миром стал управлять кто-то иной, или ему просто захотелось поиграть – с луной, полями, людьми. Стояла дивная тишина, такая тишина, что даже собаки не смели тявкнуть, они, скорее всего, тоже дремали после тяжелой и тревожной ночи, казалось, не осталось на свете ни птицы, ни зверя, лишь эти два замолкших человека – отец и тот другой, только что уснувший навеки.
Он идет, думая о том, что произошло за столь короткий срок. Все не выходит из головы Бенутис (перед глазами всплывает прекрасное лицо Хелены), любящими глазами смотрит на него Бенутисова мама.
Он шагает по тропинкам, по которым в давнишнее время еще ребенком вместе с деревенскими бабами ходил в городок, по которым тысячу раз ходила и Бенутисова мама, может, даже оставшийся возле камня старичок, на которых недавно оставил свои следы и он. Миновав лес, уселся на пенек. Здесь росли красивые елочки; хоть и молодые, они уже успели подрасти; он вспомнил, как много лет назад садил их здесь, что была при этом и Бенутисова мама, тогда еще молоденькая девушка (и Хелена), только Бенутис витал еще где-то далеко, по ту сторону земли.
Так идет время, подумалось ему.
Долго стоял на мосту через Жальпе, совсем недавно везли его по нему немецкие солдаты, а казалось, что с того дня прошел целый век. Здесь совсем недавно проползла война, хоть и несильно затронула, но все равно ужаснула; сегодня утром как будто ничего и не было, все кончилось – казалось, не только здесь, но и на всей земле…
Чем ближе к дому, тем сильнее колотилось сердце. Ноги почти не повиновались, будто смертельно усталый, бредет он под печальной луной.
8Это воспоминание из совсем недалекого времени, из вчерашнего вечера, из вчерашней ночи. В землянке, или дзоте, как называл папа, они растянулись на нарах, и Бенутис уставился в прохладное звездное небо, словно хотел что-то прочесть в осенних звездах.
А еще до этого мальчик услышал мамин голос:
– Бенутис! Вернулся… Папа вернулся! – закричала она и бросилась к отцу в объятия. Уткнувшись в грудь, стояла долго, потом подбежал Бенутис и прижался к папе с другого боку.
– Боже, ты все-таки есть… – говорила мать, все еще уткнувшись под мышку отцу, а он стоял молча и гладил подрагивающие ее плечи. Через минуту спросил:
– А дяди нету?
– Домой удрал, – сердито ответил Бенутис.
– В дзоте найдется место, чтоб лечь? – был второй вопрос отца.
Бенутис потянулся к усам отца, но отцу мешала лопата, которую он все еще держал в руке, он поставил ее в угол и теперь свободными руками крепко прижал к себе ребенка.
– А мне ни чуточки не больно, папа, – сказал Бенутис.
Отец горячей рукой погладил его по голове.
Это воспоминание из совсем недалекого времени, из вчерашнего вечера, из вчерашней ночи.
Когда они забрались в землянку и отец растянулся у стены головой к лазу, Бенутис боязливо спросил:
– Папа!
– Что?
– А страшно на окопах? – рукой он касается папиного колена.
– Бенутис… Не приставай, папа устал. Завтра обо всем расспросишь, – говорит мать и вздыхает.
– Завтра, может, некогда будет, – рассудительно говорит Бенутис, и отец, кажется, улыбается.
– Страшно, Бенутис… Привыкшему, может, и ничего, а мне-то впервой.
– Господи, – сказала мать, – такие дымы и громы в той стороне, куда тебя повезли.
Отец перевернулся на спину, а глаза Бенутиса снова следили за клочком неба, который был виден из лаза землянки, и ему казалось, что все, о чем рассказывал папа, происходило в этой черной ночи, в несусветной дали от дома.
9На следующий вечер, который выдался на редкость тихим и уютным, русский офицер велел всем выйти из землянки, затем ее проверил прыгнувший в нее солдат. Пегая лошадь офицера стояла рядом, одним глазом она как будто смотрела на Бенутиса.
– Боитесь? – спросил офицер. – Оккупанты напугали, что русские всех перережут?
– Пугали… – торопливо ответила мать.
– А видите… – офицер, задумавшись, глядел на зажатую в руке планшетку. – Где здесь деревня Паварнис, там? – ткнул он рукой.
– Там. За кустами, – вздохнула с облегчением мать Бенутиса, а папа кивнул.
– А там фашистов нету? Не видели?
– Вчера убежали.
– Ага, – сказал офицер и, приставив к глазам бинокль, поглядел в ту сторону, где находилась деревня Паварнис.
Солдат приказал всем забираться обратно в землянку. Офицер, все еще глядя в бинокль, спросил у него:
– А зачем? Война здесь уже кончилась.
– На всякий пожарный… – с хитрецой поглядев на офицера, ответил солдат. – Если кому надо до ветру, то лучше сейчас, а ночью сидите в окопе, чтоб не напороться на часовых. Хозяин, покороче привяжите собаку.
Бенутисов папа, по-видимому, понял, что солдат обращается к нему, и пошел к собачьей конуре.
На следующее утро Бенутис выглянул из землянки. Серый осенний туман. Мать уже ходила по двору. Отец лежал на нарах и глядел в потолок, затянутый желтой плесенью.
Бенутис увидел множество машин, которые вылезали из леса и двигались в сторону шоссе. Выбравшись из землянки, ребенок медленно шел к матери. Мать стояла возле изгороди, отец еще был в землянке.
За сеновалом зарычал грузовик, он был полон солдат. Грузовик ехал по проселку в сторону поместья, туда, где в давние времена в листве так чудесно горело пламя солнца.
Лишь сейчас Бенутис вспомнил про свою щеку и почувствовал, что у него кружится голова. Он рассердился на папу за то, что тот лежит в землянке, когда уже миновала опасность: если бы он вылез, то, может, спросил бы у солдат, где разместился новый госпиталь. Прищурившись, Бенутис стоял около изгороди, глядя на поле возле поместья; целыми колоннами ехали к нему грузовики, скакали всадники, шли пешие, покачивали шеями пушки. Вдалеке, у шоссе, изредка громыхали взрывы. Со свадебной фотографией в руках через порог вошла в избу мать.
Воркуя, приближался к ним по тропинке старик Пранцишкус, то и дело останавливаясь и глядя на дорогу, по которой ехали военные подводы. За одной подводой бежал жеребенок и настырно лез под брюхо к кобыле. Солдат попался добрый, два раза соскакивал с подводы и прогонял жеребенка, хотел чтоб тот отстал или хотя бы смирно бежал рядом, не мешал движению, однако жеребенок ни бельмеса не смыслил в военных делах, он снова догонял подводу и лез под брюхо матери. Солдат соскочил еще раз, и Бенутис оцепенел от ужаса. И – живите вечно, цыгане! – в этот миг из кустов появилась повозка табора. Лошадь у повозки была одна без жеребенка. Соскочивший с подводы солдат скрестил перед цыганами руки, показывая на жеребенка и цыганскую лошадь, один из цыган спрыгнул со своей повозки, бросился на колени, умолял не менять лошадей, однако солдат был неумолим, мгновенно распряг свою кобылу, подвел к цыганской повозке, а их лошадь поставил между оглоблями своей подводы и укатил. Цыган ломал руки, однако, успокоившись, запряг кобылу; когда подбежал жеребенок, цыган в сердцах – ведь из-за него потерял свою лошадь – огрел его кнутом, жеребенок заржал и отбежал в сторонку, однако, когда он подбежал во второй раз и жадно присосался к брюху кобылы, тот же самый цыган ласково погладил его: зачем он падал на колени и ломал руки – ведь вместо одной получил две!
Старик Пранцишкус был уже во дворе, глядел выцветшими глазами на цыган и ворковал, не переставая.
ОСЕННЯЯ ТРАВА
Д е й м а,
со взморья Ты вернешься через неделю. Эту записку оставляю на столе. Неприятно, что Ты можешь позвонить домой и никто не ответит. Но я больше не могу так. Только что вызвал «скорую». К себе в клинику звонить не хотел. Не сердись, если не все смогу вразумительно Тебе объяснить. Помнишь, я рассказывал Тебе об одной операции? Раньше не раз намекал Тебе, что иногда на меня находит помрачение. Это случилось и в тот день. Но я до смерти хотел доказать себе, что не все еще потеряно. И я, как в темную ночь, вошел в операционную. Сейчас последствия уже ясны: девушка, у которой был редкой красоты голос, петь больше не сможет. Ей пришлось бросить консерваторию, она перебралась на постоянное жительство в больницу… И лечить в ней уже не голос…
Дейма, ведь это случилось потому, что я побоялся признаться себе в том, кем я уже был тогда.
Дейма, страх – главный наш враг.
Сейчас мне худо, это-то я еще понимаю. Дейма, мне не удалось проследить, когда и с чего все это началось. Пришло и навалилось невыносимое бремя, а эта операция добавила последнюю каплю. Теперь так муторно, что избегаю самого себя. А как можно избежать себя?..
В детстве мы запускали волчки… Делали их из нитяных катушек и запускали… И они вращались со звоном, а как же иначе, такова была наша воля. А нам бы подумать, как себя чувствует разрезанная пополам катушка… Какую чепуху я Тебе пишу!
Пока у меня еще осталась хоть капля рассудка и человечности, я обязан сделать то, чего потом, быть может, уже и не смог бы сделать. Опоздал бы. Я обязан сказать и себе, и Тебе, Дейма, что я и впрямь стал другим.
Очень прошу – пойми меня правильно.
Не переживай, Дейма, мы остаемся сами собой до тех пор, пока еще способны чувствовать. Приехали… Быстро приехали – под окном уже стоит их машина. Смешно – они прихватили носилки… Они не понимают, что можно болеть стоя… Помогу отнести их назад.
Прощай. Иду открыть им дверь.
Б е н а с
P. S. Забыл написать, какой сегодня день. Дейма, сегодня июнь 1971 года, пятница.
Погруженные в воду весла казались сломанными и были похожи на лягушачьи лапы. Осторожно вынимая их из воды, он видел в глубине белесые водоросли, разветвленные, как жилы огромного существа.
Упираясь пятками в днище, он налег на весла, и лодка заскользила, шурша по листьям кувшинок. Одно весло запуталось в водорослях, что волочились вслед, они тянулись и жалобно лопались. Когда лодка вынырнула из прибрежных кувшинок, ему почудилось, что берег, словно зеленая веревка, медленно уползает назад, дергаясь и цепляясь за что-то.
Отплывая от берега, доктор Бенас видел девушку за густыми зарослями камыша, которая вышла из костела.
Все было не внове. Серый костел на пологом берегу озера он видел из года в год, клевер на склоне краснел каждое лето, хотя никто не сеял его и не косил, слева от костела по пыльному проселку изредка спускались с горки, подпрыгивая и покачиваясь на торчащих из дороги камнях, грузовик и легковушка, иногда со стороны леса ехала телега из какой-нибудь далекой деревни, человек перед подъемом слезал и шел рядом с ней, держась за грядку, не поймешь для чего – то ли подталкивая телегу, то ли опираясь на нее, чтобы легче шлось. И еще: за этим проселком, если была не ночь, он всегда видел трех коров – двух буренок и одну почти белую. Рядом с коровами носились дети, а за ними гонялась маленькая лохматая собачонка.
Когда он оказывался на середине озера, берег казался ему величественным. Странная значимость осеняла те места, куда направлялся его взгляд, четкая неотвратимость: все это должно было быть. И случись кому-то из этого необходимого всем существования умереть, как большая часть в мгновение ока поднимет его из могилы, поскольку не может она оставаться в живых, когда он мертв.
Все было не внове. Кроме одной точки на заросшем клевером склоне, мерцающей от слабого ветерка. И лишь она двигалась по этому склону с опаской, словно была чужой здесь или никем не понятой.
Приехав сюда, Бенас встретил ее в первый же день. Герда сидела на берегу, опустив ноги в воду. В воде они казались толстыми, косолапыми. Поздоровавшись, он не знал, с чего начать разговор. Его выручила девушка:
– Доктор, вам очень понравились наши края.
– И вы уже заметили? – с удивлением спросил он.
– Я была еще ребенком, а вы уже здесь катались.
– Хм-м-м… – он мельком глянул на ее изящные плечи. – Может быть… Кстати, в то время я не так уж часто катался. Тогда у меня была прорва работы. В этом году надеюсь пожить в свое удовольствие… – В его голове мелькнула туманная тень. Он сказал с некоторой торжественностью: – Этим летом ничем не буду заниматься, только кататься на лодке и допрашивать свою голову. Видите ли, я собираюсь писать воспоминания…
Девушка через плечо оглянулась на Бенаса. Лицо ее теперь стало еще красивее. Доктор Бенас улыбнулся своей откровенности: видно, соскучился по людям.
– Шутите… В вашем возрасте воспоминания еще не пишут.
– В каком?!.
– Разве я сказала что-то не так?.. Вы слишком молоды, доктор. Тем, что пишут воспоминания, им ничего больше не надо. Такие люди смотрят назад.
Бенас выпучил глаза:
– Да вряд ли, вряд ли… – Потом он заговорил с деланным безразличием: – Почему смотрят назад? Ведь каждый настоящий писатель пишет не что иное, как воспоминания. То, что уже было. И только то, что было с ним, что уже было в его глазах или голове… А у меня жизнь выдалась бурная… Вы смеетесь? На первый взгляд это кажется непохожим.
– Я же ничего не говорю, доктор.
– Правда, непохоже? Пожалуй, у всех жизнь бурная. Только каждого надо мерить его собственной меркой… Вот и вы бы могли засесть за воспоминания.
– Я?!.
– Ну да… Что вы думаете, когда идете по берегу озера, когда встречаете человека, который на вас смотрит, когда слышите его голос, когда он начинает говорить, как он старается в разговоре отделиться, отделиться… И выделиться из других, и убежать от чего-то. И как он пытается выглядеть не банальным и очень мудрым. И как потом видите, как он сломя голову бежит к соседу, а потом возвращается, успокоившись, услышав несколько слов единомышленников и на какое-то время смирившись… Как человек берет из ваших рук покупку, как ищет деньги в кошельке, как на него в этот миг смотрят друзья, жены, товарищи и подруги, что вы думаете обо всех этих людях, – мы все ведь думаем. Или – скажите, в чем смысл движения ног человека, когда ты лежишь возле придорожной канавы, а мимо идет этот человек, – ты его самого не видишь, только загорелые его ноги. Что такое эти движущиеся ноги на асфальте, на блестящем паркете, на засыпанном щебенкой проселке, на узкой тропинке, которую перебегают даже кроты, не повинуясь божьей воле… Простите, что так много говорю. Стосковался по словам.
– Раз так, доктор, то я напишу про вас… Когда-нибудь напишу, как вы катались на лодке, как доплывали до острова и каким вы были под проливным дождем и на солнцепеке. – Герда улыбнулась. – Да вы теперь и не похожи на доктора.
– Неужели? Почему, Герда?.. По правде говоря, многое ни на что не похоже. Вот вы – очень похожи на продавщицу? Неужели профессия обязательно написана у человека на лбу?.. Кстати, у докторов есть и некоторые привилегии: перед ними люди предстают обнаженными.
– Это такая важная привилегия?
– Не ахти что, конечно. Однако, видите ли, я испытал, что голый человек из-за непривычного на людях положения становится приниженнее и справедливее. Вместе с одеждой с него как бы спадает то, что накладывают на него должность, общество, связи и все такое прочее. Вы даже представить себе не можете перед врачом голым какого-нибудь видного сановника.
Какая иногда открывается мизерность, когда он начинает стонать, хотя на самом-то деле стонать еще нечего, однако ему кажется, что не приведи господи, чуть что – так все осиротеют без такого человека!.. Поэтому он старается завести тесное знакомство с врачами, чтобы потом чувствовать себя с ними как дома.
– Сегодня вы шутите, доктор.
– Не сказал бы… А что делать?
– В прошлом году вы были вроде бы другим.
– В прошлом?! Правда?
В прошлом… В прошлом я, может, и был другим. В прошлом году я вышел оттуда, со двора, обнесенного бетонной стеной. Уж так хорошо у меня все шло, уж столько было всяких надежд. В прошлом году я думал, что мы уже справились, что Гильда тоже наконец одолеет темноту.
– В прошлом году в этом озере утонул цыган.
Герда внимательно посмотрела прямо в глаза Бенасу.
В прошлом. Странное слово. Как зеленое, мягкое, пульсирующее пятно. В прошлом.
– Герда, почему вы спросили – важная ли это привилегия?
– Насчет людей-то? Потому, что все это на поверхности, доктор, и вы сами это хорошо знаете. Самое главное скрывается глубже…
– Правда, Герда. Я только хотел сказать, что иногда врачам приходится сталкиваться с очень смешными вещами… А настоящим человек бывает, когда он остается один, когда оказывается где-нибудь в чистом поле и глядит, устремив глаза в небо, воображая себе, что все на свете люди таковы, как он в этот миг. Но это длится так недолго. Потом идешь в толпе, сталкиваясь с людьми, как со столбами, видишь их злые, отупевшие, озабоченные, пустые лица или слышишь смех, который так далек от тебя, и ничто тебе не важно, кроме одного темного пятна, которое маячит перед глазами, мельтешит как жучок под микроскопом, а ты хочешь сфокусировать эту точку и отрегулировать линзы; ты напрягаешь мышцы, сжимаешь глаза в глазницах, и все равно точка маячит будто тень!
Бенас с каждым словом странно покачивал головой. Глаза его покраснели.
– Доктор!..
– Так уж оно есть, Герда, и вы это уже знаете.
– Что, доктор?!
– Что невообразимо трудно сделать прямо даже один шаг.
Таким был первый день, когда он приехал сюда этим летом. Бенас тоже вспомнил, что видал Герду и раньше, но тогда она была ребенком и он попросту проходил мимо.
Герда работала в маленьком магазине, который она рано открывала и рано закрывала, а потом гуляла по берегу озера и часто встречала доктора, гуляли они вдвоем, и многие в городке уже качали головами. Бенас ни разговоров, ни взглядов как будто не замечал. Только когда девушка, по неразумию, сама того не желая, начинала переступать грань, Бенас несколькими словами рассеивал туман, и они снова безмятежно беседовали о людях, рыбах и водах.
Почти месяц прошел с его приезда. Он жил у знакомого учителя, у которого был старенький довоенный автомобиль. Когда он ехал по узкому проселку, горб автомобиля плыл над рожью, кукурузой, всякими травами, и казалось, что по полям мчится большой черный пес.
Герду он не видел уже целую неделю, подумал, что она вообще уехала из городка.
Учитель иногда поднимался в его комнатку, чтобы сообщить какую-нибудь новость или спросить о чем-то. Вчера зашел, посидел несколько минут, потоптался у двери. Было видно, что он хочет что-то сказать.
– Случилось что?
– Мама Герды умерла. Она уехала на похороны.
– Что? Умерла мать! Герда никогда о ней не говорила.
– Наверно, похоронили уже. Несколько дней назад. Жила где-то одна в деревне, в глуши.
Бенас покачал головой:
– Мелькают по доскам рубанки гробовщиков…
Вчера, перед появлением учителя, Бенас отправил письмо. Письмо было коротким:
Дейма, было бы хорошо, если бы ты смогла вырваться и приехать хоть на несколько дней. Соскучился. Ничего не случилось, не бойся. Дейма, у меня опять… Опять лезет в голову нехорошее… Конечно, спешить не надо, когда сможешь вырваться, тогда и приезжай. Я все время буду ждать.
Вечером он снова отправился к озеру, снял замок с лодки, неторопливо вставил весла. Вода была как подогретая. Солнце светило сквозь сосны, и ребятишки в белых рубашках на небольшом мосту, переброшенном через канал, соединяющий два озера, были похожи на мотыльков. Остров посреди озера озарило солнце. По его краям росли береза и ольха, а вершина была голой, лишь поросла шероховатой бурой травой. Бенасу она казалась похожей на голову монаха-капуцина.
Увидев приближающуюся по берегу Герду, он шагнул из лодки, потрогал цепь и замок, а потом пошел ей навстречу.
Герда была бледна.
– Опять поплывете? – подавленно спросила она.
– До острова…
– Как всегда?
– Да… Трудно выдумать что-то новое… Герда, я знаю, учитель мне говорил.
– Все так внезапно…
– Болезнь?
– Опухоль легких. Злокачественная, как сказали бы вы.
– Много лет ей было?
– Шестьдесят восьмой.
– Мы, врачи, такой исход считаем почти благополучным. Слава богу, человек прожил достаточно. Нам бы столько… Однако нельзя так говорить. Простите. Долго болела?
– Скоропостижно.
– Тем более…
– Вы так утешаете?
– Вы в этом и не нуждаетесь, Герда… А мы тут вчера похоронили соседку учителя. Слышали, наверно, что умерла, родила ребенка и умерла при родах. Меня учитель тоже возил в больницу, но было уже поздно.
– Вы простите, но говорят, что врачи этой больницы виноваты. Это правда, доктор?
Герда стояла перед ним почти в профиль, чуточку наклонив голову. Он смотрел на ее маленькое ухо, которое смахивало на розовую раковину, подарок, привезенный из дальних стран.
– Когда раньше времени умирает человек, врач всегда виноват, даже если никто его не обвиняет. Разве ты можешь быть уверен, что сказал последнее слово, что нашел последний выход? Я не смею утверждать, что было так или иначе. Не хочу и врачей обвинять. Знаю только одно: страшен человек без страха, без сомнений, без душевных весов.
– О чем вы, доктор?
– О тех, кто лишен душевных весов… Может, и об этих врачах. Страшен человек, который, не прилагая никаких усилий для постижения самого себя, повинуясь звериному инстинкту любой ценой вытянуть, подобно мерзкому земному червю, свою плотскую голову выше других, выбрасывает эти весы на свалку!
Ему показалось, что Герда удивительно спокойна.
– Много смертей я видел, но на этот раз все было по-другому. Процессия, ползущая на коричневатый холм на кладбище, и страшнее всего – мать покойной. Она шла за гробом, увядшая и старенькая, доживающая последние дни, и несла на руках новорожденного. Такой маленький и сразу одинокий, один на свете.
– Отца его не было?
– Неизвестно, кто был отцом. Разве что сама мать знала.








