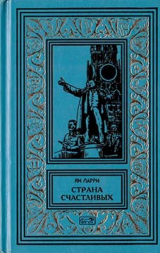
Текст книги "Собрание сочиннений Яна Ларри. Том первый"
Автор книги: Ян Ларри
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
Уходи, сынок… У нас плутоньер и гоцы
Хорошее вино у старого Олтяну – крепкое, обжигает горло и такое пахучее, как дыхание роз долины Пояна-Узулуй.
Давно присматривался Стадзило к погребам старика, а тут и случай хороший выдался. Вечером вошел плутоньер с двумя верными гоцами и проговорил:
– Ну, лысый, есть сын? Что?.. Не пришел еще? Так ты его все же ждешь? Так, так. Подождем и мы твоего сынка, а до тех пор – не смотреть же на твою поганую морду… Вытащи-ка нам бутылку-другую!
Дед поспешно достал вино – выбрал самое лучшее, принес брынзы, положил мамалыги и сушеного винограда. И бабка проворнее засуетились. Побледнела старуха, глаза напуганные и руки дрожат.
Олтяну присел в уголок, а бабка стала у дверей, поглядывая на гоцев испуганными глазами.
…В полночь взошел месяц. Кукурузные поля укутались дрожащими бледно-синими покрывалами, загрустили, заплакали о чем-то тяжелыми росами. Долго стояли неподвижными, купаясь в лунном молоке, а затем зашевелились, задрожали и недовольно пропустили сквозь чащу стеблей с десяток молодых парней из Уникитештов.
Из кукурузы метнулась тень, прилипла к мокрому забору и перенеслась к двери. Два пальца осторожно стукнули в дверь, тень притаилась. Так же осторожно скрипнули петли. В приоткрытую дверь высунулась голова старухи Олтяну. Она тихонько испуганно вскрикнула и зашептала:
– Уходи, уходи, сынок… уходи быстрее. У нас плутоньер и с ним двое гоцев… Пьяные всё… Все вино наше выпили. Уходи, а то хуже будет.
Тень метнулась обратно в кукурузу. Дрожащим голосом Олтяну позвал парней. Навстречу ему выбежали несколько человек.
– Хлопцы, у нас сам плутоньер сидит.
– Один?
– С ним еще двое гоцев… Все наше вино выпили. Теперь они, наверное, совсем пьяные…
– Ну?
Олтяну помолчал и зашептал снова:
– У твоего отца, Негойц, они сделали настоящую руину, у тебя, Бачу, украли полотно, у тебя, Греч, все вино на пол вылили… Ну? В сушильне есть топор и лопаты, есть сапы и ножи… Ну?
И никто не ответил молодому Олтяну на его слова. Юноши бросились в сарай и пропали в дверях.
…Домнуле Стадзило делился впечатлениями с гоцами.
– Хорошее вино у собаки. Видимо лет двадцать стояло без дела… Сколько лет этому вину? Эй, тебя спрашивают – оглох, что ли?
Старик покорно подошел.
– Уж и не помню, домнуле… еще отец мой поставил, во время свадьбы нашей со старухой… Давно, домнуле, поставил, еще тогда, когда в последний раз плясал по-молодому.
Плутоньер икнул и вытаращил на старика мутные глаза:
– А теперь что же… Уже не танцуешь?
Жандармы захохотали.
– Черт побери… А я хотел бы увидеть, как этот лысый будет танцевать!
– А вот он сейчас нам покажет. А ну-ка, старый стервец, подвигай ногами, да покажи, как танцевали раньше молодые.
Олтяну качнул головой и показал пальцами на свою сухую грудь.
– Не танцую я… Легкие вот болят – испортил на работе. Когда хожу, и то трудно дышать.
Один из гоцев повернулся к плутоньеру:
– Может лысому стакан вина поднести, чтобы повеселел?
– Ого, с чего бы это? Как будто он что-то во вкусе понимает. А ну, танцуй, лысый! Ну?
Олтяну принялся просить, чтобы его освободили от этого. Он дрожащим голосом говорил о своей старости.
Плутоньер покраснел.
– Пляши, сукин сын!
– Сам танцуй, собака-гоц!
– Кто это?
Плутоньер повернул голову и увидел разгневанное лицо молодого Олтяну и других парней, выглядывающих из-за его спины.
Олтяну быстро подошел к плутоньеру.
– Вот сейчас мы посмотрим, как собаки-плутоньеры танцуют.
Он выхватил из-под полы топор и безумно воскликнул.
– Танцуй!
Треснула плутоньерская голова и топор погрузился в мозг.
…Утром на перепутье были найдены трупы плутоньера Стадзило и с ним еще двух гоцев.
В полдень по проводам в соседний город летела тревожная депеша. Втиснутое в тонкую проволоку ночное событие растеклось точками и черточками Морзе по всем крупным городам Румынии и настороженно откликнулась на это сигуранца.
Сердце треснуло
Вечером село Уникитешты запылало со всех концов. Красные языки, дрожа, начали лизать темное небо, и густой дым столбами повалил вверх. Тогда же в деревню влетел карательный отряд румынской конницы. Пьяные солдаты бросились во все стороны, рассыпались по селу, словно борзые, что неслись за зайцами. Затарахтели выстрелы из ружей и воздух разорвали дикие женские вопли.
Солдаты вбегали в дома, били ружьями окна, ломали, уничтожали все, что попадалось им в руки, пьянея от огня и женских криков. Солдаты, превратившиеся в зверей, хватали женщин, оголяли их, лезли жадными руками под юбки, клали на скамью и тут же, перед глазами всей семьи наваливались, хрипя, с горящими глазами.
…Солдаты пьянствовали до вечера. Унесли все вино и пили, распевая пьяные песни, пьяные от издевательств над людьми. И ночью, когда солдаты уже перепились и выкрикивали что-то дикое, а патрули носились по улицам на взбесившихся конях, приказывая гасить свет в тех домах, что не сгорели, по садам прятались тучи крестьян, сжимая в руках топоры, сапки, тяжелые лопаты, оглобли и ножи. Ощетинившимися оглоблями и топорами, тучами обступили село плугурулы.
Пока румыны «устанавливали порядок» в селе, молодые парни успели объехать соседние села, сообщив другим молодым людям о том, что творится в Уникитештах, с просьбой прийти помочь всеми силами, чтобы отомстить за эту обиду. Упрашивать пришлось недолго. Налоги, грабежи, драки, расстрелы, поджоги домов, штрафы, контрибуции – за все это крестьяне давно собирались отомстить, глубоко пряча глухую злобу. Ночью в Уникитештах собрались вооруженные плугурулы и о чем-то задумались. До полуночи слышны были только пьяные солдатские песни и топот лошадей часовых. Люди лежали на земле, до полуночи слушая крики и топот лошадей, а в полночь молча встали, и молча, переливаясь живыми волнами через плетни, каменные заборы, сады и огороды, пошли к сигуранце.
Перед освещенными окнами остановились. Кто-то спросил.
– Ну?
Старый дед, стиснув зубы, перекрестился и решительно пошел к крыльцу.
– Господи благослови.
Жандарм возгласом хотел остановить старика. Но тот подошел к самому крыльцу и оказался перед толстым жандармом. Пьяным голосом жандарм строго спросил:
– Чего тебе надо?
Дед подошел вплотную, перекрестился, медленно достал из кармана рваных полотняных штанов садовый нож и коротко взмахнув рукой, вонзил его в жандармскую глотку по самую рукоять. Жандарм тяжело упал на крыльцо.
– Господи, прости меня грешного, – спокойно сказал дед и, по-хозяйски вытерев нож о штаны, крикнул.
– Ну, идите!
Идя с толпой, повалившей ему навстречу, говорил:
– Одного только и смог уложить… А больше, хоть убей – не могу. Петуха боюсь зарезать, не то, что гоца.
Но его никто не слышал. С дикими криками толпа влетела в сигуранцу, избивая палками вскакивавших сонных и пьяных жандармов. Гоцы, выбивая окна, бросились выскакивать во двор, но там их уже ждали топоры и ножи.
Успел выпрыгнуть только начальник отряда. Услышав шум, он протиснулся за печью в чулан и оттуда, оторвав доску, залез в нужник, а там уже сбежал через плетни к телеграфу.
Укрывшись на телеграфной станции, закрыв за собой дверь, сублокотенент приказал начать передачу. Телеграфист взялся за ключ. Дрожа, сублокотенент начал говорить, облизывая сухие губы.
– Штаб корпуса. Бухарест. Начальнику штаба… Отряд встретился с большими силами повстанцев, вооруженными пулеметами и гранатами, много одетых в русские шинели. Уникитешты штаб по…
В окно протиснулась палка и так крепко стукнула по офицерскому затылку, что неоконченное слово вылилось на аппарат вместе с кровью. В телеграфную станцию вбежали несколько человек.
Мы их проучим, мерзавцев!
Бухарест…
Город, в котором замечтались дома, где зевают маленькие чиновники и сладко щурятся при воспоминаниях о различных спекуляциях румынские дельцы… Столица. Это сердце великой Румынии, такое же грязное и вонючее, как и гнилая королевская власть.
…Телеграмма, посланная в штаб корпуса в Бухарест, прилетела как раз тогда, когда начштаба Морареску начал уничтожать седьмой стакан холодной воды с вином и вареньем.
Плюгавый, согнувшийся есаул, с напудренными щеками и носом и слегка подкрашенными губами легонько стукнув шпорами, положил телеграмму между двумя стаканами с холодной водой и отошел в сторону. Морареску опустил глаза в телеграмму. Закончив читать, он прохрипел:
– Что за черт, откуда это? Где это село Уникитешты?
– Телеграмма получена из Бессарабии – склонился перед ним адъютант.
– Из Бессарабии? Ну, что же вы стоите, черт вас побери? Где конец телеграммы?
Адъютант подпрыгнул.
– Очевидно, или провод был перерезан, или тот, кто передавал телеграмму, было внезапно убит.
Морареску вскочил на ноги:
– Так что же вы стоите? Что вы стоите, я вас спрашиваю? – выпучил он глаза на адъютанта.
Тот испуганно бросился к двери.
– Слушаю!
– Куда же вы бежите, черт бы вас побрал? – завизжал начальник штаба.
– Слушаю!
Генерал опрокинул стакан холодной воды и сел в кресло.
– Слушаю, слушаю! Надо не слушать, а дело делать! Дайте распоряжение в Кишинев… распоряжение в Кишинев… черт возьми, как же вы напудрились… что? Да, немедленно поставить на ноги Кишинев… Фу… Ну разве можно так пудриться, черт побери?.. Ну, что же вы стоите? Выслать немедленно дивизию и аэропланы.
– Слушаю!
– И больше не сметь мне так пудриться… В Бессарабии советские отряды, а здесь… черт его знает… Да не стойте вы, ради бога… Ну?
Аэроплан, содрогаясь всем корпусом, гудел пропеллером – готовился лететь. Летчик крепко пожал руки своим друзьям и полез в аппарат, где, ожидая его, сидел, словно вросший, бомбист-наблюдатель.
– Контакт?
– Есть контакт!..
Аппарат стремительно побежал по аэродрому, оторвался от земли, поплыл над горизонтом и быстро превратился в точку, унося летчика в тихую синь небес над Уникитештами.
…Через полчаса на Уникитешты отправился тяжелый пушечный полк и конная дивизия.
…Тем временем в Уникитештах творилось что-то необычайное – крестьяне, вооружившись ружьями, саблями и пулеметами, отобранными у жандармов, готовились к бою, каждую минуту ожидая появления румынского войска. Молодой Олтяну подбадривал плугурулов, гарцуя по селу на прекрасном сером жеребце, отобранном у офицера. Олтяну успел сегодня побывать в трех селах, поговорить в одном с бывшим унтер-офицером русской армии по поводу объединения всех сил, успел помирить ребят, подравшихся за оружие, сумел достать где-то колючей проволоки, которой плугурулы обмотали черешни, поваленные на концах улиц.

Но не только Олтяну так бойко работал и готовился. Даже старики и те сползли с лежанок, приняв участие в обматывании проволокой срубленных деревьев. Кто давал распоряжение – никто в точности не знал, но все работали дружно.
Олтяну хотел было дать некоторые указания плугурулам, рывшим окопы, но его, как всадника, послали на другой конец села – посмотреть что там делается, и не надо ли там чего. И Олтяну, пришпорив коня, помчался смотреть, что делается на другом конце Уникитештов.
Ночь прошла спокойно. За кружками с пивом плугурулы строили разные планы на будущее.
Много планов было разработано в эту ночь. Каждый предлагал свое и упорно пытался доказать, что его идеи самые верные и лучшие, и только на одном помирились все, когда заговорил старый Негойц.
– Люди добрые, все мы говорим глупости. Разве мы сумеем удержаться в этом селе? Вряд ли. Ну, неделю-две будем обороняться – а что дальше? Тут надо немного по-иному умом раскинуть. Войска у нас нет, пушек нет. Вот в этом-то и все дело… Нам следует послать человека в обласканную землю, и просить там поддержки… Вот что я хочу сказать.
И несчастные плугурулы, не знакомые с международным правом, поверили словам Негойца, и никто не подумал о том, возможно ли это. Плугурулы обрадовались до безумия. Долго выбирали, кого послать, и имя Негойца упоминалось чаще всех. И, в конце концов, порешили послать его.
Старик поднялся, разгладил свою седую, до пояса, бороду, поклонился низко и произнес:
– Спасибо, люди добрые, что выбрали меня потрудиться на дело общества… Хоть на старости лет посмотрю на эту землю. Может и доведется еще взглянуть на нее. Расскажу им, что творится у нас… А когда вернусь, так уже с ними.
Начали считать, сколько дней, придется идти старику. Насчитали семь дней.
– Семь день продержимся… Да, да. Семь день провоюем.
– Даже десять провоюем!
…С рассветом старый Негойц ушел в сторону советской границы, за спиной у него висела сумка.
В полдень над селом начал крутиться аэроплан. Плугурулы бросили работу и, задрав головы вверх, тоскливо смотрели на стальную птицу, гудящую наверху. Кто-то печально прошептал:
– Будет бомбы бросать, сейчас будет бросать.
Ответили покорно и безразлично:
– Да, наверняка.
Кто-то внезапно предложил:
– А может стрельнем?
Все радостно согласились с этим. Тут же зашумели, загомонили, зашевелились.
– Эй, у кого карабин, стреляй… Стреляйте люди!
Начали отрывисто стрелять. Аэроплан дернулся, минуту повисел в воздухе и рванулся вверх.
– Подбили!
– Пошел!
– Убегает!
– Го-го-го!
Снова весело затрещали карабины. Но вот неожиданно воздух прорезал необычный металлический гул, будто с облаков полились потоки металла.
– Ложись!
– Бомбу бросил!
Испуганно припали к земле, глядя друг другу в глаза.
Страшный взрыв где-то в направлении церкви разорвал чугунным хохотом застывший воздух. На головы посыпался дождь земли, песка и обломков кирпича. И снова прорезало воздух металлическим гулом, и снова разорвали полдень чугунные ветры и снова под тучи взметнулись черные столбы раздробленной земли.
Бомбы ложились в садах, среди улиц, в овине – они недолго яростно хрипели и, взорвавшись, с убийственным возгласом подбрасывали вверх кровли, деревья, черные кучи земли и огромные камни.
– Господи боже… господи боже… – быстро крестились плугурулы, вздрагивая всем телом после каждого взрыва.
– Господи, не попусти!
– Господи, не убий!
Взрывы слились в бесконечный гул, от них тоненько звенело в ушах и било в голову.
Какой-то старичок в разорванной до пупа рубашке, со сбитой в сторону взъерошенной бородой выбежал на дорогу и закричал, размахивая руками, приседая при каждом новом взрыве:
– Господи, убивают нас… Л-лю-юди-и!..
Но старика никто не слушал. Голос его тонул в чугунном реве взрывов… Тогда старик сел прямо в пыль и зашмыгал носом.
– Господи, убивают же… Господи, боже наш…
…Сбросив бомбы, аэроплан полетел назад. Наступила мертвая тишина.
Но не успели плугурулы успокоиться, как где-то вдалеке за селом прерывисто загудело:
– Данг-банг.
– Данг-банг.
И снова засверлило воздух. На этот раз – снарядами пушечной сотни, подъехавшей к селу. На деревню посыпался дождь снарядов. Все перемешалось в земляную кровавую кашу. О борьбе нечего было и думать. Оставив оружие в садах, плугурулы побежали к своим домам.
Вечером войско, влетевшее в село, творило суд и расправу.
Плугурулов согнали к разрушенной снарядами церкви, выстроили в один длинный ряд и, отсчитав каждого пятого, повели к забору. Вздохнул пулемет и… пятой части мужского населения в Уникитештах не стало.
Офицер брезгливо посмотрел на кровавую кучу плугурульских тел, окровавленных лохмотьев и на желтые, как воск, застывшие ноги. Повернул свое напудренное лицо к крестьянам.
– Если хоть одна гадина посмеет хоронить эту сволочь, от вашего села и камешка не останется… Слышите?
Плугурулы уткнулись подбородками в грудь.
Утром собрали партию молодых парней и погнали неизвестно куда. Матери бросились вслед – прогнали.
– Да скажите хоть, куда же вы гоните их? – спрашивали матери. Один из жандармов смилостивился.
– В Кишиневскую тюрьму.
А потом, опомнившись, закричал, взмахнул нагайкой, завыл:
– На-а-за-ад, сволочь!
Грустная встреча, печальные воспоминания
Тюрьма, где сидел Степан, ежедневно принимала в свои каменные объятия все новые и новые партии арестованных. Часть заключенных уже перевели в Ясский централ, часть направили в другие тюрьмы.
Степана и арестованного вместе с ним рабочего перевели в общую камеру, где сидели также и рабочие по делу забастовки и «вооруженного насилия» на табачной фабрике Левинцу. Хотя никто из арестованных пока еще не знал о том, что ими, помимо всего прочего, «сделано несколько выстрелов в домнуле Левинцу». Также никто еще не знал, что их обвиняют в покушении на жизнь агента сигуранцы Кавсана. Начальство не очень спешило уведомить их об этом – пусть, мол, посидят.
А камеры с каждым днем все наполнялись народом.
Однажды после прогулки в общую камеру привели партию новых арестованных в крестьянской одежде, в желтых, цвета подсолнуха, шляпах и с маленькими сумками в руках.
Плугурулы остановились у дверей, с детским любопытством осматривая помещения и вглядываясь в бледные, измученные лица заключенных. Но вот, ко всеобщему удивлению плугурулов, из дальнего угла камеры подошел высокий бородатый человек и, положив руку на плечо одного из них, спросил:
– Давно из Уникитештов, Олтяну?
Олтяну вытаращил удивленные глаза:
– Мы?.. Н-нет… три дня назад… А вы кто будете, домнуле?
Степан грустно улыбнулся:
– Что, уже и узнать не можете?.. Да я же кузнец Македон буду.
– Вот как… – удивленно пораскрывали рты плугурулы и радостно зашумели:
– Глядите, люди добрые, – действительно Македон. А зарос бородой, а похудел. Лицо как известкой перед праздниками выбелили…
– А на селе врали, будто бежал Македон.
Загареску прервал разговоры:
– Ну, хватит, потом наговоритесь. Выбирайте, ребята, нары!
Немного повеселев, плугурулы начали раздеваться и хозяйственно располагаться по углам, у стен, под окнами и возле дверей. Стянув с себя свиты и широкополые шляпы, сложив в головах узелки, плугурулы сели по-хозяйски, каждый на своем месте, положив черные корявые руки на колени.
Загареску взглянул на них и засмеялся:
– Ну, черт… Посмотри только, Степан, на земляков. Уселись вот. Словно на вокзале поезд ожидают… Будто во дворе Каса Ноастра[58]58
Учреждение, осуществляющее землеустройство в Бессарабии.
[Закрыть] землемера ждут.
Но Степан не слышал ничего. Он сел рядом с Олтяну и принялся жадно расспрашивать его про Стеху. Но увы, Олтяну ничего не знал и не мог ответить на вопросы Степана. Он мог лишь рассказать о том, как бедствовала Стеха, как ходила на поденщину, на виноградники, а дальше он и сам не знает, что с ней стало. И где она – молодой Олтяну тоже не знал.
– Большое несчастье случилось в Уникитештах, Македон. Большое несчастье. Когда взяли нас, не знали мы, живы ли наши отцы и матери, целы ли наши дома… Ничего не знаем.
Македон побледнел и произнес:
– Расскажи.
Молодой Олтяну начал рассказывать обо всем, что было на селе, – о восстании, о жандармах, о расстрелах, об изнасилованиях женщин, о грабежах, и каждое слово его теснее сплачивало круг слушателей.
Спокойный голос Олтяну лил в сердца слушателей кровавую, горячую ненависть и наполнял души кипучей бессильной злобой. Загареску стоял, широко раскрыв глаза, и в глазах его горели недоверие и ужас… Он не выдержал:
– Неправда!
Олтяну повел плечами и равнодушно произнес:
– Что ж, можешь не верить. Можешь не верить и тому, что мы в тюрьме… А за вранье нам не платят.
Дезертир задохнулся, из забытых глубин памяти выдернул давно забытые русские матерные слова и плеснул ими по камере.
– А-а-а… звери, звери. Мать… мать… мать… Растак вашу… в печень, в сердце, в гроб!..
Погрустнела камера. Притихла. А потом как-то случайно всплыло само по себе смелое и сильное желание, от которого сердца заколотились быстрее. Это было всеобщее желание – желание бежать. Кто-то подал мысль, уже и не вспомнить, кто именно. Главное – идея была подана. А дальше дни и ночи превратились в лабораторию, в которой готовили планы побега. Эти планы рассматривали и не принимали. Но дни и ночи были упорно наполнены этими исканиями.
В конце концов был выработан один план, который и был принят единогласно. Этот план был безумным по своему замыслу, но им нечего было терять – жизнь или смерть.
Широкий взмах упругих крыльев
Чтобы не возбуждать подозрений тюремной администрации, общая камера относилась к своим обязанностям так тщательно, что у охранников сердце радовалось. Заключенные всеми силами старались угодить начальству. Такого смирения, такого искреннего исполнения заключенными всех обязанностей администрация отродясь не видала. И, похоже, не надеялась увидеть.
– Телята, а не арестанты. Черт знает, почему такие смирные парни обвиняются в восстании? Ничего не понимаю!
Особенно этой покорности и рабскому вниманию радовался директор, когда заключенные общей камеры гнули спины возле его окон. Чуть ли не по земле стучали лбами – так они любили и уважали начальство.
Но все это было частью плана.
Так шли серые дни за решеткой. И вот однажды, темной ночью, когда туманные сумерки тихо вползали в тюремные окна, в камеру, Степан сказал:
– Ну?..
И узники, поняв все без слов, ответили с холодом в сердце:
– Бунэ…
Камера притихла. Каждый остался наедине сам с собой, чувствуя, как горячо пылает грудь и от предчувствий холодеют ноги.
…Ночь. В гулких тюремных коридорах мутно блестит электрический свет и размеренно стучат шаги часового. Из камер сквозь дверные волчки доносятся храп и стоны арестованных. Где-то скрипят в удушливом кашле и с бранью выплевывают из гнилых легких кровавую харкотину.
Тюрьма спит.
И караульному хочется спать. Караульный боится стоять на одном месте – уснешь случайно, беда будет, поэтому он меряет шагами уставших ног длинный коридора из конца в конец и от скуки заглядывает в волчки – что делается в камерах?
Но вот из общей камеры до ушей караульного долетел неясный шум и сдавленный крик.
Он остановился, а затем потихоньку пошел в сторону общей камеры. А в той камере в эту ночь произошло нечто необычное.
В полночь начал буйствовать один из заключенных – здоровенный плугурул Николай Кодрияну. Вскочив со своего места, он, дико завывая, начал носиться по камере, опрокидывая столики, парашу и ломая прибитые к стенам полки. Арестованные бросились к нему со всех сторон, пытаясь схватить его за руки, но тщетно.
Кодрияну с пеной на губах, с налитыми кровью глазами носился по камере, размахивая тяжелой скамьей, грудью опрокидывая тех, кто приближался к нему, и выл страшно, по-звериному. Все это увидел сторож в крохотный дверной глазок.
Шум усилился.
Часовой бросился вдоль коридора, добежал до площадки и, перевесившись через поручни, крикнул:
– Эге-ей… начальник стражи!
Плутоньер оттуда спросил, в чем дело.
– Несчастье в общей камере. Сумасшедший объявился… Бросается на заключенных… Все перевернул и побил в камере.
Удивленный плутоньер быстро прибежал наверх по лестнице и бросился по коридору.
Остановившись возле общей камеры, он приник к волчку и с минуту смотрел. Тем временем в камере пытались поймать Кодрияну. Заключенные то ласково уговаривали его успокоиться, пытаясь отнять у него тяжелую скамью, то пробовали сбить его с ног, бросаясь на него все вместе, но, видимо, сумасшедшие действительно обладают сверхчеловеческой силой – сегодня эту истину взялся доказать Кодрияну, разбрасывая всех, кто нападал на него, словно щенят.
Плутоньер громко спросил в очко.
– Эге-ей, что случилось?
К двери подбежал Загореску и зашептал:
– Беда, домнуле. Кодрияну обезумел… Двоих чуть не убил… Помогите, домнуле. Заберите его отсюда, а то он нас поубивает… Спасите, домнуле…
Плутоньер задумался:
– Черт его знает, что делать… Вишь, какое дело получается… Да-а. А в инструкциях про это ничего не сказано.
И плутоньер побежал за инструкциями к дежурному офицеру.
Через несколько минут к камере подошел заспанный офицер и несколько солдат. Офицер процедил:
– Откройте камеру.
Скрипучие задвижки ржаво взвыли и звякнули железом. Дверь камеры открылась. Офицер переступил порог и недовольно надулся. Он взглянул внутрь и невольно шагнул к двери.
– Что это такое?
Кодрияну, увидев офицера, дико взвыл, прыжком бросился к тюремной стене, подпрыгнул и, вцепившись руками в тюремную решетку, пронзительно захохотал. Офицер закричал:
– Хватайте его за ноги!
Узники бросились толпой к Кодрияну, но хитрый сумасшедший, поняв их, прыгнул на пол и, схватив с пола оторванную полку, метнул ее над головами и завыл.
Узники бросились назад. Офицер командовал:
– Заходи справа и слева!
Но Кодрияну, заметив, что его обходят, бросился в другой угол.
Ловля сумасшедшего начала превращаться в спорт. Заволновался не только плутоньер, горячились и солдаты, и узники, и даже офицер, который принялся бегать по камере с блестящими глазами, весело выкрикивая:
– С правой стороны, черти… С правой стороны заходи… А-ах, раскоряки!
И все начиналось снова. В камеру вошел даже часовой и, поставив ружье у двери, начал гоняться вместе со всеми за Кодрияну. Но вот вдруг сумасшедший, размахнувшись доской, бросился на солдат. Те метнулись в угол.
– Хватай! – крикнул Степан.
Но на этот раз бросился не на Кодрияну, а на солдат. И тут же хлопнула закрывшаяся дверь.
Сумасшедший стукнул офицера доской по голове и вместе со всеми заключенными бросился на румын. Произошла короткая беззвучная схватка.
Заключенные, тяжело дыша, сбили солдат на пол, заткнули каждому в рот по кляпу и быстро начали стягивать с них одежду. Степан подгонял. Но арестованные и сами спешили не меньше Степана.
Они чрезвычайно быстро натягивали на себя румынскую солдатскую форму, поспешно застегивали пуговицы, еще быстрее хватали оружие и, уже переодетые в солдат, подбегали к дверям, заслоняя спинами глазок в двери.
Кодрияну, внезапно оказавшийся здоровым, делал то же самое. Он так же натягивал на себя солдатские мундиры, но с бранью передавал их другим. На его огромную фигуру не нашлось ни одного мундира. «Сумасшедший» ругался:
– Вот, чертовы цыплята!.. Может, попробовать офицерскую… Где она?
Но офицером уже вырядился Загареску. Быстро застегивая последнюю пуговицу на офицерском мундире, он поспешно убеждал в чем-то Степана, нетерпеливо смотревшего на переодевание.
– Обязательно нужно, обязательно. И пароль у них надо узнать… Иначе никак нельзя.
Степан отвернулся:
– Делай, как считаешь нужным.
– Так бы и раньше.
Загареску наклонился к связанному офицеру, вытащил у него изо рта кляп и спросил:
– Пароль?
Офицер молчал.
– Пароль, курва?.. Ну?
И ткнул ему в лицо маузер. Офицер прохрипел:
– Кагул.
Загареску заткнул ему рот и шепотом спросил солдата, что лежал у двери:
– Пароль?
– Рени.
– Выходите! – сказал Загареску.
Тихонько скрипнули двери. Узники потихоньку проскользнули в коридор, оставляя позади пустую камеру. В глаза им взглянула желтая пустота коридора. Лишь где-то за углом стучали шаги часового, но его не было видно.
Степан шепнул команду, и все бросились по коридору в караульную комнату. Вбежали на цыпочках, беспорядочной толпой, тихонько зажав сердца в холодные рукавицы неизбежного, спустились по ступенькам вниз, не встретив никого. Все шло как надо. Все немного приободрились, всерьез поверив в то, что они начали делать.
Толпа вбежала в караульное помещение. Безумно напуганные солдаты не успели опомниться, как уже лежали на полу с выкрученными назад руками.
Снова начали переодеваться. Заключенные бросали на пол свою одежду, поспешно натягивая на голые тела солдатские мундиры.
В течение нескольких минут половина арестованных переоделась, и их уже невозможно было узнать.
– Ну, выходи!
– Стой!
В комнату вбежал Загареску. На его мундире, на руках и на лице тускло блестели кровавые пятна. Он остановил тех, кто выходил, и подбежал к связанным солдатам. Отрывисто спросил:
– Пароль?
Прохрипело сразу несколько голосов.
– Рени.
– Бунэ… Если вы будете кричать или попытаетесь освободиться до моего прихода, будет плохо. Смотрите – в городе уже объявлена советская власть… Будете нам мешать освобождать арестованных – перестреляем!
Загареску погрозил им кулаком и с этими словами бросился за выходящими, остановился на миг на пороге, еще раз погрозил пальцем и выбежал из караульной, заперев дверь на защелку.
Между тем Степан уже отдавал распоряжения в коридоре.
– Кто с оружием и в форме – становись по краям… Свободные в середину. Загареску?
– Есть!
– Ты офицером?
– Ну?
– Веди!
Степан распорядился и полез в середину арестованных. Кто-то перекрестился:
– Господи, благослови.
– Пошли!
…Двор погрузился в густую темноту южной ночи. Темень стояла такая, что трудно было рассмотреть человека даже в двух шагах. Партия «арестованных» на миг остановилась и пошла без команды направо в сторону огонька, который мерцал в темной пасти ночи. Это светил электрический фонарь. Несколько голосов зашептали:
– Внешняя охрана.
– Тише.
Перед глазами выплыли мутные расплывчато-темные очертания приземистого каменного дома с тускло освещенным окном с решеткой.
– Стой!
Загареску отошел от толпы и твердым шагом подошел к окну. Тихо постучал в стекло.
– Ишь… заснули, черти. Начальник стражи? Спишь, свиной хвост?
В ответ стукнула дверь, и несколько человек выбежали во двор. Загареску обратился к ним начальственным тоном:
– Спите, сволочи? Кто начальник караула?
В пятне мутного света выплыла тучная фигура плутоньера.
– Я.
– Спал, сук-кин сын?
– Нет-нет, нет, домнуле… домнуле локотенент.
Загареску грозно поправил:
– Капитан.
– Извините… нет-нет, домнуле капитан, не спал.
– Принеси немедленно ключ от ворот. Партия отправляется на вокзал…
– Изви-и…
– Молча-а-ать!
– Пароль? – воскликнул плутоньер.
Загареску подошел к нему вплотную и, укутывая лицо офицерским шарфом, прошептал:
– Рени.
Плутоньер вытянулся перед ним в струнку и, сказав: «Слушаюсь», – помчался за ключами.
Загареску со своей необычайной наглостью даже не пытался вести себя осторожно, а, напротив, умышленно начал что-то очень громко насвистывать. Кто-то из партии прошептал ему, чтобы он вел себя потише. Ведь они так боялись. У них так бились сердца. А от этого свиста и от такой наглости Загареску сердце разрывалось на части и в голове шумело. Прошептали:
– Тише, Загареску.
«Офицер» резко повернулся и крикнул, на этот раз во весь голос:
– Молчать!
В этот момент из помещения выбежал плутоньер и звякнул ключами. Услышав грозный возглас офицера и желая услужить ему, плутоньер повернул свою голову на коротенькой шее в сторону темной массы и тоже гавкнул:
– Разговаривать?.. Зубы повыбиваю!
И, повернувшись к Загареску, заискивающе спросил:
– У домнуле капитана есть распоряжение от домнуле директора?
– Есть… Ступай, открывай.
– Домнуле капитан даст мне это распоряжение?
– Что-о-о?
– Простите… Инструкция… Приказ…
– Открой мне немедленно, хватит болтать. Получишь у меня распоряжение… Ну?
Плутоньер недовольно качнул головой и побежал к воротам. Партия тихо пошла за ним вслед. Часовой у ворот шагнул в сторону и терпеливо ждал, пока плутоньер откроет дверь.
Партия начала выходить из темных ворот на улицу. Загареску терпеливо ждал и лишь изредка кричал:







