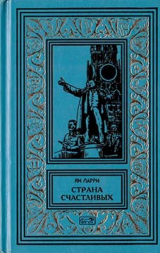
Текст книги "Собрание сочиннений Яна Ларри. Том первый"
Автор книги: Ян Ларри
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
Глава XVI
Отряд разогнали. У нас во дворе появились трехдюймовки и две сотни лошадей. В тот же день Акулов привел в казарму высокого красивого парня в длинной шинели.
– Отряд наш будет кавалерийским! А это – товарищ Краузе. Бывший офицер, а теперь наш военный руководитель или, короче говоря, военрук.
Офицер? Черт возьми, на этого стоило посмотреть. Ну-ка, ну-ка, что ты за птица? Я с любопытством впился глазами в выбритое до синевы лицо, которое, против моего ожидания, было лицом славного парня, любящего и пошутить, и разные штуки веселые выкинуть.
Офицер пристально смотрел на нас. Серые выпуклые глаза его немного щурились и как будто слегка посмеивались.
– Товарищ Краузе – доброволец! – сказал Акулов. – Такой же, как мы все. А сам из студентов.
– И член партии, – просто сказал офицер. – Я думаю, мы быстро освоимся.
Мы переглянулись. И, кажется, каждый спросил глазами:
«Офицеру-то чего надо в партии?»
Краузе перехватил наши взгляды.
– В партии я с февраля. Был арестован при Керенском. Во время взятия Зимнего дворца ранен. Верите теперь?
– Верим! – дружно крикнули мы.
Акулов улыбнулся:
– Вот и познакомились.
* * *
Во дворе поставили стол. Лист бумаги лежит, придавленный сверху наганом. За столом сидит Краузе. Голову он склонил немного набок; в зубах папироска. Дым тянется к глазу, и этот глаз щурится, затягивается морщинками.
Мы подводим к столу лошадей, смотрим на военрука.
– Ну-ка, поверните! Так! Поднимите ей голову. Проведите. Теперь можете ее передать кашевару. Не годится.
Как, черт возьми, не годится? Такой аховый конь и не годится.
– Чего ж так?
– Плох конь! Для кавалерии не годится!
– Почему?
– Наливы на ногах!
Краузе встает и тычет рукой, в которой зажат коробок спичек, на подкожные шишки, покрывающие сальцевые суставы ног.
– Плохой конь… Следующий!
Евдоха подвел к столу роскошного белого жеребца.
– Вот конь, товарищ! – восхищается Евдоха.
– Убери его подальше! – замахал руками военрук.
У Евдохи дрогнули веки.
– Такого коня?
– Да, такого белого коня, которого видно на сто верст и которого даже ночью не спрячешь.
Самые красивые и самые крупные лошади почти все были забракованы военруком.
– Не годится! Обратно!
– Почему?
– Спина прогнута! Слабый конь! Ну, еще и копыта, смотрите, в трещинах. Нет, нет, не годен конь.
– Неужто и этот вот!..
– Шея коротка, ноги толсты! Не годен! Сырой конь! Вы на красоту коня смотрите, а красота не нужна кавалерийской лошади. Строевой конь должен иметь длинную шею и высокую голову. Ноги выбирайте сухие и чуть-чуть отставленные назад. Зад должен быть длинный и широкий.
Мы выбрали коней снова, но и тут многие не угадали. Около десятка лошадей было со шпатом, с подлопатником, с «козинцем» и саблистыми ногами. Впрочем, выбирать уже было не из чего. Некоторых не слишком порочных лошадей пришлось оставить в строю.
– Не беда! Сойдет!
Отобрав лошадей, мы начали придумывать имена.
– Звездочка!
– Ярославец!
– Штукарь!
Военрук покачал головой:
– Названия коней должны начинаться с одной буквы. А так как здесь мы первая кавалерийская часть, то начнем с буквы А. Пусть каждый придумает своему коню название. Ну? Начинайте крестить. Подходите к столу за метриками.
Со смехом красногвардейцы потянулись к столу, держа лошадей под уздцы.
– Адъютант! – закричал «Всех скорбящих», подводя буланого коня.
– Дальше!
– Арап! – гаркнул Попов.
– Следующий!
– Анчутка!
– Что это за штука?
– А так просто! Анчутка, и все тут.
– Так и запишем. Следующий!
– Аналой!
– Ну куда такого?..
– Тогда… а… а… а… Арбуз.
– Есть Арбуз! Дальше!
– Адиёт!
Краузе захохотал:
– Зачем же коня-то обижать? Коня любить надо.
– Ну… Амбар!
Качая головой, Краузе записал коня Волкова Амбаром.
– Следующий!
– Афанасий!
– Может быть, назовем Аляской. Кобыла у вас?
– Аляска так Аляска. А между прочим, кобыла.
– Следующий!
– Анчоус.
– Дальше!
– Акробат!
– Следующий!
– Апрель.
– Следующий! Следующий!
Кавалерийская наука оказалась куда сложнее, чем мы это предполагали.
– Вон она, брат, – удивлялся Евдоха, – тут, пожалуй, скорее обезьяну выдумаешь, прежде чем гарцевать станешь.
– А ты думал сразу, да и казака переедешь.
Впрочем, мы не горевали долго.
– Не боги горшки обжигают! Научимся!
* * *
Началось обучение седловке. Краузе, показывая нам, как седлать лошадь, поучает.
– Во-первых, – растягивая слова, цедит Краузе, – все части сбруи должны быть чисты, мягки и хорошо смазаны жиром. Сбруя должна лежать на коне так же незаметно для него, как лежит на вас рубашка. Седло надевать следует, пригоняя его по шерсти. Вот так. Полицы седла ложатся вместе с потником, не нажимая на хребет лошади. Передний край потника держи на ладонь от холки. Вот так.
– А почему на ладонь?
– Ну, а как бы вы положили седло?
– По мне все равно!
– А для лошади это далеко не все равно. Если вы вперед подадите седло, оно начнет набивать холку, а если назад передвинете, – оно ляжет на почки лошади и тогда ей будет тяжело нести всадника. Теперь смотрите сюда. Я затягиваю вот эти ремни. Они называются подпруги. Тут также следует принять кое-что во внимание. Подпруги не должны стеснять дыхания лошади, но не должны они сидеть и слишком слабо.
– Почему?
– Потому что седло свалится вниз, к животу лошади, а всадник слетит с лошади на землю… Я подтягиваю переднюю подпругу. Вот так. Теперь вталкиваю сюда палец. Туго? Туго. Палец еле-еле проходит между подпругой и животом. Значит – затянуто хорошо. Подтягиваю среднюю и заднюю подпруги. Хорошо затянуто? Попробуем… Входят три пальца!
– Плохо! – кричим мы.
– Неправда! Два-три пальца для средней и задней подпруг вполне достаточно. Теперь осмотрим коня еще раз. Ну-ка, не трут ли пахвы репицу? Как будто не трут. А можно ли подсунуть кулак между бляхой и грудью лошади? Можно, как видите. Проверим стремена. Посмотрим, одинаковой ли они длины?
Он вскакивает на оседланную лошадь и привстает в стременах.
– Глядите, товарищи!
Просунув кулек между ног и седельным троком, он кричит:
– Видите?
* * *
Знакомиться с кавалерийскою наукою приходится урывками. Помимо изучения ухода за копытами, кормления лошадей, их болезней, ковки и других замысловатых штук, мы несем гарнизонную службу, охраняя учреждения и банки, дежурим на станциях, вылавливаем спекулянтов, ходим по домам, отбирая оружие.
Нам дано задание: прекратить стрельбу по ночам, и мы шлепаем по городу, разыскивая винтовки и револьверы, стрельбой из которых скучающие граждане развлекаются в неурочное время.
С ордерами исполкома мы стучимся в сонные дома, входим в квартиры, спрашиваем:
– Вы уже сдали оружие?
– Мы? Оружие? Да у нас и гвоздя-то в квартире нет. Ножи и те тупые.
Во время обыска извлекаем из сундука пулемет.
– А это что?
– Это?.. Понятия не имею! Наверное, ребятишки затащили откуда-нибудь.
– А вы?
– Я?.. Понятия не имею!
– Не знаете, что это пулемет?
– Пулемет? Фу-ты, боже мой! Не иначе как соседи по злобе подкинули.
В одном дворе мы нашли горное орудие.
– Зачем оно вам?
– А бог его знает! Оставили какие-то солдаты и ушли.
К утру мы возвращаемся, нагруженные бомбами, пулеметами, винтовками, револьверами.
Стрельба в городе прекращается. За ночь выпускается на луну не больше тысячи патронов; в разных концах города взрывается не больше десяти гранат, и только ракеты, взлетающие в темное небо, говорят о том, что где-то идет попойка и остатки «славной царской армии» уничтожают остатки огневого имущества.
Однажды, возвращаясь после обысков, мы были остановлены неожиданной картиной. Перед воротами трехэтажного дома на Петропавловской улице стояла кучка пьяных, пуская в темное небо ракеты.
– Вы, граждане, чего тут?
– Мы-то? А мы куме ф-фронт показываем. В-в-видал? Кума-то, она н-н-не п-понимает многого, а м-мы об-б-бъ-ясняем. Ты, кума, смотри! Вот он п-п-пускает, а м-м-мы ползем. А к-как з-засвестится – м-м-ы ложимся.
– Ступайте спать, граждане! Ракеты, поди, денег стоят, а вы их портите.
– Р-р-ракеты? Н-н-н-не запретишь! Р-р-ракеты я самолично в-в-во время братанья с-спер. У-у-у н-немцев. Взял, да и спер. Н-на память. Д-да их и осталось д-два десятка.
– Можно ракеты пускать или нельзя?
Мы устраиваем совещание, но ни к чему не приходим.
– Р-ракеты, б-брось! Р-ракеты н-н-не имеешь права! – орет сзади пьяный голос.
Голубые меланхоличные колокола ракетного света освещают нам дорогу.
* * *
Самая паскудная работа – это обыск поездов.
Пользуясь тем, что за проезд по железной дороге не надо теперь платить гроша ломаного, Россия катается из одного города в другой, волоча за собой туго набитые мешки с продовольствием. Спекулянты в солдатских шинелях везут масло, муку, сахар, окорока и разную снедь. А в это время рабочие заводов и трудящееся население не имеет корки хлеба. Больные и раненые в госпиталях умирают с голоду.
Спекулянты подрывают снабжение Республики советов, но… среди спекулянтов можно встретить и рабочих, которые везут для себя и для своих семейств необходимые продукты питания.
Как отличить спекулянта от нуждающегося?
Нам говорят:
– Понимай… Сумей разбираться. Пролетария не трогай.
Но вся беда заключается в том, что спекулянта трудно отличить от пролетария. Если бы рыжие они были…
Мы «отбираем». Мы знаем, что спекуляцию нужно прекратить. Но… отбирая, приходится смотреть на слезы и слышать вопли. Нелегкое дело. Мы злимся, ругаемся в поездах, мы нарочито стараемся показать, что мы равнодушны к слезам, но в душе у каждого из нас шевелится сверлящая мысль:
– Скоро ли наладится все это?
Мы сами несем в лазареты отобранное масло, муку, сахар и другие продукты, и нас примиряет с нашей работой та радость и благодарность, которую мы встречаем в госпитальных палатах:
«Спасибо, товарищи!»
– Спасибо, хоть вы заботитесь!
– Без вас бы с голоду подохли.
Но все-таки лучше было бы отдать руку или ногу, чтобы только жизнь вошла скорее в сытую колею. Иногда мы начинаем строить с Васей фантастические планы.
– Хорошо бы найти склады с хлебом. Но только большие. Чтобы на всех хватило. На всю Россию.
– А что, брат? Возможная вещь. Да так оно и есть, пожалуй. Знало ведь царское правительство, что воевать будет, ну и наготовило, наверное… Поди, лет на пять запасено.
– Эх, открыть бы!..
Глава XVII
Крестьяне перестали обменивать хлеб на вещи.
– Все есть теперь. Слава богу, достаточно. Проходите себе с богом.
В деревни направились за хлебом продотряды, а вместо товаров повезли с собою винтовки. В ответ на это кулаки подняли восстание.
Страна превратилась в фронт.
Как-то вечером к прибывшему из Москвы поезду прискакали на взмыленных лошадях крестьяне, без шапок, в одних рубахах.
– Православные! Кто в Бога верует – спасайте.
Обливаясь слезами, толсторожий парень рвал на себе рубаху и орал:
– Грабят! По миру пускают! Подчистую метут!
– Да что ты хочешь-то? – крикнул из вагона матрос.
Тогда загалдели все:
– Продразверстка…
– Оружью дайте…
– Подчистую…
– Забрали все…
– Оружью просим…
Матрос закурил папироску.
– Как же так подчистую? Оставили ж до новины-то?
– Товарищ, дорогой, – заплакал толсторожий, – да это рази оставлено? Эта с голоду подохнешь. Се равно, что цыпленкам покрошили.
– Мало! – высунулась худая, похожая на покойника женщина. – А мы-то как же сидим? Восьмушку кусаем! Да и хлеб посмотрели бы… Одно названье, что хлеб.
– Напрасно, отцы, бузите, – сплюнул матрос, – мы терпим, надо и вам терпеть немножко. Куда ж нам идти за хлебом? С голоду ведь дохнем.
– Ну и сдыхайте!
– А вы что ж, – спокойно спросил матрос, – лучше нас? Вы будете сидеть задницей на хлебе, а мы зубами щелкать? Раз вместе пошли, значит, и дели все вместе: и горе пополам, и веселье поровну.
Мужики зашумели. Они что-то доказывали, ругались, плакали. Они метались, коренастые, краснощекие, в толпе зеленых и бледных, но сочувствия не удалось им добиться.
– Не помирать же нам! – упрямо твердили зеленые и бледные.
– Будем уж вместе горе хлебать.
– Но, братцы, – стонал толсторожий парень, – но дайте ж вы мине оружью. Дайте, просю я вас слезно.
– На что тебе оружье?
– Братцы мои! – мотал головой толсторожий. – Нет мине жизни больше… Не могу я несправедливость когда…
Матрос поднялся в окне вагона и расстегнул штаны.
– На тебе оружью! Стреляйся!
Толсторожий рассвирепел. Дико визжа и топая ногами, он начал хлестать перрон вокзала кнутом.
– Ишь как разбирает борова, – выступил вперед станционный сторож. Подняв вверх корявый палец, он ткнул им в сторону крестьян и сказал: – Про между прочим, известные это мне люди. Из недалекой отсюда деревушки Загарье. Ну и между прочим, вот эти трое – самые и есть кулаки, а этот, что пляшет, – сынок подрядчика Копылова. Лупите стервецов в мою голову. Бей сплотаторов! Отвечаю!
Перекрестившись, сторож саданул толсторожего парня по затылку.
* * *
Мы становимся заправскими кавалеристами. Мы знаем теперь, что садиться на лошадь надо с левой стороны и в три приема. Вскочив в седло, мы с небрежным видом, как будто все это давно уже нам надоело, пропускаем левый повод между мизинцем и безымянным пальцем, а правый повод между указательным и средним пальцами левой руки. Вначале пальцы путались и не хватало третьей руки, но теперь мы правильно возьмем поводья даже во сне.
– Проверить стремена! – командует Краузе.
Мы вытягиваем ноги вниз. Смотрим. Нижний край стремени у щиколки. Стремена подлажены правильно.
Краузе стоит на поленнице. Мы рысью проезжаем мимо.
– Посадка! Посадка! – кричит Краузе. – Подать корпуса вперед! Сильней упирайся коленями!
Лошади фыркают, бренчат сбруей.
– Эй, на поворотах! Правым шенкелем! Правым! Волков, корпус!
* * *
От езды без стремян у всех у нас растерты седалища. Нижнее белье прилипает к телу, и, когда приходится раздеваться, белье отдираешь с кровью. О кровяных задах не говорят. Все стараются делать вид, будто никаких особенных изменений не произошло, а ночью, кряхтя и скрипя зубами, шарят руками под шинелями, смазывая ссадины разными мазями.
– Что, натерло? – злорадно хихикает сосед.
– Ты бы сначала сам руки помыл, – огрызается спрошенный, – руки-то, поди, все изгвоздал в мази. Не видал, думаешь, как шпаклевался?
Евдоха интересуется более объективно:
– Все ли пострадали?..
Я не сознаюсь.
– А мне хоть бы что! – отвечаю я Евдохе.
Засыпая, я слышу сквозь сон:
– Вольт направо. А-а-а-а а-арш. По-овод. Рысью… а-а-арш.
И во сне беру барьеры, рублю лозу и делаю «ножницы». Мой конь – гнедая кобыла Амба – теперь узнает меня.
Когда я подхожу к ней, она шарит теплыми ноздрями по моему лицу и тихонько и ласково ржет. Я отдаю ей половину пайкового сахару. Похрустывая сахаром, Амба смотрит умными, человечьими глазами, трясет головой.
Я уже немножко понимаю лошадиный язык. Это означает:
«За сахарок спасибо. Ты, парень, как видно, ничего. Во всяком случае я пока довольна тобой».
* * *
Отряд наш пополнился. После новой вербовочной кампании к нам влилось сорок пять человек. Большинство – рабочие остановившихся заводов, молодые ребята, большевики.
Наш отряд, по словам Евдохи, «насквозь большевистский, за неполным исключением».
На 105 большевиков – беспартийных только двое: монах «Всех скорбящих» да вновь прибывший, пожилой рабочий Агеев, решительно отказавшийся вступить в партию.
– Ну и мудрец, – удивляется кочегар Маслов, – в Красной гвардии состоит, а к партии боком стоит.
Агеев, суетливый старикашка, смотрит на Маслова широко расставленными глазами, как бы желая сказать:
«Ну, ну, болтай, болтай. Поболтаешь, а потом я тебе скажу такое, что тебе и крыть нечем будет».
– Малахольный ты, папаша! – говорит Маслов.
– Малахольный и есть! – поддерживает Попов.
Агеев усаживается поудобнее, поджимает под себя ноги; вытянув указательный палец в сторону кочегара, моргает выкаченными глазами:
– Вот вы говорите, малахольный я! А если, к примеру, жизнь в тупик загоняется, как тогда поступать? А если я в тупике жизни состою, могу я иметь веселость?
– Мы не про веселость! Мы про партию!
– Это все одно!
– В партию почему не хочешь?
– А вот я и скажу. История у меня не длинная, но вы сами скажете: могу я в партию или не могу я в партию.
Вытянув тоненькую папироску из кармашка, Агеев стучит мундштуком по ногтю, затем, зажимая огонь в кулак, прикуривает и, пуская клубы дыма, размахивает обгорелой спичкой.
– Расскажу я для вас, молодежи, как работал я на Гальферих-Садэ в Харькове, но так как это, между прочим, к делу не идет, а преподносится вроде начала, – скажу о Саньке. То исть работал я с Санькой два года, и даже станки рядом стояли, а уж выпить обязательно вместе ходили.
Ну, слышу – стучат ко мне ночью. Жена толкает: стучат, говорит. Что ты, думаю, стряслось такое. Что, думаю, за чертоплешина. Но штаны все-таки надел наспех и выбежал к воротам. Смотрю – сторож. А глядит на меня подозри-и-и-ительно. До чрезвычайности. И рукою показывает:
– Вон, – грит, – гостей принимай.
Вижу и впрямь – сидят на извозчике несколько гостей и промежду ними – Санька.
– Ну, – говорит он мне, – выпить мы к тебе приехали… Да ты, – говорит, – не бойся – водку с закуской привезли. Сомнений у тебя не должно быть.
– Что ж, – говорю, – приехали так приехали, а только для товарища у меня двери и днем и ночью открыты… Пожалуйте в хату, потому у ворот рассусоливать нам никакого резону нет.
А тут и те двое, что приехали с ним, повылезали и тащат они за собой какие-то кулечки да бутыленции всяких размеров.
Между прочим, должен сказать вам: был я в ту пору очень большой охотник до голубей и самая голубятня стояла у меня под крыльцом дома, а как Санька Погорелов был мой друг и имел с моей стороны доверие и уважение за революционно смелую душу, то Санька очень хорошо знал ходы и выходы в голубятне. И как отворялась она потайным запором, и все другое.
Смотрю, не успели мы взойти на крыльцо, как Санька чевой-то до голубятни кинулся и запор, гляжу, открывает.
– Чего дуришь? – это я его спрашиваю, а он мне и говорит:
– Молчи! – А сам тянет из-под полы сначала длинный ящик, а потом коротенький и сует это все в голубятню.
Только я раскрыл рот спросить, что сует он в голубятню, а меня уж его товарищи подхватывают под руки и эдаким вежливым манером в сени толкают.
– Идите, – говорят, – товарищ, и покажите нам, как пройти к вам, не разбив лбов.
Ну… Вижу, у ребят нет никакого желанья говорить своих секретов про ящики. Что ж, думаю, пусть будет как будет. Следом за нами и Санька вваливается, а сам, видать, под жестоким градусом плавает. Обхватил он меня руками и хохочет:
– Ну, дорогой хозяин, разлюбезный… А какую ж ты, сукин кот, закуску поставишь нам?
– Чем-нибудь да закусим! – отвечаю ему, а сам глазком поглядываю на тех двох, что с ним пожаловали. Ну, думаю, по всему видно: птицы важные.
А они себе посмеиваются да из кульков на стол всякую всячину выгружают. Посмотрел я – так меня слюной прошибло. Тут тебе и бутенброты, и вино всевозможного сорта, и кильки, и сардинки, и сыр, и ветчина, ну, одним словом, все, что только душе надо.
Ах, думаю, шут гороховой, навезли такое богачество, а сами спрашивают про закусон. Кинулся я к жене – все-таки, знаете, как-никак, а бабы – они способные на организацию закусить… Кинулся, значит, бужу: вставай, говорю, жена, – будем водку пить.
Вскочила баба – думает, сон не сон, а вроде и всамделишная выпивка. Затормошилась, забегала.
А как принялись за выпивон, так не заметили и часов времени. У пьяных известно: часы что небо – и есть и нет.
Однако, выпив несколько стаканов, я думаю себе: дай, мол, спрошу все-таки: что это за товарищи, приехавшие с Санькой.
Один из них на манер брюнета и к жене все время с тонкой обходительностью подходит, а другой самого подлого цвета – рыжеватенький такой – и все время в стакан ко мне подливает. Чую: не наши люди – не рабочие.
А кто такие – знать интересно.
– А что, – говорю, – товарищ Погорелов, ведь дело-то выходит такого рода: пью вот я с тобой и товарищами, а кто они такие будут и откуда, я даже ни в каком смысле не знаю.
Смотрю, гости переглянулись, ухмыльнулись да к Саньке.
– Представь, – говорят, – хозяину-то.
Санька раскорячился посреди комнаты французским кренделем, сделал ручку фертом и говорит:
– Это – друг Точкин, а это – Примочкин и обоих, как на грех, Василь Васильевичами зовут, а так как мы вскорости должны уехать, то прошу я тебя, товарищ Агеев, выйти со мной на двор и обсудить один очень важный вопрос.
«Что ж, – думаю, – если товарищ по станку просит выйти на крыльцо, то могу разве я отказать».
– Идем, – говорю, – выйдем.
Вышли мы во двор, сделали надобности, потом Санька берет меня за рукав и подводит к голубятне.
– Вот, – говорит, и вытаскивает оттуда запрятанные ящики, – здесь, в этом ящике, Ваня, браунинги, а здесь патроны… Понимаешь?
Как не понять? Отлично понял, и от его слов у меня аж волосы дыбом…
Виду ему не подал, пожал только плечами и отвечаю:
– Ну, что ж делать: раз привез, значит, дело конченное и хочешь не хочешь, а прятать надо.
Взял я лопату и – на скорую руку – закопал ящик в сарае, а утром, когда мои гости уехали, я вместе с женой перебрал теи ящики в яму свинюшника и не пожалел выгнать оттуда свинку, которую подарил мне один чудак.
Прошло таким манером дня три… Хожу я в эти дни, дорогие товарищи, с растревоженной душой, а на свинюшник даже глазом покоситься не смею. Ведь опасность на себя накладывал. Чужому человеку боюсь в глаза глянуть… Для царя ведь гостинцы-то припасены. Ясно ведь.
Сна лишился за эти дни, а дело-то пошло дальше.
Прихожу я как-то от тестя домой, а дома у меня кавардак полный: смотрю, комнаты не комнаты, а дым коромыслом и опять та же компанья, а у Саньки в руках громадный сверток.
Дрогнули у меня коленки при виде этого кулька и в голову мысли полезли.
«Ну, – думаю, – опять машинка… Опять прятать надо».
А Санька, как есть подшофе сильном, орет благим матом:
– Ва-а-аня, дру-уг, выпьем.
– Что ж, – говорю, – за бутылкой пошлю.
– Брось, – говорит Санька. И как почал кульки развязывать, так я себе сразу уяснил, какая в кульках церемония с градусами… Ну, скажу откровенно, пил я в свою жизнь, но так еще ни разу не упивалея… Свиньей сделался…
Помню, песни орал, целоваться лез и просил, чтоб взяли меня в партию буржуев истреблять.
Жена в слезы, а я ору как оглашенный:
Вся Россия торжествует.
Николай вином торгует.
А в самый пыл разгара берет меня под руку рыжеватенький Точкин и говорит:
– Спрятанное цело у вас, товарищ?
Но вот подумайте вы, как я ни был пьян, однако и виду не подал, что знаю о чем-то. Думаю, черт их знает, – может, испытанье хотят сделать еще, и отвечаю ему:
– Ничего не знаю, товарищ Точкин!
А он опять, и уже встревоженным голосом:
– Да вы только скажите: цело ли у вас?
– Не понимаю, о чем говорите!
– Да все о том же! – кричит он мне.
– Ей-ей не знаю… Вы, – говорю, – позовите Саньку Погорелова, потому без него я что-то плохо вас понимаю.
На разговор наш повернулся Санька и, разобрав дело, говорит мне:
– Ты не бойся. Если у тебя цело, так и говори – цело.
– Ну, – говорю, – если так, то цело у меня все до основания и лежит закопанным в надежном месте…
Теперь вы слушайте, какой конец-оборот получился из этого дела. Взяли они, значит, свои материалы и рано наутро поехали в неизвестном мне направлении. И что же вы думаете, – не прошло трех дней, как читаю я в газетах о поимке трех налетчиков-бандитов, при которых найдены два оцинкованных ящика с золотыми вещами и другими ценностями…
Читаю, а в глазах у меня – рябь и круги зеленые, а как прочел фамилию: Александр Погорелов, так в душе моей как будто какой клапан закрылся…
И ничего мне не дорого было, дорогие товарищи, но главное – обидно: почему свой же брат рабочий совершил надо мною такой постыдный обман?
Так с тех пор ни к какой партии не могу подойти близко.
– Партия-то при чем тут?
– Хоть и ни при чем, а не могу… Претит меня.
* * *
Вчера выехал на фронт последний красногвардейский отряд левых эсеров.
– Ну а мы? – спрашиваем мы командиров. – Солить будете?
– Э, бросьте! Гимназисты вы, что ли? Надо будет – поедете. А сейчас продолжайте свое дело. И вообще, если уедете на фронт, так в городе – в случае чего – ни одной воинской части. Вот сформируем новый отряд, тогда – валите.







