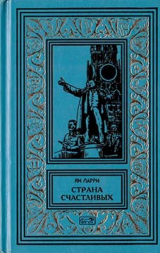
Текст книги "Собрание сочиннений Яна Ларри. Том первый"
Автор книги: Ян Ларри
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
Матрос, очевидно, смертельно скучал. Ему хотелось отвести в разговоре душу. Но мы не понимали этого. Вася сердился:
– Да что ты…
– Постой. Не лезь. Слушай, что говорю тебе… Ну, поставлю я такого сачка, как ты, на свое место. Сиди, скажу, и охраняй военный сон пятисот братишек. А ты пускать начнешь каждого. Какой же это порядок выйдет? Часовой на то и приставлен, чтобы мышь не проскочила мимо. А не то чтобы разные провокаторы… Какие такие свои?
– Ну, рабочие…
– Рабочие? – подозрительно оглядел нас матрос. Вид наш не внушал ему доверия. Он покачал головой. – По хлебу, что ли?
– Не по хлебу, а по станкам! – крикнул я, раздражаясь.
– Какие же, к примеру, станки? – недоверчиво усмехнулся матрос.
– А ну его – махнул рукою Вася, – идем, чего с ним разговаривать. Видишь, какой…
Матрос обиделся.
– Чего ж видеть тут должно? – запыхтел он.
– Ничего… По каким станкам, да кто, да что… Ну, а скажу я, так поймешь ты? Ну, токарь я. Ну. Понятно тебе? – вызывающе крикнул Вася.
– Токарь? – обрадовался матрос. – А мы это проверим в два счета. Токарь, значит, ты? От своих слов не отопрешься?
– Да ну тебя, – повернулся Вася.
– Заслабило. Бежать. Стой, токарь, пожди. Ну-ка, скажи мне, если ты токарь, для чего люнеты ставят?
Вася остановился.
– Да это каждый дурак знает.
– Ну, ну, скажи, – торжествовал матрос.
– Известно для чего. Чтобы изделия не прогибались.
– Знаешь, оказывается, – равнодушно сказал матрос, – ну, а это…
Он подумал немного и спросил:
– Под каким углом должны быть выточены центры станка?
– Ну, под 60 градусов.
– А куда резец вставляется?
– В суппорт.
– Так… А… А…
– Да что ты заакал, давай станем к станку, так я тебя за голенище заткну.
– Меня не заткнешь, – спокойно сказал матрос, – однако интересно все это…
Он замолчал.
– Так как же, – спросил Вася, – пропустишь?
– Не… Все равно нельзя. А если интересуетесь, как мы кадетов истопали, об этом пару слов можно сказать, поскольку я вижу в вас пролетариев. Это я как на ладони знаю. Сам проявил геройство. Меня по всему Петрограду знают. Ей-бо. Хошь, спроси любого из наших: Мишку Панферова знаешь? А кто же, скажет, не знает Мишку Панферова. Меня, братишки, все знают… Простой я очень… Вроде Ленина, к примеру сказать.
Он пригорюнился, задумчиво посмотрел на семечки, покрывающие широкую ладонь, и вздохнул:
– Из-за бабы я погибаю, братишки.
Он задумался. Втянув голову в плечи, он сидел, погруженный в грустные размышления, но его печальный вид как-то не вязался с его огромной фигурой. Казалось смешным и невероятным, чтобы этакий бегемот имел какие-то тонкие чувства. Вежливости ради мы также вздохнули и, по мере своих способностей, приняли грустный вид, а Вася сочувственно засвистел, покачивая несуразно большой головой.
– Н-да, – с шумом выдохнул воздух матрос. И, крутнув на голове бескозырку, захохотал. – Ну ж и били мы их, гадов. К юнкерскому подошли, а они, гады, залпами. Что ж, думаем, гадюки, не навоевались еще. Трудящихся истреблять. Кэ-эк жахнем с трехдюймовки! Пыль полетела столбом. Поползли они будто вши по гашнику. Сдались, конечно. Белым платочком помахивают. Мерси, дескать, мы больше не хотим. Не по носу табак. Тут и установилась советская власть. Разве можно осилить нас? Безусловно, братскую могилу битком набили жертвами революции, но, однако, и ихнего брата плотно утрамбовали… Видал? – приподнял матрос рубашку до горла. Весь живот и грудь его были забинтованы крест-накрест.
– А это видал? – отстегнул штаны матрос, показывая забинтованную ногу около паха.
– А это видал? – сдернул матрос бескозырку с головы, обнажая выбритый затылок с зеленым толстым пластырем.
– Семь ран, как одна копейка. Полный герой, можно сказать… Но только мне чихать. Я, братишки, простой. Ну пострадал, так пострадал. В чем вопрос может быть… За дело народа всегда с полным удовольствием, тем более раны – пустяки. Небольшой дефект, как говорила докторица.
Привлеченный необыкновенными действиями матроса, к нам подошел и остановился в нескольких шагах человек в хорошей шубе и бобровой шапке.
Матрос поглядел на него, медленно встал со стула и, широко расставляя ноги, раскачиваясь, пошел на человека. Ни слова не говоря, он сбил с человека шапку и наступил на нее ногой.
– Ты чего, абрикос, подслушиваешь? – грозно спросил матрос.
Человек в шубе побледнел.
– Какого званья?.. Буржуй?..
Тот растерянно замигал глазами. Тогда матрос приподнял шапку с земли и подал ее человеку в шубе.
– Смотри у меня! – пригрозил матрос пальцем. – Чтоб я тебя не видал больше. Конец вашему режиму. Забывать надо. Иди себе своей дорогой, да не оглядывайся, провокатор.
Человек в шубе бросился бежать. Матрос как ни в чем не бывало сел на стул.
– Непуганые они еще у вас тут. В Питере, однако, сидят и ни гугу. Работать не хотят. Саботаж устраивают, а в шляпы расфуфырились. Хотя, промежду прочим, мы быстро отучили их от шляп да от пинсне разных. Хохоту что было! Идем по Невскому, а буржуи, будто прорвало их, один за другим, один за другим. Бегут, стервецы, и в ус себе не дуют. Будто и никакой революции не было. Ну, до чего же мне обидно стало. Что ж, думаю, за то меня растерзали, чтобы насмехаться надо мной? Бац одного по шляпе. За что? Не ходи, говорю, босиком. Ребята уговаривают: брось. Нет, говорю. Бросать тут нечего. Раз теперь наша власть, пусть гады чувствуют. А то выпялились. Галстуки понадевали. Я ли, не я ли – буржуй. А как же, говорю, при старом режиме не допускали меня в моем костюме ни в хороший ресторан, ни куда больше? Пошел это я в театр. Так что ж, гады, ведь не пустили. Вы, говорят, сначала оденьтесь, а в таком виде – невозможно. Ну, я их и одел. Мы, говорю, вас заставим из-под крана воду пить. Гады, губошлепы. Ну, безусловно быстро обучил некоторых.
Разговаривая, матрос крутит на голове бескозырку.
– Попался абрикос тут один. Заступаться полез. Нельзя, говорит. Это не обязательно буржуй, если в шляпе. Может быть, это такой же угнетенный служащий. Не важно, говорю, успокойся, говорю, братишка. Раз он под буржуя работал, пускай теперь меня уважит. Не шляпу бью, обиды выколачиваю…
И вдруг обратился к нам с вопросом:
– Квартиры-то вы заняли буржуйские?
Мы переглянулись.
– Н-нет…
– П-фа! – фыркнул матрос. – Какая же у вас отсталость!! Сказано: мир – хижинам, война – дворцам. В подвале живете?!
– Ну, в подвале…
– Дурачье!
Матрос встал и поддернул штаны.
– Где тут буржуйчики главные? – оглянулся он по сторонам.
– А черт их знает… Жандарм, кажись, какой-то живет вон в этом доме. На втором или на третьем этаже.
– В котором? – спросил матрос, застегивая бушлат.
– А вон, – кивнул Вася на угловой дом с зеркальными окнами.
Матрос передвинул кобуру с револьвером на живот.
– Айда, братишки. Прощупаем.
С этими словами он взял нас под руки и потащил за собой.
– Постой, – освободил я свой рукав. – А если провокатор с бомбой? Ты же, говоришь, часовой.
– Чего это? – удивился матрос. – Ну и плешь. Кто ж, ты подумай, к братишкам на хазу полезет?
Увлекаемые матросом, мы пересекли улицу, прошли несколько шагов по тротуару и остановились перед богатым подъездом.
– Айда! – запрыгал матрос по ступенькам.
По светлой широкой лестнице, сияющей чистотой и ярко начищенными медными перилами, мы вбежали на второй этаж.
– Стой!
Перед глазами сверкнула вделанная в толстый войлок медная дощечка с витыми, прописными буквами.
А. П. Конухес
– Конухес, – прочитал матрос. – Буржуй. Ясно.
Он нажал кнопку звонка. Резкий звонок затрещал за плотными дверями, и тотчас же послышались чьи-то шаркающие, торопливые шаги.
– Кто? – спросил мужской голос за дверью.
– Конухес проживает у вас? – вежливым голосом осведомился матрос.
За дверью загремел засов. Ручка перевернулась. Дверь слегка приотворилась. Встревоженное бородатое лицо высунулось в полуоткрытую дверь.
– Это вы и есть Конухес? – нахмурил брови матрос.
– Я Конухес! – ответил недоумевающий бородач.
– Так… Вы как же это?.. Из каких будете?
– Я?.. Художник! А что?
– А-а! – разочарованно протянул матрос. – В таком разе прикройте дверь.
Дверь захлопнулась.
– Идем, братишки, тут либералы живут. Они безвредные.
Поднялись этажом выше.
– Звони в эту!
Вася нажал кнопку. Звонка мы не услышали. Тогда позвонил матрос. В гулкой тишине послышались твердые, уверенные шаги. Дверь открылась. Перед нами стоял высокий, крепко сложенный мужчина. Лицо его было суровым. Орлиный нос висел над кольцами пышных усов. Досиня выбритый подбородок упирался в твердый стоячий воротник военного мундира без погон. Пронизывающие серые глаза спокойно глядели на нас.
– Тэк-с, – сказал матрос, переступая порог. – Проходи, братишки.
Мы вошли в темную переднюю. Матрос, закрыв за собою дверь, пошарил по стене.
– Где тут у вас зажигается?
Хозяин включил свет.
– Тэк-с! – снова сказал матрос и сдвинул бескозырку на затылок. – Провокатор? – спросил он, осматривая военного с головы до ног.
Хозяин пожал плечами.
– Давно состоите в жандармах? – вежливо кашлянул в руку матрос.
Хозяин сунул руку в карман. Матрос перехватил ее в локте.
– Это оставить надо! Дайте-ка сюда!
Сунув другую руку в карман хозяина, он вынул блестящий браунинг.
– Как фамилия?
– Ружицкий! – процедил сквозь зубы военный.
– Жандарм?
– Жандармский ротмистр! – И скрипнул зубами. – Да ты же, каналья, знаешь… Веди, куда надо…
– Я все знаю! – спокойно ответил матрос. – А вести тебя некуда. Сам должен удирать. Не в бирюльки играем… Понимать надо. Раз революция – провокаторы должны скрываться! Или правил не знаешь? Учить тебя?
– Много чести – бегать от всякой сволочи.
– Герой! – покачал головой матрос. – Один живешь или как?
Жандарм закусил в бешенстве губу.
– Ну, ну, гордый какой! – примиряюще сказал матрос. – Однако посмотрим. Показывай нам квартиру свою, провокатор.
Он выпростал наган из кобуры и ткнул жандарма дулом в бок.
– Ну, ну, не прохлаждайся. Возиться с вами…
Пожав плечами, жандарм повел нас по комнатам, печатая твердые шаги по линолеуму. Мы обошли светлую, богато обставленную квартиру и опять вернулись в переднюю.
– Ничего хаза! – похвалил матрос. – С толком тратили провокаторы рабочую кровь. Однако где фуражечка твоя?
Жандарм молча надел шинель и фуражку. Матрос открыл широко дверь.
Мы стояли в широкой полосе света, с любопытством разглядывая жандарма. Был он выше нас на голову, дороден, холен и чист, но глаза его теперь уже не смотрели спокойно. Они встревоженно бегали в глазных впадинах, как бы стараясь укрыться, уйти вглубь, загородиться от нас ресницами. Так мечется злобная крыса, окруженная со всех сторон, припертая к стене.
Слабость и ужас, охватившие жандарма, и сознание собственного бессилия сквозили в каждом его движении. Жандарм тускнел, серел лицом и как бы таял на наших глазах. Он ждал. Тогда стоящий полосою свет колыхнулся серыми тенями.
– Во-он, – неожиданно затопал ногами матрос.
Жандарм, вздрогнув, втянул голову в плечи и, как бы защищаясь, поднял руки вверх.
Матрос захохотал:
– Ну ж, гад, подлюга! Думает, вдарю я его. Иди, гад, свободно! Об такое дерьмо не стану руки поганить. Три года после в бане не отмоешься. Пошел!
Жандарм кинулся к дверям.
– Держи его! – крикнул вдогонку матрос.
Каблуки затрещали по лестнице. Хлопнула внизу дверь, и все стихло.
– Драпанул! – усмехнулся матрос, почесывая в затылке, и зевнул. – Всякая ведь погань охоча до жизни. Как это в библии написано: каждая тварь дышать любит. Ну, однако пойду спать.
И тут мы увидели смертельную усталость на лице матроса. По всей вероятности, давали знать о себе раны, а может быть, просто долил сон.
– Живите, братишки! – протянул руку матрос. – А я покемарю пока.
И, подтянув еще штаны, он ушел, напевая под нос, оставив нас в пустой квартире.
Мы переглянулись.
– Клево?
– Клево-то клево, – сказал Вася, – да только надо будет спросить у товарища Зорина… Может, не полагается так…
– Спрашивать тут нечего. Он знает порядки. Видать, в Питере настропалился.
– Так-то оно так, но лучше спросить все-таки.
– Ну, спросим.
Отыскав ключ, мы заперли квартиру и пошли в совет.
* * *
Бывший губернаторский дом гудел от неистового людского шума. По коридорам бегали взад и вперед вооруженные рабочие с красными повязками на рукавах. Несколько человек шли гуськом, один за другим, волоча на плечах, точно дрова, груды винтовок. Под лестницей сидел здоровый дядя в полушубке. Он выстукивал на пишущей машинке и качал недоуменно головой: не то он удивлялся мудрости человеческих мозгов, устроивших эту машинку, не то осуждал сам себя за неумение ею пользоваться.
Туманы табачного дыма висели во всех комнатах. В дыму стояли кричащие и ожесточенно жестикулирующие люди. Лежали на полу вооруженные рабочие.
То из той, то из другой комнаты выскакивали бледные, с красными глазами люди и, оттолкнув нас, бежали дальше, высоко поднимая над головами бумажки.
Остановили в коридоре заспанную барышню.
– Товарищ Зорин в какой комнате? – спросил Вася.
– Там…
– Где это?
– Напротив… Дом предводителя дворянства.
* * *
Мы застали товарища Зорина между столом и телефоном. Он как бы висел в пустом пространстве, одновременно разговаривая по телефону, подписывая бумаги и с помощью жестов объясняясь с рабочими, обступившими стол.
– Что? Что? Это о чем? Да, да, я слушаю… Не Афанасьев, а Афонин! Что же вы пишете? Да, да… Поздно, поздно. Что? Ну, да. А, все равно. Сойдет. Где это? Что? Сейчас пришлем. Торопись, Кочин! Ждут ведь.
Вася протянул руку. Товарищ Зорин ткнул в Васину ладонь пером.
– Да, да… Подожди, Котельников… Ты мне нужен. Да слушаю же. Что вы там на самом деле… Сыпь, сыпь, Кочин. Автомобиль внизу… Да, да. Эту переписать. Я слушаю, слушаю.
– Это председатель нашего партийного комитета, – шепнул мне Вася на ухо.
– Да, да… Где? Банк? Сейчас пришлем… да… Давай, давай… Ты, Котельников, мобилизуешься… Что? Ну, да. Давай дальше. Возьми винтовку… Что? Я, я… Пойдешь банк охранять… Что? Уже, уже.
– Один вопрос только! – зашептал Вася. – Тут жандарм один. Так матрос его выселил. Матрос говорит – выселять буржуев.
– Прекрасно, так и сделаем… Что? Жандарма задержать! А с Ивановым говорил? Ну, ну.
– Так как же? – спросил Вася. – Матрос говорит – квартиру занять.
– Какие матросы? Отправили ведь уже. Да слушаю я, черт побери. Что? Матросу квартиру! Дать квартиру! Кто? А-а. Ну-ну. Иди же, Котельников. Винтовки в соседней комнате.
* * *
– Ну, как ты его понял? – спросил Вася.
– Что ж… Понимать тут нечего. Говорит отчетливо.
– Я тоже так думаю! – сказал Вася.
Мы вышли в соседнюю комнату.
За круглым столом, положив головы на руки, спало несколько человек. Большой чайник стоял на столе, окруженный грязными стаканами. Сзади, в углу, точно снопы, стояли винтовки, упираясь штыками в золотистые закопченные обои.
– Пойдешь со мной? – спросил Вася, направляясь в угол.
– Пойдем!
Вася вытащил две винтовки. Одну передал мне, другую положил себе на плечо.
Глава X
На улице перед банком бесновалась толпа чиновников. Они напирали на рабочих, стоявших у подъезда банка, стараясь проникнуть внутрь.
– Я требую! – визжал сухолицый старик в огромной чиновничьей фуражке. – Вы не смеете! Я буду жаловаться!
Опираясь на винтовки, рабочие стояли спокойно, посматривая по сторонам. Они точно не замечали этой толпы, и, когда к лицам их подпрыгивали костлявые кулаки, выскакивающие из белых манжет, рабочие потихоньку зевали, закрывая ладонью рот.
Мы протискались вперед. Рабочие, ни слова не говоря, полуоткрыли дверь и, пропустив нас, быстро закрыли ее.
Мы вошли в вестибюль.
Перед широкой, ослепительно сверкающей лестницей с пристегнутым к ступеням красным ковром стоял стол с большим дымящимся чайником на середине. Шесть человек, поставив винтовки между колен, сидели, попивая с блюдечек горячий чай. Ломти хлеба и горка сахара лежали на газете, подмоченной водой.
При нашем появлении горбатый человек поставил блюдечко на стол и рукавом вытер редкие усы.
– От Зорина? – спросил горбун сердитым голосом.
– Угу!
– Чай пили?
– М-м-м… Не мешало бы, конечно…
Горбун кивнул головой, приглашая нас сесть.
– Дело такое, товарищи, – сказал он, когда мы налили стаканы. – Интеллигенция категорически и решительно не идет на работу, как нужно. Жестокий саботаж.
Один из сидящих с шумом поднялся из-за стола, подошел к лестнице и положил шапку на нижнюю ступеньку, затем лег на пол и, вытянув ноги к столу, моментально захрапел.
– Формально мы не можем заставить их работать, – продолжал горбун, – хотя формально они получили деньги за полмесяца вперед. Но не в этом вопрос. Они доказывают нам. Хотят доказать, что неумытый рабочий у них на поводке должен ходить, а они распоряжаться будут.
– За то мы кровь проливали, – буркнул мой сосед.
– Они нам доказывают, – продолжал горбун, – ну и черт с ними. Не клином свет сошелся. Не хочешь – не неволим. Но тут какая загвоздка. Безусловно, запоремся мы на первых порах, но не в этом дело. Загвоздка тут такая. Они себе думают, ихний это банк. Вот ведь что!
Вчера вот пришли тут и ключ унесли от кассы. Один книги попер. А книги, может, нужные. Вы смените сейчас хлопцев, а в случае разговора объясните… Дескать, вывешен приказ приходить на работу завтра, а сегодня впуску нет. Дескать, зачем ключи уперли от кассы. А в общем, лучше молчите.
* * *
Мы стоим, охраняя банк.
Я держу в руках винтовку, устройство которой для меня представляет непостижимую хитрость. Я даже не знаю, заряжена винтовка или нет, не знаю и того, где помещаются в ней патроны. Вася Котельников, кажется, знаком с винтовкой так же, как и я.
Мы стоим перед злобными лицами.
Они открывают рты, кричат, требуют «вызвать начальника».
Старик с прыгающим пенсне на носу, брызжа слюной в мое лицо, кричит:
– Я требую… Слышите? Сейчас же…
– Чего ж ты требуешь? – интересуюсь я.
Толпа чиновников моментально стихает.
– Я требую, – оттопыривает дрожащую губу старик, – сейчас же… впустить меня к моему столу… И прошу не тыкать. Щенок!
– Нельзя, старая собака. Не велено.
Дикий вой покрывает мои слова. В нестройном, злобном шуме голосов я слышу выкрики:
– Мерзавцы…
– У меня в столе золотые часы…
– А я, может быть, бриллианты оставил…
– Хамы!..
– Узурпаторы.
Вася толкает меня ногой:
– Брось.
Но мне жалко «бросить». И как можно «бросить», когда вот здесь, передо мной, стоят толпой мои бессильные враги? Злобная радость распирает меня. Я готов реветь от счастья, готов плясать, хохотать.
Загородный сад качнулся в памяти, и вкрадчивый голос зашептал мне в уши:
– А это бы съел?..
Тошнота подкатилась к горлу упругим, щекочущим комком.
– А ключи воруете? – закричал я. – В белых манжетах, а воруете ключи… Над детьми измываетесь, а сами хуже всех на свете. Я вот как стрельну…
Толпа испуганно попятилась назад.
– Это бы съел? – закричал я. – Люди вы?.. Нелюди вы, звери… Ироды проклятые. Гоголь-моголь детям делаете. У-у, сво-олочи! Уйди, гадюки! Р-р-расходись!..
Вася ударил меня ногой:
– Бро-ось!
Я замолчал. Лихорадка била меня так, что я вынужден был сжать зубы, чтобы они не прыгали, не стучали во рту.
Туман обволакивал мои мозги, и, как кипящая ключом вода, проносились в голове мысли, свиваясь в клубящийся моток: загородный сад, мерзлая картошка, жандарм, матрос, подвал, румяный Вовочка, городовые на крыше, отец и мать, митинги, слова о равенстве, побоище в цирке.
Я не мог уяснить того, что случилось сейчас в России, но чувством и нутром догадывался: произошло что-то особенное; жизнь круто повернулась, вышла, как река в половодье, из каменистых берегов, неся озорные, буйные воды, разливаясь в бескрайной шири. Может быть, день, может быть, два будет неистовствовать половодье. Зачем мне думать об этом?
Не камень подъезда банка я ощущал под своими ногами. Я стоял, широко расставив ноги, на льдине, и бешеная вода уносила меня. Сзади остался темный подвал и стужа под ситцевым рваным одеялом.
Я молчал.
Люди передо мною внезапно уменьшились, превратились в крохотные черные точки. Слабый комариный писк еле шелестел в ушах.
Не смея шевелиться, я стоял, крепко сжимая холодный ствол винтовки с большим четырехгранным штыком.
Глава XI
Мы живем в квартире жандарма.
Вася с бабушкой заняли большую комнату с роялем. Вася говорит, что ему необходимо научиться играть. По вечерам он бережно стирает с полированной поверхности рояля серую пыль, затем открывает крышку, стараясь не хлопать ею, и осторожно извлекает из рояля нестройные звуки.
Отец поселился в кабинете, прельстившись обилием книг, спящих за мутно поблескивающими стеклами. Когда к отцу приходит кто-нибудь, он с важным видом пропускает гостя вперед и говорит значительно и непременно на «вы».
– Пройдите, прошу, в мой кабинет.
Он чертовски гордится кабинетом, но более всего, как видно, ему нравятся книжные шкапы.
– Вона… уйма какая! – похлопывает он по книгам.
И вздыхает:
– Как только освобожусь, – засяду. Все до одной перечитаю… Хорошие книги, я думаю…
Председатель партийного комитета, отобрав, к великому огорчению отца, его эсеровский и меньшевистский билеты, заставляет отца работать «не валяя дурака». С утра до вечера он где-то заседает, а вечером к нему приходит зеленолицый паренек в очках «проходить политическую грамоту».
Отец чертовски гордится этим.
– Видал, – кричит он мне, когда паренек уходит, – всего-навсего к пятерым ведь Зорин-то приставил. Пять на весь город имеют собственных агитаторов.
– Нашел чем гордиться. Может, вы пятеро самые худшие – вот и дали вам наставников.
– Ну да, – усмехается отец, – худшие. Где ж это худшие, когда мы все – мастер к мастеру. У каждого, брат, золотые руки.
Впрочем, вскоре отец перестает гордиться.
– Ах, курья нога, – смущенно покашливает он, – а ведь вправду ты догадался.
– Чего еще выдумал?
– Да про это… Действительно адиет выходит. Зорин-то раскусил, стало быть… Вот ведь плешь какая… А ты не смейся, балда не нашего бога… Тебе, брат, самому многое надо знать… Нет, ей-богу, – воодушевляется отец, – ты, брат, того… зубы скалить нечего… Я, брат, тебя впрягу…
– А зачем? Я не в партии.
– Ну-к, что ж, что не в партии… Да ты что? – сердится отец. – Я тебе кто? Чужой дядя с барок? Говорю – значит, нужно. Какое твое собачье дело рассуждать. Придет сегодня товарищ и – будьте любезны. Смотри у меня.
– Ф-ф-ф, напугал!
Однако после двух-трех бесед с «товарищем из партии» я начинаю входить во вкус.
Щупленький зеленый паренек до того толково объясняет все, что я за несколько вечеров почувствовал, как ясно, как отчетливо и понятно становится для меня все окружающее.
Точно шабером по мозгам прошлись. Смутные понятия о буржуазии, о пролетариате, приобретенные мною у Васи, встали единой системой, поднимаясь к новому, ласковому, как слово «мама», к странному сверкающему слову «социализм».
Я почувствовал острое желание жить. Закрыв глаза, я прислушивался к горячим словам «товарища из партии», и новый, радостный мир вставал передо мною, переливаясь красивыми пятнами.
Я пытался рассказать обо всем Васе, но из моих запутанных и сбивчивых объяснений он ничего не понял. Тогда я втянул в кружок Васю.
Прошла неделя.
Как-то после того, как паренек ушел от нас, Вася глубокомысленно сказал:
– Н-да… Это говорит…
И добавил, растерянно улыбаясь:
– А я думал: все уже знаю…
* * *
А жить становится трудно. Нет хлеба, нет даже картошки. Заводы отсылают в деревни бригады – выменивать железо, мануфактуру, обувь, посуду и платье на хлеб и другие продукты. Кинулись по деревням и одиночки.
Васина бабушка привезла мешок крупы, и мы перешли, как говорит отец, на куриное положение.
– Просмеетесь, – ворчит на это бабушка. – Спасибо за кашу говорите.
Шамкая беззубым ртом, она сердито, по-старчески жует, потом вытирает концом платка сухой рот и кладет в миску «добавок».
– Без каши насидимся еще…
– Чего так? – интересуется отец.
– Мужик жиреет, – сердится бабушка, – нахапали всего от помещиков и лютует теперь. Смотреть паскудно.
– Да, может, тебе показалось только?
– Показалось, – злится бабушка и, положив ложку на стол кричит: – Совести нет ни в ком. Бесстыжий народ стал. Мне, грят, бабка, это ни к чему твои юбки-разъюбки… Мне, грит, попугая в клетке представь, тогда и подкормишься. Тьфу, бесстыжие рожи!
– Неужто попугая?
– Врать для тебя стану на старости. Глянули бы, что в деревнях делается. Один даже роялю просил. Я, грит, за роялю два мешка крупчатки отвалю. Что ж, говорю, помирать нам. А помирайте себе с богом. Это мужик-то. А мы, грит, и без городу ладно проживем.
– Кулаки это, – вставляет Вася.
– Бедняки, они другое, наверно…
– Ну, уж не знают, чего бедняки говорят. Мне заходить до них без интересу было.
– Голодают?
– Не докладали мне, – злится бабушка, – а интересно тебе – сходи да поспрошай.
* * *
Под Оренбургом появился какой-то Дутов. Говорят, идет против советской власти. А еще дальше, на Дону – старается повернуть все обратно Каледин.
– Беда, бабушка, – говорим мы с Васей, – опять царя посадить хотят.
– Ну, уж и вы тоже хороша власть. А ну вас, – отмахивается бабушка.
– Чего ж так?
– Подохнем, вот и все! Хлеб-то где он?
– Ну… Будет и хлеб. Не все сразу. Не мы порешили хлеб. До нас съеден.
– Ваша власть все одно, что у голого крестик. Ни молока, ни шерсти.
* * *
Заводы останавливаются.
Фабриканты говорят, что нет сырья.
Инженеры ходят нахохлившись. На вопросы пожимают плечами:
– Что мы можем знать? Идите к хозяину.
Но хозяева точно сквозь землю провалились. Днем с огнем не сыскать. В кабинетах сидят «управляющие», но и они «ничего не знают».
Началась национализация заводов.
Меньшевики подняли вой. Со стороны смотреть смешно. Не то их самих грабят, не то родственников их обижают. Поддались на удочку меньшевиков и некоторые рабочие:
– Делаем-то что, товарищи? Не годится как будто?
– Ну и катись, когда не нравится.
– Да ведь…
– А ну вас к дьяволам.
– Хуже не было бы?
– Откуда ж это?
– Как справимся-то? Командовать кто будет?
– Инженеров поставим!
– Пойдут?
– А чего ж не пойти?
– Пойдут?
– Не будет, как с чиновниками?
– Ну, то ж совсем глупые головы. Инженер, он умнее!
* * *
Инженеры остались. На другой день все они, как один, вышли на работу.
– Видал миндал?
– А ты не радуйся! Еще ничего не известно. Может, хозяин приказал им.
– Ну и чихать! Дело делает и – точка.
На нашем заводе рабочие, обращаясь к инженерам, вежливость такую развели, что многие покрякивают даже:
– Не слишком ли?
– Ничего! Маслом каши не испортишь. Народ интеллигентный. Для них уваженье – первее всего. Любят они это уж очень. А голова не отвалится, если я поклонюсь лишний раз.
– Вот дубье. Ты ж хозяин, да ты и кланяться?
– Неважно, что протяжно, было бы здорово. Пусть они почувствуют, что новый хозяин вежливее старого.
То, что все инженеры вышли на работу и работают как ни в чем не бывало, многих чертовски растрогало. Старый Маврин в припадке восторга обнял молоденького инженера Уханова и с чувством троекратно облобызал его:
– Милуша! Друг ты мне теперь на всю жизнь.
Но инженер Уханов, очевидно, не нуждался в дружбе старого Маврина. Он холодно взглянул на строгальщика и сказал нудным голосом:
– Очень рад, гражданин Маврин. Но только сейчас я попросил бы вас работать.
Холодно встречали попытки рабочих к сближению и остальные инженеры, а нашу вежливость они как будто приняли за врожденное холуйство. Тогда неделю спустя наш новый «хозяин» – литейщик Парфенов дал инженерам почувствовать «новое».
Придя во время работы в цех, он заметил инженера Уханова, читающего газету. Парфенов подошел к нему, взял газету и, положив ее на стол, сказал спокойно:
– Я думаю, что этот пример нехорош для рабочих. Глядя на вас, пожалуй, и все примутся газетки читать. Я извиняюсь, но, – пожал Парфенов плечами, точь-в-точь, как старый хозяин, – надо придерживаться общего распорядка.
Инженер Уханов вскочил, красный и негодующий, но, взглянув в спокойные, строгие глаза Парфенова, передернул пренебрежительно плечами.
– Вы не обижайтесь на меня! – глядя в упор, сказал Парфенов.
– Нет, нет, – забормотал инженер, застегивая тужурку.
Рабочие усмехнулись:
– Так-то лучше, пожалуй.
Однако дело не ладится. Простои становятся постоянным явлением. Стоят станки. Стоят цеха. Сырья нет. Запасы на исходе. Нового сырья достать невозможно. Железные дороги забиты армией, голосующей за мир ногами. Солдаты управляют паровозами, сами отправляют поезда, сами составляют эшелоны.
– Вот тебе и сырье! Привези попробуй. На горбу потащишь?
Отряды красногвардейцев, отправившиеся «на Дутова», увели из города последние паровозы. Проезжающие мимо эшелоны караулят «свои паровозы», и попытки отцепить их встречают вооруженный отпор.
– Катитесь вы к чертовой матери. Какое вам сырье?
После наших горячих доказательств объясняют нам мягче:
– Чудаки вы, братцы. Как же мы можем отдать вам паровоз? Мы ж его, может, с кровью выдрали у гайдамаков, а вы – отдай. Да и куда вам? Все равно отнимут у вас дорогой! Народ теперь – жулик. Разинь рот-то, так он у тебя не то что паровоз, а весь состав под сиденье приспособит.
Мы были бессильны.
– Вот те и власть!
– Власть рабочего, а право солдатское.
Да так оно и было, пожалуй. Двенадцатимиллионная армия катилась сокрушающей лавой с фронта, никого не признавая, ничего не желая слушать. Чуть слово против, и от станции оставался пепел. Обалдевшая от ужасов войны вольница неслась по России с собственными паровозами, с неписаными законами, ломая все на пути.
Бесчинства, грабежи, налеты стали скучными буднями.
– Вчера тридцать семейств вырезали! – вопили в городе.
– Среди белого дня на главной улице двух прохожих ограбили.
Попытки обезоружить солдат наталкивались на яростное сопротивление. Вооруженные до зубов, обученные военному делу, солдаты шутя могли разогнать красногвардейцев, не умеющих даже стрелять как следует.
– Вы… Вы виноваты! – кричали на митингах меньшевики и эсеры.
– А ну вас к дьяволу! И без вас тошно. Чем кричать, взяли бы да помогли.
Но меньшевики и эсеры умели только разжигать страсти. Как и все обыватели, они занимались беспредметным «критиканством», тормозили работу, срывали все наши начинания. Когда мы решили обезоруживать по ночам проезжающие эшелоны, они вынесли протест.
– Вы не имеете права, – кричали они, – солдаты разнесут город.
– Ну, так посоветуйте.
– Вы власть, вы должны авторитетом воздействовать. А если вас не хотят слушать, – вы банкроты. Вы должны уйти.
– Это ваша забота! Вы теперь власть. Думали шуточки шутить…
То, что власть наша, мы прекрасно понимали, но достался-то нам драный тришкин кафтан. Куда ни взглянешь – всюду нехватки. Пустые магазины, голод, отсутствие сырья. В городе саботаж. По ночам – стрельба, крики ограбляемых, треск заборов, разбираемых на топливо. А тут еще генералы, дьяволы, навязались, наступают где-то… Надо сколачивать отряды Красной гвардии, одеть и обуть их, а затем найти паровоз и вагоны для их отправки.







