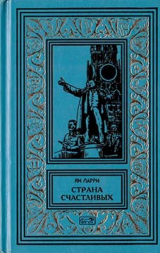
Текст книги "Собрание сочиннений Яна Ларри. Том первый"
Автор книги: Ян Ларри
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
Глава IV
Жизнь моя делает неожиданный поворот.
Как-то вечером зашел к нам подвыпивший Финогенов. Под мышкой у него расползлась груда книг, засаленных до такой степени, что казалось, будто они вот-вот начнут капать жиром.
– Видал? – поднял Финогенов книги над головой.
– Книги! – неопределенно промычал отец.
Финогенов икнул.
– Не книги, а прекрасное существование.
– Куда вам, Сергеич, такую уйму? – спрашивает мать. – Неужели прочтете все?
– Бесприменно! И не то что прочту, но все назубок вытвержу.
– Господи Иисусе, – испуганно крестится мать, – столько прочитать. С ума ведь сойти можно. Я вот девушкой была, так у нас во дворе студент был один. Так тоже. С утра до утра, бывало, читал книжки, а потом отвезли в сумасшедший дом.
– У студента мозга жидкой оказалась. И потом, книжка – книжке рознь. Некоторые возьми да брось, а которые большую пользу приносят. Мои книжки с толком подобраны. Не простые они, хозяюшка. Тут – прямой есть путь, как сделаться техником.
Отец беспокойно завозился на месте.
– Что это ты говоришь такое? Несуразицу какую плетешь. Такой чучел, да в техники вдруг?!
– Мы знаем, что знаем! – засмеялся Финогенов. – Мне это верный человек сказал.
Финогенов сел на занывший под его тяжестью стул и с размаху ударил ладонью по книгам.
– Механика тут обыкновенная. Стало быть, заучу я, что имеется в этих книгах, и подаю прошенье. Дескать, так и так – пышки в мак, имею желание экстренным держать экзамен за гимназию. Выдерживаю я экзамен. Еду в Москву. И опять прошенье. Желаю, дескать, учиться на техника. Поступаю в университет, учусь, а через четыре года – будьте любезны. А ну-ка, где, скажу, проживает чумазый слесарь Ларри? Выйдешь ты ко мне, а у меня на фуражечке молоточки. Что изволите, господин техник? А я скажу: и не господин я тебе, а Сашка Финогенов. На, скажу, друг, шампанского тебе. Выпьем давай да потолкуем, как нам с тобой техническую контору открыть. Да ты держись, скажу, просто со мной. Я, брат, чувствую, из какого званья вышел. Ты эти вежливости отложи в сторонку. О деле будем говорить. Ах, дьявол, – жмурится Финогенов, – делов бы мы с тобой закрутили. Всех бы хороших мастеровых в одну кучу сбили, да как бы двинули, друг. Эхма! Всех господ без штанов пустили бы. И порядок бы я завел. Обращенье чтобы простое, а что заработаем – на равные доли. Дом бы на Николаевской заарендовали и вывеску с золотыми буквами: «Техническая контора техника Финогенова и рабочих таких-то. Ремонт, подряды и всякая такая мура».
Бледный от зависти, отец взволнованно смотрит Финогенову в рот, слушая, как зачарованный, необыкновенные слова, но тотчас же стряхнув наваждение, говорит недоверчиво:
– Что-то у тебя все легко да гладко получается. Так-то это всякий захотел бы. Это и я, брат, не прочь.
Финогенов приходит в восторженное состояние:
– Ну? Друг? Неужто согласен вместе со мной?
– Согласен-то согласен, да выйдет ли толк. Не слышал я будто про такие чудеса.
– Выйдет, друг. Уверяю тебя – выйдет. А что не слышал – не важно. Выучимся мы с тобой, вот и будет пример.
На столе появляется водка. А через час отец верит в техническую контору крепче Финогенова. Ночью они по-братски делят между собой принесенные книги. Финогенов раскладывает их на две ровные кучки, приговаривая при этом:
– Тебе одна толстая и мне – толстая. Тебе – потоньше и мне – потоньше.
И тут же составляют программу:
– Сначала тоненькие книжки надо зазубрить, а там и за толстые примемся. Практика у нас уж будет.
Отец изъявляет желанье тут же и начать ученье.
– Ах, курья нога! – восторженно кричит он. – Открывай книжку. Давай. Начнем, друг.
– Завтра начнем! – икает Финогенов.
– Ну, завтра так завтра, – кричит отец. – Истинный друг ты мне. А это все обучим? А? Ах, курья нога.
– Сыну-то дай книжку, – мычит Финогенов, – Янку тоже выведем в люди. Сына твоего люблю я. И всех я люблю. Ей-богу.
Но тут выясняется, что я даже азбуки не знаю.
Отец удивлен:
– Ах, курья нога! Как же это я упустил из виду? Ты что ж мне не сказал? Ян? А?
Я притворяюсь спящим.
* * *
Затея Финогенова забавляла отца и друга его больше месяца. Они подолгу засиживались над книгами, стараясь понять, «что к чему», но книжная мудрость раздавила их упорство. Вскоре они вынуждены были признать себя побежденными.
– Ни хрена не выходит, – первым сдался отец, – ты одно учишь, а тут другое лезет непонятное. Нача-ала мы, друг, поймать не можем. А без начала – беда.
– Без начала беда, – соглашался Финогенов, – надо бы докопаться, откуда идет все это.
– Верный-то твой человек не знает? А?
– Спрашивал. Говорит – подряд учи. После, говорит, поймешь.
– Пожалуй, учи, – качал головою отец, – толк-то какой из этого? Выходит на тебе, сделай циркуль, а я, может, и ручника в глаза не видал, а пилу сроду и в руки не брал. Разузнать надо: где начало лежит всему.
Охладев к ученью, отец принялся учить меня. Он достал где-то разрезную азбуку, положил ее на стол и, подозвав меня, сказал:
– Видишь загогулины эти? Тут их три десятка с небольшим. Буквами называются. Отличаешь одну от другой?
– Отличаю!
– На то они и разные, чтобы отличать их, однако некоторые похожи промежду собой. Тут важно, чтобы каждый крючочек запомнить. Вот тебе буква «А», а вот буква «Л»: с виду будто и похожи, только Л без перекладинки, а буква А с перекладинкой. Понятно тебе?
– Понятно.
– А понятно – значит, и говорить больше нечего. У нас сегодня какое число? Четвертое. Ну, вот, к двадцатому постарайся. А пока один я поработаю.
Он взял со стола три первые попавшиеся буквы, положил их передо мной, остальные же сгреб в кучу и сунул себе в карман.
– Вот это Ш, это – Б, это – М. К завтрашнему спрошу у тебя. Выучишься к двадцатому – проси что хочешь. Полцарства дам. Не выучишься – сукин сын будешь.
Щедрость отца не произвела на меня должного впечатления.
Я никогда не нуждался в «полцарстве», но сукиным сыном мне не хотелось быть. Я разложил перед собой буквы и начал изучать их, не вылезая из-за стола.
– Мэ-то которая? Эта?
– Б это, дурак. М вот раскоряченная. Да ведь просто-то тут как. И учиться вроде бы нечему.
Два часа я бьюсь над буквами, однако путаю их отчаянно.
– Ш – это значит?
– Б, а не Ш. Ну, и голова же у тебя дубовая. Вот смотри, я тут напишу тебе на уголке.
И отец ставит в углах картонок свои каракули.
– Забором – значит Ш, кренделем – Б, а раскорякой – М. Да ты сам старайся. Ко мне лезть нечего. Я-то все знаю. Ты теперь умом доходи.
На следующий день отец передал мне еще три буквы.
К концу месяца я мог читать вывески.
– Что написано?
– Булочная!
– Вот дьявол, какие способности?! А это?
– Колбасная!
– Шпарит как?! А? И не споткнется?! А это?
Я взглянул на витрину, где стояли банки с красками, из которых во все стороны торчали щетки.
– Красочная! – вдохновенно выпалил я.
– Куда ж ты смотришь? – удивился отец. – Какая первая буква?
– М!
– Ну, и выходит москательная лавка. Откуда красочную ты взял?
Глава V
Мне стукнуло четырнадцать лет.
Двор живет своей обычной жизнью.
По воскресным дням несутся из подвалов песни.
Бабы бегают из квартиры в квартиру, одалживая друг у друга сковороды, чашки, стаканы, табуретки. Ситцевые яркие платья весело шуршат во дворе.
Пьяные голоса кричат во всех углах. Во двор выскакивают красные от водки люди.
Люди пьют, поют, топочут ногами.
Пьяный Евдоха сидит на подоконнике. По-бабьи подперев голову рукой, он качается из стороны в сторону и тянет тоненьким печальным голосом:
Песня-я у-уда-ала-а-а-ая
За-а-а-а– реко-о-ой зву-чи-и-ит.
Из подвальных окон жестянщика Николая, вместе с нестройным шумом, катится рев голосов:
На диком бреге Иртыш-а-а-а-а
Си-и-де-ел Ермак, объятый ду-у-умо-ой.
К вечеру во двор выходят все пьяные. Дядя Вася, в новой гарусной рубахе, идет через двор, поддерживая небрежно гармонь, грузно садится на ящик у дворницкой.
– Ва-ася! Дру-уг!
Дядя Вася не обращает внимания. Прищурив глаз, он открывает рот. Лицо его делается каменным. Он не замечает никого. Он кажется погруженным в глубокий сон, но руки его безостановочно снуют, растягивая певучие меха гармоники, и стройные лады плывут в синеве вечера, заставляя людей подергивать плечами.
– Эх.
– Жги.
– Рви с подметкой. Шпарь. И-эх, ма.
– Эх, эх, эх.
Подергиванье плечами становится яростным. И вот уже ноги пришли в движенье.
Ходи изба, ходи печь.
Хозяину негде лечь.
Эх, эх.
Эй топни ногой! Приударь другой!
А кто со мной, пойдет с молодой.
Эх, эх, эх, эх, поплясать не грех.
– Под-дай.
– Э-э-э-а-а-а.
Разбойный свист разрывает воздух. В широкий круг выплывает, топая каблучками, жестянщица.
– Ай, держите меня. Ай, ловите меня. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, взвеселите меня.
– Ой-й, – кричит отец, – не могу.
Топнув ногой, он становится перед жестянщицей, дергая рукою залихватский ус.
– Вася! Друг! Над-дай!
Захлебывающиеся, веселые переборы подхватывают ноги отца, несут по камням, высекая неистовые искры. А жестянщица плывет, платком помахивает. Грудь ее высоко похаживает, то вверх, то вниз, щеки горят, глаза блестят зазывно, лукаво.
– Ва-ася!
– Жги-и!
– И-эх, эх, эх!
Ходи изба, ходи печь
Хозяину негде лечь.
* * *
Ночью начинается драка. Жестянщик, тяжело дыша, волтузит свою жену. Крик и плач сливаются с матерщиной. Во дворе появляется полиция.
Двор пустеет. Гаснут огни. Жестянщица, избитая мужем, плачет в дровяном сарае.
По двору бродит старый Храпач, покачиваясь, точно старая баржа на приколе.
– Господи, Господи, – шепчет Храпач, – до чего же доводишь людей, боже милостивый.
– Иди спать, – командует Евдоха из окна.
– Вот и повеселились, – шепчет Храпач, – поплясали людишки твои.
– Ты что колдуешь? – не унимается Евдоха.
– Страшная жизнь твоя, Господи! Да не в суд и не в осуждение, но во оставление грехов.
Евдоха ложится на подоконник и прижимается лицом к холодному камню. Пьяненьким голоском Евдоха тянет незлобиво:
Живу ли я,
Умру ли я, —
Все мошка я
Веселая!
* * *
Обильной жизни приходит конец. Ремонтные работы сдают техническим конторам. Отец занят теперь два-три часа в день. Остальное время проходит у него в посвистывании. Он ходит из угла в угол, неутомимо покручивая пышные усы. Изредка остановится перед окном, посмотрит на кусок голубого неба и плюнет. Потом подойдет к тискам.
– Н-да…
Стирая пыль рукавом с металла, он начинает мурлыкать:
Под вечер осени ненастной
В пустынных дева шла местах…
Оборвав песню на середине, вздохнет и снова скажет:
– Н-да!..
Потом опять плюнет:
– Дела-а, едрить ее корень…
Через товарищей отец устраивает меня на завод, подручным к дяде Васе.
Я хожу в новом картузе и в жилетке. Во время разговора на дворе и к делу и не к делу вставляю поминутно:
– Мы, заводские, народ отчаянный! Жизнь у нас рисковая!
Вовочка – гимназист. Он реже теперь бывает во дворе и держится солидно. Однако передо мною Вовочка робеет.
– У нас ведь что? – стараюсь я говорить басом. – У нас зацепит ковшом и – квиты. В момент – пепел из тебя. Литье! С ним не шути! У машины тоже зевать не приходится. В момент – расчавкает. Оттого и пьем мы, как лошади. Без водки нашему брату никак невозможно.
У Вовочки глаза становятся круглыми.
– И мальчики пьют?
– Это когда мальчики… А у нас мальчиков нет. У нас – ребята. У нас есть Федьша, так не смотри, что ему тринадцать лет, – он, брат, любого мужика перепьет. С бабами, конечно балуемся… Спуску не даем!
Мне почему-то нравится показать себя перед Вовочкой хуже, чем я есть. И я оговариваю себя без зазрения совести.
– Башка сегодня трещит. Опохмелиться бы надо, конечно. Однако держусь. Зарок у меня. Месяц держусь, а три дни гуляю. Три целковых вчера просадил.
Вовочка с испугом смотрит на меня широко открытыми глазами, а я цвиркаю слюной и притворно зеваю:
– Шухер вчера затерли в трактире. Что было – хоть убей, не помню, а только Саньша говорит утром: помнишь, грит, как ты вчера ножом стебанул одного? Нет, грю, не помню. Ну грит, твое счастье, что не до смерти, не то было бы делов!
Я круто повертываюсь и, заломив картуз, ору:
Ахти, да охти,
Дыд, на-д ня-я-я-сочке-е!
Покачиваясь из стороны в сторону, я иду к воротам; проходя под окнами дворницкой, распеваю во все горло похабные частушки.
Дворничиха теперь скрывается при моем появлении, а встречая на улице, перебегает на другую сторону.
* * *
Где-то есть хорошая, чистая жизнь, где-то тут же, рядом находится иной мир. Но что я знаю о нем? Он лежит над моей головой этажами, выходя на улицу парадными зеркальными дверями, широкими лестницами, лифтами и коврами.
По весенним звездным вечерам этот мир открывает окна. Веселые огни путаются в тюлевых занавесях. Смех, музыка и девичьи голоса вырываются из окон и уплывают в небо.
После гудка широко открываются ворота завода. Черная, пропахшая мазутом и машинным маслом толпа с ревом выливается на тротуары переулка.
Опорки на ногах звонко шлепают по асфальту. Пыль с мостовых летит в глаза. Я иду усталый, голодный, и злость, как горячий пар, поднимается в одеревяневшую голову.
На заводе меня зовут «художником», и я из кожи лезу вон, чтобы оправдать это званье.
Заметив впереди себя важную барыню с прислугой, я подмигиваю ребятам и выступаю вперед.
Поравнявшись с барыней, я быстро наклоняюсь к земле. Барыня испуганно отскакивает в сторону.
– Успокойтесь, мадамочка! – говорю я. – У меня портянка размоталась…
И улыбаясь, добавляю несколько похабных слов. Барыни и след простыл.
Ребята хохочут.
* * *
Я не знаю, откуда у меня это, но я ненавижу чистых, хорошо одетых. Отец считает их дураками, а я смотрю на них, как на своих врагов. Никто и никогда не учил меня ненависти. Это поднимается откуда-то изнутра, мутит голову, заставляет смотреть прямо и нагло в глаза и, смакуя каждое слово, говорить разные гадости.
И я не один. Сотни таких же, как я, вылетают из завода после гудка и с омерзительной руганью бегут вперед, через каждые два шага устраивая скандалы.
По улице несется предостерегающий крик. Закрываются окна. Девушки вскакивают со скамеек, пугливо скрываются в ворота.
– Фабричные…
– Фабричные…
Где-то есть хорошая, чистая жизнь, и девушки у тюлевых занавесей прижимаются к стройным юношам горячими губами. Музыка играет что-то печальное. И смех девушек благоухает сладкими цветами.
– Эхма! Эй, барынька, гляди, гляди! Штаны потеряла!
Глава VI
Война началась неожиданно.
Теплым июльским вечером улицы внезапно загудели людским нестройным шумом. Подмывающе загремели оркестры. Крики «ура» вспыхнули во всех концах города.
Я выскочил на улицу.
Черная толпа густыми рядами шла в сторону площади.
Впереди шагали люди в поддевках, остриженные в скобку. В руках у них колыхались большие царские портреты.
– Ур-р-р-ра!..
Во всех этажах хлопали окна. Из ворот выбегали люди без фуражек. Тротуары быстро покрылись черной толпой.
– В чем дело?
– У-р-р-ра!..
Человек в поддевке, шагающий впереди, махнул фуражкой.
– Смерть немцам!
– У-р-р-ра!..
Я смешался с толпой.
– Что это? А?
– Война! С немцем воевать будем! – крикнули в рядах несколько голосов.
Сзади запели: «Боже, царя храни». Шагающий рядом со мной чиновник закричал визгливо:
– Умрем за царя и отечество!
Опять прокатилось «ура». Я кричал вместе со всеми, не жалея глотки, радуясь случаю поорать.
* * *
Манифестация затянулась заполночь. Неизвестно откуда появились факелы, освещающие ночь темно-багровым светом. Кого-то подбрасывали вверх. Кто-то и с кем-то целовался.
Я вернулся во двор возбужденным, торопясь поделиться новостями. Заметив кучку людей около дворницкой, я сорвал с головы фуражку и закричал:
– У-р-р-ра!
Крик мой, не подхваченный никем, повис одиноко в воздухе.
– Дура-а-а-а-ак! – передразнил Евдоха.
Все засмеялись.
Это обидное равнодушие задело меня.
Я видел в войне что-то большое, необыкновенное, что должно было встряхнуть постылую жизнь, сделать ее осмысленной, радостной. Что именно должна была принести с собой война, я не знал, но уже сегодняшний крутой поворот жизни, казалось, обещал многое.
Равнодушие двора обескуражило меня.
– Ну? – засмеялся Евдоха. – Чему обрадовался сдуру?
– А плакать мне, что ли?
– Да радоваться нечему! – заметил жестянщик.
Не обращая больше на меня вниманья, он повернулся спиной, продолжая беседу:
– Орут: немца бить. А немца-то не бить надо, а поучиться у него уму-разуму следует. Учиться у немца надо, а не бить его.
Я с удивлением посмотрел на Евдоху. Что он? С ума спятил?
– А если лезет? – спросил я.
– Немец, он зря не полезет! – захихикал жестянщик.
– Сами мы лезем! – сказал Евдоха. – А чего лезем, так и не знаем… Земли, что ли, у нас мало? Вояки-сраки. На своей земле порядков завести не могут, а туда же на чужую зарятся.
– Так тоже нельзя рассуждать! – качает головой дворничиха. – Если мы не будем воевать, немец наше государство заберет.
– А пускай забирает! Может, при немце-то хоть жизнь увидим! Да рази это государство? Позор один, а не государство! Китайцы только и живут хуже нас во всем мире.
– А ты видал? – сердится дворничиха.
– Видать не видал, однако думаю: похабнее нашей жизни во всем свете не сыщешь!..
– Ну, тоже… такие разговоры!
Кое-кто торопливо отходит.
– Ну вас к богу, нашли тоже тему!..
– Народу теперь поломают – страшно подумать! – не унимается Евдоха. А только холку нам надерут, безусловно. Не нужна эта война народу. Ни с какой стороны не нужна.
* * *
Город неузнаваем. По улицам каждый день проходят с музыкой солдаты. На вокзалах шум, плач, солдатские песни. Площади заняты обучающимися солдатами. Улицы наводнены газетчиками.
В первые же дни войны закрыли монопольки. Двор стал трезвым и тихим. Жестянщик Николай выходит после работы с газетой в руках. К нему подходит Евдоха, потом кучка людей обступает Николая.
– Ну-ка, ну-ка! Читай!
– Как там? Чего там?
Захват немцами Калиша почему-то вызывает у Евдохи приступ веселого смеха.
– Вот тебе и на! Сразу, да по башке. Ну, ничего, – пол Расеи отдадим и замиренье выйдет. Эхма, лежать бы уж нам на печке да клопов давить. Вот тебе и ура.
Мне немного обидно. Было жалко отдавать немцам Калиш.
– Война, – встреваю я в разговор, – такое дело. Сегодня отдал, завтра – взял. Может, заманивают немца? Ты что знаешь?
– Тетеря! Молчал бы! Заманивают?! Политик тоже выискался. Чистый генерал.
Волнуется и завод. Здесь говорят о другом.
– Если возьмут, – слышно в одном углу, – так надо стараться попасть под суд, да в штрафную роту. Войну, глядишь, и проворонишь как-нибудь. Плохо, конечно, будет, но, однако, живым останешься.
– Теперь думка одна должна быть: попасть на военный завод! – слышно в другом углу.
Сегодня мастер Бузников пришел в цех за несколько минут до работы. Подойдя к кучке рабочих, он поздоровался и спросил:
– Ну? Что новенького?
Рабочие переглянулись.
– Да как сказать, Николай Степанович… Воюем вот.
– Войну обсуждаем. Немца ругаем.
Мастер достал из портсигара папироску и постучал мундштуком по крышке.
– Что ж… война… И воевать плохо и не воевать нельзя…
– Да, это, конечно, – неопределенно протянул Пронин, – только… ну, как бы вам сказать… не очухаешься сразу-то. Будто гром среди ясного неба…
– Положим, – двинул бровями мастер, – Германия уже сорок лет готовилась к нападению.
– Неймется ей или как? – с невинным видом спросили у мастера.
– Да это как хотите понимайте.
– Но все-таки?
– Сказать прямо, – кашлянул мастер, – зарится Германия на нашу землю.
– Ну, что ж, – подмигнул Пронин, – придется, видно, дать Германии по шеям, Расея-то наша вон какая. Миллионный народ. В рукопашную пойдем, так и то не устоять никому.
– Я думаю, война не продлится долго, – уверенно сказал мастер, – если не к Рождеству, так к Пасхе непременно кончится.
– Дык… это уж безусловно.
А через несколько минут, в вонючей уборной, Пронин хохотал во все горло:
– Слыхал? Сорок лет готовилась… Ну, уж и накостыляют нам. Как богатым купцам всыпят.
– Мастер-то, слышь, и сам не знает, с чего она, война эта.
– С чего? Да все с того же… Паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
По заводу поползли слухи о забастовках в Питере и Москве. Шепотом передавали о листовках, найденных в уборных. Через неделю заговорили об арестах. На заводе появились новые рабочие, которые громко кричали о притеснении рабочих.
Дядя Вася некоторое время присматривается, затем говорит загадочно:
– Осторожнее, ребята, с этими, смотри, языком-то не очень трещите.
Завод затих. Меньше разговоров. Работают нехотя. В цехах пахнет скукой.
* * *
Отец поступил на военный завод. Мать шьет белье для армии. Она теперь ходит веселая и дома распевает песни.
Мы работаем трое.
В первый месяц после войны наш заработок поднялся до ста рублей.
– Кому война, а мы при войне только свет увидели, – смеется мать.
Жаловаться, действительно, не приходится. Живем прекрасно. Мясо со стола не сходит. Чай пьем с калачами. Ложимся спать после плотного ужина. Мать купила пузатый темно-красный комод и присматривается к швейной машине. Особенно довольна мать запрещением продажи водки.
– Вот так бы ее навовсе уничтожили, – говорит мать, – первой бы молельщицей была.
– Да уж чего бы лучше, – поддерживает жестянщица.
Все женщины во дворе довольны закрытием монополек.
Евдоха посмеивается:
– Мы-то знаем, что знаем… Трезвенность…
– Ну, уж, ты уж…
– Тар-тар-тар, – хохочет Евдоха.
Он ходит праздничным и веселым. Вчера его признали негодным для армии.
* * *
Привезли первых раненых. Мы ходили на вокзал, но протолкнуться к вагонам не удалось. Вокзал забит гимназистами, гимназистками, чиновниками и военными. У всех в руках цветы. В зале I класса кричат «ура».
Город наводнен беженцами. Они ходят толпами, эти обалдевшие люди в больших картузах с маленькими козырьками.
Всюду говорят о зверствах немцев. Лавочник повесил на дверях цветную картинку «Геройство казака Кузьмы Крючкова».
На картине изображен чубастый парень, протыкающий копьем голубых немцев.
Евдоха посмеивается:
– В Японскую войну вот так же рисовали. Казак япошек, словно вошей, давит, а япошки-то, гляди, и накостыляли героям. Наша берет – и морда в крови.
У всех только и разговору что о войне.
Завод молчит.
* * *
Вовочка удрал из дому. Поехал убивать немцев. Через неделю Вовочку поймали.
Пороли.







