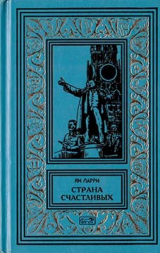
Текст книги "Собрание сочиннений Яна Ларри. Том первый"
Автор книги: Ян Ларри
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
Глава VII
Уже два года тянется война, а конца и не видно. Россия оделась в солдатские шинели. В газетах печатают списки «убитых героев». По ночам шумят оркестры. Тысяча за тысячей идут умирать на фронт хмурые люди в шинелях. За ними, по тротуарам, бегут вприпрыжку женщины. У многих на руках – дети. Под сводами вокзала колыхается надрывный плач. Играют трубачи. Темные эшелоны трогаются с места. Двери вагонов широко открыты. Солдаты поют. Играет гармоника. Женщины падают на перрон, бьются головой, кричат.
– Россия кричит, – говорит Храпач.
– Какую ж это жизнь для людей устроили, – хмурится Евдоха. – Бойня! Бойня, едрить ее налево.
Унылые катаются солдатские песни.
Завод молчит.
* * *
Раненые солдаты говорят об измене, называют генералов, которые торгуют армиями направо и налево.
– Продали, – открыто вторят солдатам.
– Продали и пропили.
Солдат с перевязанной рукой громко говорил обедающим в трактире, никого не стесняясь:
– Продают нас, земляки, вроде бы как картошку на базаре. И пудом и мешками. И оптом и в розницу. В Карпатах заместо снарядов сухарей нам представили. Цельными эшелонами нагнали сухарей. Рази это война? Убивство одно. В наступленье идешь – на троих одна винтовка. Они стреляют, а мы, как дураки, лоб подставляем. Погибла Расея.
* * *
Цены на продукты растут, как снежный ком. У булочных с раннего утра выстраиваются очереди. В газетах пишут о голоде в Германии. Ранеными забиты школы и кинематографы. По вечерам улицы тонут в полумраке.
Гуляют прапорщики и гимназистки.
На заводе арестовали литейщика Фомина и двух инструментальщиков.
* * *
Жить становится с каждым днем труднее. Наши заработки уже не вызывают удивления у матери.
– Куда они, бумажки-то, – ругается она, – названье одно, что деньги…
Хожу на работу. Дорогой прислушиваюсь, как мерзлая картошка булькает в животе, наполненном водой.
* * *
Газеты пишут о беспорядках в Питере.
– Немецкие шпеоны орудуют, – говорит лавочник.
– Шпеоны? – передразнивает Евдоха. – Небось как станет кишка за кишкой гоняться, так почище шпеона заорудуешь.
– То исть? – щурится лавочник. – Как же это я должен понять тебя?
– Как знаешь, так и понимай.
– Смутьян ты, Евдоха… О, господи! – мелко крестится лавочник.
* * *
– Зачем она, эта война проклятая?
– Всю Расею испохабили.
– Немцу хорошо воевать. У немца машина, а русский голой пузой лезет.
– Денег-то сколько тратится. Собрать бы такие суммы в одну кучу, так всем бы всего по горло хватило.
– Истребляют народ только – вот тебе и война.
– Дрались бы цари промеж собой, а при чем тут народ? Мы-то за что мучаемся?
– Как собаки народы склещелись. И кто только разливать будет?
– Генералам чины да ордена, а матерям слезы. Офицеру награда, женам – вдовство.

– Эх, был бы я царь, созвал бы я все народы…
– Ну, ну, ты. Царь. Попривяжи язык-то свой…
– Только и жизнь австриякам пленным.
Каждый раз, возвращаясь с работы, я прохожу мимо ресторана «Альпийская роза». Веселый шум и музыка вырываются из дверей. Сквозь стекла окон я вижу голубые мундиры австрийских офицеров. Они проводят дни в веселых беседах, уничтожая слоеные пирожки, кофе, сливки, бисквиты, пирожные.
– Вот дьявол, – качает головою дядя Вася, – денег у них прямо не протолкнешься.
Тут же, за соседними столиками, сидят русские офицеры. Они угощают австрийских офицеров, рассказывают им что-то веселое.
– Тьфу, – плюет озлобленно дядя Вася, – до чего ж это похабно все. Чистая комедия.
* * *
Я заболел. Седой врач, осматривая меня, ворчит, дергает скулой, хмурится.
– Что у меня?
Врач смотрит поверх очков, точно козел, приготовившийся бодаться.
– Рабочий?
– Рабочий.
– Бросить надо работать. Газетами торгуй… о победоносной армии… Впрочем, подожди…
Он садится за стол, берет в руки перо.
– Ляжешь в больницу недели на две… Все равно уж теперь…
* * *
В больнице я пролежал больше месяца.
Вышел на улицу – не узнать города.
Грязь. Снег лежит горами. Всюду очереди. Многие магазины закрыты на замок. Люди хмуры. Солдаты проходят мимо без песен. Резкая дробь барабанов раскатывается железным горохом.
Холодно.
Неприветливо.
Тоскливо.
Дома у нас сидит дядя Вася. Он молча здоровается со мной, спрашивает о здоровье и, не ожидая моего ответа, говорит:
– Довоевались. Докатились до кромки, едрена корень.
Отец искоса глядит на меня, что-то хочет сказать, но, махнув рукой, повертывается к дяде Васе.
Отец осунулся, оброс бородой, выглядит растерянным, жалким.
– Повеситься… только и остается… Работать-то ты не ходи, – обращается он ко мне, – все равно уж теперь… Бастует завод…
Вечером приходит Финогенов. Он возбужден, говорит быстро, будто горохом сыплет.
– Вот дела-то, а? – кричит Финогенов, переступив порог. – Ну, и наслушался я… И дьявол его знает, откуда появился такой. Маленький, плюгавый, нос вроде пуговицы от портков, а говорит… как река течет. Ага, Ян! Выздоровел уже? С места не сойти… Будто ноги приклеил к полу своим разговором…
– Да ты о чем?
– А про собранье… Кругом заперлись, а полиция барабанится, так не поверишь, все ходуном ходит. Ну и говори-и-ит. Безо всякого. Чешет и чешет. Война, говорит, толстопузым нужна. На народных, грит, костях капиталы наживают. Всего не запомнил, но о… Скажу прямо, будто налил он меня разговором. Каждой косточкой чувствую теперь…
– Америку открыл, – ворчит дядя Вася, – это и без него знаем, что богачи из-за прибылей передрались. Ты бы новенькое что сказал.
– Дык… Вот ведь язык-то у меня деревянный… Конечно, новое он говорил, только рассказать не умею этого.
– Пустое дело, – почесывается отец, – поговорят, поговорят, да опять за старое возьмутся. Первый раз, что ли?
Лавочник встречает меня усмешечкой:
– В шпеоны записался?
– В какие шпеоны?
– Не работаешь, говорю?
– Бастуем!
– Нашли время…
Подумав немного, лавочник спрашивает:
– Чего не поделили опять?
– Там уж знают чего.
– То-то, что знаете… О, господи, владыко живота моего. Совсем народ очумел… Дурьи вы головы. Бараньи. Предателей родины слушаете. Ну, вот они и подведут вас к точке.
Я молчу.
– Шпеон-то, он знает свою линию. Он заберется к вам на горб. Дождетесь.
* * *
Пропало разменное серебро.
Вместо мелкой разменной монеты выпущены почтовые марки.
Фунт хлеба стоит 10 коп., фунт мяса – 1 р. 50 к., сапоги – 80 рублей, галоши – 10 рублей, костюм – 200 руб., воз дров – 100 руб.
В начале войны хороший костюм стоил 30 рублей, воз дров – 6 руб., галоши – 2 руб., фунт мяса – 20 коп., сапоги – 5–6 руб.
Завод не работает, и я не работаю. Заработок отца и матери сильно упал. В квартире – собачий холод. На столе – картошка и хлеб. Комод и швейная машина уплыли.
* * *
Поезда не ходят. Вокзал забит военными эшелонами.
– Рушится Расея! – кричат в трактирах.
– Все пропало.
– Довели, язви их душу.
Военные гуляют до утра. Пьяные офицеры устраивают скандалы.
В темных улицах раздевают и грабят прохожих. Газеты сообщают о нападениях на квартиры. Злобные метели бушуют над городом.
Холодно.
Погано.
* * *
От голода, от мерзлой картошки тело покрылось чирьями. Болят руки и ноги. Лежу, закутавшись в отцовское рваное пальто. Дыханьем согреваю посиневшие от холода руки.
* * *
Февраль.
Улицы живут тревожной жизнью.
Бабы разбивают булочные.
На углах появились усиленные наряды.
* * *
Просыпаюсь от трескотни.
– Что это?
– Лежи, лежи, – говорит мать.
Она испугана. В глазах тревога. Перебегая от стола к печке, она хватает все, что попадется под руку, прячет под печку. А за окном, высоко вверху, будто кто-то на большущей швейной машине строчит.
Во дворе неистово кричат. Слышен тяжелый топот ног.
Я подбегаю к окну.
– Да лежи ты, – оттаскивает меня мать от окна.
Но я отталкиваю ее и, повинуясь непреодолимой силе, быстро одеваюсь.
– Куда?
– Уйди.
* * *
Двор полон солдат и штатских. Подняв винтовки вверх, они стреляют по крыше, кричат, размахивают руками.
– Стой! Стой!
Огромного роста солдат, в расстегнутой шинели, размахивает винтовкой, точно дубиной, хватает всех за руки:
– Стой, дьяволы.
От страшного крика его лицо побагровело, на носу, несмотря на мороз, висят капли пота.
– Да стойте ж, черти сумасшедшие.
Он залезает на ящик, кричит, подняв голову вверх:
– Эй, вы…
Наступает тишина.
– Эй, на крыше!
Я вижу, как из чердачного окна осторожно высовывается околыш черной фуражки, затем под фуражкой появляется толстая красная морда с испуганными глазами.
– Эй, городовой, – кричит огромный солдат, – вылазь, вылазь, не бойся.
Помертвевшее от страха лицо городового смотрит вниз.
– Кончай сраженье, – кричит солдат, – тащи сюда пулеметы.
Городовой беззвучно шевелит побледневшими губами.
– Слезай, говорю. Не тронем. Наша взяла. Николашку вашего под задницу коленом. Даем две минуты. Не слезете – с голоду подохнете там. Все равно не выпустим.
Городовой скрывается. Наступает тишина. Затаив дыханье, все смотрят вверх.
– Совещаются! – шепчет кто-то рядом со мной.
– Торопись, – кричит солдат, – некогда нам с вами вожжаться.
Из чердачного окна вытягивается рука с белым платком.
Я кидаюсь к черной лестнице и, тяжело дыша, бегу, вместе со всеми, прыгая через ступень.
Навстречу нам, держась друг за друга, спускаются бледные городовые.
Толпа окружает городовых кольцом.
– Царя вам надо?
Городовые молчат.
Евдоха, с перекошенным злобой лицом, наскакивает на самого толстого.
– Что? Крови нашей мало попили? Кровопийцы!
– Порешить их! – кричит мастеровой низенького роста.
– Чего миндали разводить? Бей стервецов!
Неожиданно перед толпой появляется Храпач. Высоко приподняв руки вверх, он загораживает городовых спиной.
– Братцы вы мои! – плачущим голосом блеет Храпач. – Образумьтесь. Такой светлый день, а вы задумали убивство. Нехорошо, братцы, выходит это. Чем они виноваты? Такие же темные пешки, как мы.
– А ребра ломать в участке не темные?
– Эх, Евдоха, Евдоха. Да, ить, клопы кусают не потому, что злы, а потому, что питаться им надо.
– Брось, товарищи! – подходит к толпе солдат, волоча на плече пулемет. – Раз дали слово – стало быть, держись. Не имеем права слова нарушить.
– Пусть, выходит.
– И пускать не пустим. Передадим революционной власти, а там видно будет.
* * *
Мартовский день серый, пушистые снежинки, тихо кружась, падают на землю. Теплый ветер дует навстречу. Под ветром колышутся знамена.
Солнца нет, но у всех такие солнечные, радостные лица, что кажется, будто каждый несет на своих плечах горячее и молодое солнце.
Крики, смех, оркестры и «Марсельеза» наполняют улицы и город. На груди у всех краснеют пышные банты. Красные ленты в петлицах, красное за тульями шляп, на шее, на рукавах, на фуражках. Улицы похожи на буйные поля красного мака. Пасхальный звон колоколов гудит над головами. А толпы народа идут и идут, заполняя и улицы и тротуары.
На углах грузовики. Студенты, в шинелях нараспашку, размахивают фуражками.
– …обода, равенство и братство.
– Ур-р-ра!..
– …и…а…ская революция.
– Ур-р-ра!..
Хлопают форточки. Возбужденные лица высовываются наружу и, краснея от натуги, кричат:
– Ур-р-ра!..
Без фуражек, без пальто выбегают из ворот взлохмаченные люди, широко раскинув руки, падают, точно в летнюю речную прохладу, в кричащую толпу, обнимая незнакомых, бормоча со слезами на глазах:
– Христос воскрес!
– Праздник-то какой.
Я иду рядом с отцом и матерью. Она улыбается сквозь слезы и пытается петь. Отец высоко поднял голову, посматривая по сторонам веселыми глазами.
Глядя на плачущих от радости людей, я чувствую, как слезы подступают к моим глазам. Весь мир готов бы, кажется, обнять и прижать к стучащему сердцу.
– Господи, хорошо-то как, – шепчет умиленная мать.
Глава VIII
– Свобода!
– Свобода!
Этим словом захлебываются.
Верхние этажи спустились вниз. Во дворе ораторствуют гимназисты, студенты.
Я слушаю с напряженным вниманием. Я впитываю в себя, как губка, все, что говорят о революции.
Вовочка – эсер. Он заходит к нам на квартиру и подолгу сидит, объясняя программу партии. Отец слушает его с открытым ртом. Но когда Вовочка ловит его взгляд, отец принимает важный вид и, значительно накручивая усы, кивает головой:
– Это мы знаем… Сами в девятьсот пятом на баррикадах дрались.
К делу и не к делу отец говорит теперь:
– Меня, брат, учить нечего. Я, брат, еще в девятьсот пятом пострадал.
Но я-то знаю другое.
– Врешь ты насчет девятьсот пятого. В больнице ты лежал тогда.
– Ну и что ж? – бодрится отец. – А не лежал бы, так дрался. Ты что знаешь?
– А сам всегда другое говорил.
Лицо отца становится жалким. Он чешет затылок и говорит умоляюще:
– Ты бы помолчал, Ян.
– А ты не ври.
– Вот ты какой жестокий. Осудил меня, а того не понимаешь, что обидно мне. Всякий, вон, шибздик, вроде Вовочки, в героях теперь ходит. А что он видал? У мамки под юбкой вырос. Кофеи распивал. А сейчас – первая персона революции. С жиру они бесятся. Им это заместо забавы, а мне другое тут… Я, может, думать даже не смел. Вот как замурдовали меня. Я, сынок, всю жизнь свою перемены ждал, да только не знал, откуда придет она. А пришла, так опять неладно. Вовочка, однако, пустое. На заводе меня обидели. Вот сердце болит. В глаза людям срамно смотреть.
– Чем обидели-то тебя?
– Подозреньем – вот чем. Я, может, каждого с измалства знаю, с каждым, может, пуд соли съел, а выходит – сторонились меня. Смотрю я сейчас: тот в этой партии, тот – в той, третий – в иной. Когда ж, говорю, записаться успели? А они хохочут. Тетерин, вон, десять лет, оказывается, партейный.
– А тебе-то что?
– Обидно ж! Вместе парнями гуляли, рядом станки, а он своей жизнью жил да других в дело втягивал. Что ж, говорю, меня-то обошел? А он говорит: «Несуразный ты какой-то. Нескладный». Я ему: «Предам, боялись»? А он мне: «Горяч да нескладен ты. Провалить мог бы. Характер у тебя другой». А теперь, грит, пожалуйте: примем с нашим удовольствием.
Отец замолчал.
– Взял бы, да и пошел, – говорю я.
– То-то что пошел, – крутит усы отец, – а куда идти мне, скажи? Ты знаешь куда?.. Никто не знает толком. Партий много и все против буржуев. А почему разные партии? Меньшевики, большевики, эсеры. Пойми тут.
Впрочем, отец разрешил этот вопрос скоро.
Однажды вечером он достал два билета и, потрясая ими в воздухе, засмеялся:
– Видал? Вот, брат. Тут дело теперь верное. Вот тебе: по этому билету я большевик, а по этому меньшевик. Взнос небольшой, а дело верное. Кто теперь обратно повернет, если и меньшинство и большинство объединяется? Кто там еще остался?
* * *
В театрах, в цирках, на улицах и на вокзале с утра до поздней ночи толпится народ, слушая охрипших ораторов. Тщетно я стараюсь понять, кто прав. Все ораторы говорят о ненавистном царском режиме, обещают новую, хорошую жизнь. Я усердно хлопаю меньшевикам, и большевикам, и эсерам, и анархистам. Мне только непонятно, почему они ругают друг друга.
Однажды в цирке, доверху набитом солдатами, которые сидели с винтовками в руках, я прислушивался к горячему спору, но, не понимая ничего, разозлился. Я поднял руку вверх и попросил слова.
– Пожалуйста. Как ваша фамилия?
Я встал и крикнул:
– Граждане, разрешите…
Но меня перебили. Из-за стола, стоящего на арене, приподнялся лохматый человек и крикнул:
– Пожалуйста, сюда. Как ваша фамилия?
– Неважно, – ответил я, пробираясь по рядам.
– От какой партии выступаете?
– От себя!
Солдаты захохотали. Тогда в оркестр вскочил рыжий гимназист в очках. Яростно вздевая к трапециям цирка руки, он закричал визгливо:
– Мы, анархисты, протестуем. Это не смешно, когда человек осознал себя. Мы требуем уважения к товарищу. Стыдно. Позор.
– Анархист, – зашептали вокруг меня.
Кто-то засмеялся:
– Пусть побрешет… Они занятные.
Многоликая толпа висела тяжелыми серо-черными ярусами. Не видя отдельных лиц, я чувствовал дыханье каждого. Миллионы пристальных глаз рассматривали меня с откровенным любопытством. Я смутился, но тотчас же, сунув быстро руку в карман, ущипнул живот, и разозлившись еще больше, закричал:
– Граждане… Я хожу и хожу… и хожу…
В рядах вспыхнул смех.
– Нечего смеяться, – чуть не плача крикнул я, – а будете ржать, так я и матом могу…
Цирк загрохотал окончательно.
– Продолжайте, продолжайте, – улыбаясь, сказал человек за столом.
– Я продолжу. Только говорить-то мне не о чем.
Гром аплодисментов смешался с буйным хохотом.
Человек за столом позвонил.
– Граждане, – сказал я, все еще трясясь от злости, – говорить не приходится, а только эти партии дурят нам голову. Партий нам не нужно…
Цирк зашумел.
– Раз все против режима, значит… как мне понять? Будем грызть друг друга – опять царь вернется. Нужно в одно идти. А это – дурость одна. Раз против старого режиму – должно значит… Я не могу высказаться, но… Граждане, призываю вас… Да здравствует весь народ…
– Верно говорит! – крикнул солдат в передних рядах.
Цирк загремел аплодисментами.
Я подошел к столу и сел на свободный стул.
– Тут президиум, – зашептал кто-то.
– Это ничего, – ответил я, – я немножко посижу и пойду. Мне на работу надо пораньше.
Человек с колокольчиком позвонил:
– Собственно говоря, предыдущему оратору отвечать не приходится. Выступление, как вы сами видите, не по существу. Кто следующий?
Тогда из ложи выпрыгнул на арену худой большеротый унтер-офицер.
– От какой партии? – спросил человек с колокольчиком.
– Увидишь, – злобно ответил унтер.
Бросив фуражку на стол, он поднял руку вверх.
– Товарищи. Председательствующий говорит: не по существу. Нет, товарищи, по существу говорил парнишка. Он молод и глуп, по-настоящему высказаться не может, но, товарищи, задумайтесь над его словами. По его, как будто все тут за революцию. По простоте своей парнишка думает, будто все зло только в царе заключается. А раз против царя – значит за народ. Глупый ты, глупый, – повернулся унтер ко мне, – да ведь и буржуазия против царя. Да, товарищи. Против. Мешает царь буржуазии. Силу они почувствовали. Сами в цари полезли. Видишь ли, им тесно сидеть с царем на шеях рабочих. Они теперь сами поудобнее располагаются.
Но что мы видим, товарищи? Мы видим молодую буржуазную власть. Надо отдать ей справедливость. Берется она за дело умно. Это уж не чета глуповатому царю.
– Долой! – крикнул чей-то голос.
– Ишь ты, – улыбнулся унтер, – и вонючий монархист, оказывается, слушает беседу. Бедовый какой.
– Так вот, товарищи, – серьезно сказал унтер, – если царь пользовался для угнетения силами полиции да жандармерии, то буржуазия, как более хитрая, пользуется услугами меньшевиков, эсеров, кадетов и другой политической жандармерии.
Цирк зашумел. За столом началось движение. Человек с колокольчиком позвонил:
– Я прошу вас…
– К чертовой матери! – закричал унтер.
– Позвольте!
– Довольно! Товарищи, мы знаем, что у нас есть классы. Трудовой класс и паразиты. Весь мир – это два фронта. Трудовой класс имеет одну свою большевистскую партию, паразиты пользуются услугами всех остальных партий.
Вой, свист, аплодисменты, крики и топанье ног пронеслись по рядам ураганом.
– Правильно!
– Правильно!
– До-ло-ой!
– Провокатор!
Унтер старался перекричать всех. Воловьи жилы вздулись у него на лбу желваками. Изо рта летели брызги. Лицо побагровело. Но все было напрасно. В дьявольском шуме нельзя уже было ничего разобрать. Человек с колокольчиком схватил унтера за рукав. Все остальные сидящие за столом кинулись к унтеру, угрожающе размахивая руками.
– Хулиган!
– Провокатор!
– Вон! Вон!
В это время в оркестре грянуло подряд три выстрела.
Цирк на мгновенье затих. Все головы повернулись в сторону оркестра.
Я увидел рыжего гимназиста с дымящимся револьвером в руках.
– Слово принадлежит мне!
– Долой-ой!
– К черту гимназистов!
– До-ло-ой!
Но гимназист, пальнув еще раз вверх, наставил револьвер на толпу.
– Я буду стрелять! – завизжал он, поблескивая стеклами очков.
На галерке заорал пьяный голос:
– Бей буржуев проклятых!
Солдаты вскинули винтовки.
– Товарищи! – вскочил унтер на стол. – Это провокация! Сохраняйте спо…
Человек с колокольчиком дернул унтера за ноги.
С диким воем ярусы цирка ринулись на арену. Я поднял стул и шлепнул с размаху человека с колокольчиком по голове.
Свет потух.
В темноте началась свалка.
Глава IX
Отец записался в третью партию, к эсерам.
– Замечательная партия!.. Сергея-то Александровича они укокошили. Царей сколько перещелкали, а губернаторов да министров и не счесть.
– Дурость это у тебя! – говорит дядя Вася, вписавшийся к меньшевикам. – Программы-то ведь разные!
– Это ничего! – крутит отец усы. – После разберемся, что к чему, а пока надо нам всех поддерживать. Пускай революция на ноги встанет. Которое ненужное – само отпадет.
* * *
А война продолжается. Везут раненых. Печатают списки убитых.
– Кто это Керенский?
– Из жидов, наверное! – говорит лавочник.
– Да ведь Алексанр Федорович!
– Неважно! Жиды для гешефта тридцать раз окреститься могут.
* * *
Солдаты бегут с фронта полками. Введена хлебная норма. Фунт на человека. Продукты на рынках исчезли. Голодают рабочие, голодает беднейшее население.
А Россия говорит, говорит, говорит. Митинги не прекращаются.
– Как выскажемся все, – смеется Евдоха, – тогда и за ум возьмемся!
Я ни черта не понимаю.
Керенский. Родина. Война. Голод. Революция. А что к чему, – разобраться трудно.
– Те же штаны, только назад пуговицами! – говорят все. – Революция прошла, а все осталось по-старому. Даже еще хуже стали жить.
А в городе говорят, говорят, говорят.
Рабочие-большевики кричат о классах, о буржуазии и пролетариате и критикуют Керенского, но путного от них ничего не добьешься. Классы да классы. А дальше-то что?
– Ну, ладно! – говорят у нас на заводе. – Согласны, предположим. Что ж делать-то надо?
– Записывайтесь в партию!
– А дальше?
Насчет «дальше» наши заводские большевики говорят туманно и сбивчиво. Пожалуй, они и сами не знают, что дальше.
– Контроль над производством!
– А еще?
– Землю – крестьянам!
– Ну?
– Мир без аннексий и контрибуций!
– Ну, ну!
– И вообще…
– Задница!
– А ты не ругайся!
– Смотреть на тебя буду?! Всем все роздал, а как ты это сделаешь? Облагодетельствуешь-то как?
– Очень даже просто! Голосуй за большевиков – вот все и будет!
– Эва! Учредилка-то, она когда соберется?
– Соберется!
– Пока соберется – подохнем на фронтах или с голоду. А хрен редьки не слаще.
* * *
Начались грабежи среди белого дня.
В соседнем доме самооборона убила двух солдат, забравшихся в квартиру.
На вокзале растоптали ногами солдата, укравшего чемодан.
Говорят, в деревнях жгут помещиков.
Дезертиры гуляют открыто, никого не стесняясь.
– Пусть дураки воюют, а с нас хватит! Помучились!
У меня появился товарищ Вася Котельников. Он старше меня на два года. Ему восемнадцать лет. Он состоит в партии большевиков.
– Ты понимаешь машинку! – просвещает меня Вася. – Тут у нас два класса. Мы и они. Вона они какие квартиры-то заняли. На велосипеде можно ездить. А жрут как? Мы небось на картошке сидим, а у них жаркое не сходит со стола. И ты заметь это: они же как презирают нас. Шляпы понадели и нос кверху. Паразиты ж проклятые. А ты возьми хотя бы табуретку. Дерево, положим, стоит двугривенный, да тебе за работу двугривенный, а продаст он за рупь. Вот тут и есть прибавочная стоимость. Шесть гривен он и положит в карман. Что ж выходит? Обобрал он тебя средь белого дня. Ты работал – тебе двугривенный, а он ручки в брючки – ему в три раза больше. И еще, паразит, презирает. Шляпу носит, провокатор. Вот это и выходят классы. А что другие партии, так это – паразиты форменные. Мешают они только. Я тебя не агитирую, а только говорю: смотри, вот тебе ладонь и все на ней, как стеклышко. У нас простая программа. Мы не запутываем. Ну, впрочем, тебя не примут. Годы еще не дошли.
– Годы что? В декабре мне семнадцатый пойдет.
– А понятно я разъяснил?
– Разъяснил понятно!
– Ну?
– Ей-богу! Сколько я слышал, а ты всех лучше, однако.
– Вот и славно!
– Хорошо растолковал. Этих… в шляпах которые, я всегда терпеть не мог… И без программы не любил.
– Да разъяснять тут нечего. Вот тебе мы, вот тебе они. Простая механика. А другие за буржуев.
– Не спутаю!
Как-то вечером Вася прибежал ко мне и с таинственным видом сообщил:
– Будем драться, кажется… Вся власть советам!
– Учредительное-то не будет, что ли?
– Учредительное – потом, а сейчас – вся власть советам.
– Ври больше! – вмешался в разговор отец.
– Ей-богу, правду говорю! Сейчас только товарищ из Питера приехал. Там уж больше недели наш верх.
– Бреши?!
– Ей-богу, товарищ! Верный человек привез известия.
– А Керенский?
– По шапке! Бои во весь опор. Делов что было! Рязанов – против, Луначарский – против, Зиновьев – против, Ногин – против. А Ленин – за! Ну, конечно, голосовать. Проголосовали – отклонить. Но тут – фронтовики: как отклонить? Опять голосовать. Ну, конечно, приняли.
– Да ты постой! – перебил Васю отец. – Ты толком рассказывай.
– Да я толком говорю. Чего ж еще?
– Спешишь больно! Ты скажи, в чем дело-то?
– Фу-ты, будь ты неладно! Да я ж и говорю: Временное правительство по шапке. Министров – в кружку. Под замок. Вся власть съезду советов.
* * *
Драться не пришлось.
В ту же ночь, 20 ноября 1917 года, власть перешла к совету рабочих и солдатских депутатов. На заборах появились плакаты:
РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ.
Второй всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов открылся. На нем представлено громадное большинство советов. На съезде присутствует ряд делегатов от крестьянских советов.
Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки.
Временное правительство низложено. Большинство членов временного правительства уже арестовано.
Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя полную демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством, обеспечит своевременный созыв Учредительного собрания, озаботится доставкой хлеба в город и предметов первой необходимости в деревню, обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение.
Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок.
Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. Съезд советов уверен, что революционная армия сумеет защитить революцию от всяких посягательств империализма, пока новое правительство не добьется заключения демократического мира, который оно непосредственно предложит всем народам. Новое правительство примет все меры к тому, чтобы обеспечить революционную армию всем необходимым путем решительной политики реквизиций и обложения имущих классов, а также улучшит положение солдатских семей.
Корниловцы – Керенский, Каледин и др. – делают попытки вести войска на Петроград. Несколько отрядов, обманным путем двинутых Керенским, перешли на сторону восставшего народа.
Солдаты, окажите активное противодействие корниловцу Керенскому. Будьте настороже.
Железнодорожники, останавливайте все эшелоны, посылаемые Керенским на Петроград.
Солдаты, рабочие, служащие, в ваших руках судьба революции и судьба демократического мира.
Да здравствует революция.
Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов.
Делегаты от крестьянских советов.
* * *
Улицы города забиты нестройными толпами прибывших ночью матросов.
Черные от копоти, они проходят, перебрасываясь шуточками, весело скаля зубы.
На тротуарах стоят горожане, одетые в меховые шубы, стройные барышни, чиновники, гимназисты, старые барыни.
– Братишки, – кричит приземистый матрос с черными усиками, – глянь, девочки какие. Сахар. Недаром Митька-то поторапливал.
На тротуаре покашливают, барышни, сердито хмуря брови и краснея, прячутся за спины других.
Заметив на углу попа в енотовой шубе нараспашку, один из матросов, покинув ряды, бросился к попу, широко открыв могучие объятия.
– Батюшки, – закричал матрос, как бы встретив родного брата после десятилетней разлуки, – товарищ поп, дорогой ты мой, простудишься ведь. Шел бы ты, милуша, домой.
Поп юркнул в толпу.
* * *
Матросы остановились против нас, в кинематографе «Форум». Вася Котельников, взволнованный прибытием, тянет меня к матросам:
– Пойдем! Поговорим с ребятами! Из самого Питера прикатили.
Послушать рассказы матросов о питерских делах было заманчиво.
Пошли.
Перебежав улицу, мы остановились перед стеклянными дверями кинематографа. У дверей, под оборванной афишей, на которой была нарисована женщина с букетом белых цветов, сидел, развалившись на стуле, матрос, пощелкивая семечки. Он был черен от грязи и копоти. Белки глаз сверкали, точно куски сахара. Нижняя губа матроса была рассечена, кровяная корка запеклась на губе толстой коростой. На широких плечах ладно сидел распахнутый матросский бушлат с тусклыми медными пуговицами. Матросская бескозырка с золотыми буквами опускалась на широкий, выпуклый лоб.
Щелкая семечки, матрос обнажал ослепительно-белые зубы, лениво выплевывая шелуху на тротуар.
Мы встали перед дверью. Матрос оглядел нас с ног до головы.
– Ну? – сплюнул он шелуху на живот Васи.
Вася отряхнулся.
– Нам бы поговорить с товарищами, – взялся Вася за медную ручку двери.
Матрос спокойно снял его руку, затем, подбросив семечко, ловко подхватил его вытянутой губой.
– Как, то исть, поговорить? О чем поговорить?
Вася сконфузился:
– Интересуемся событиями…
– Та-ак, – протянул медленно матрос, с любопытством рассматривая нас. – А почему же это интересуемся?
– Странно, – пожал плечами Вася, – должны ж мы интересоваться все-таки…
– Это не дефект еще, – надвинул матрос бескозырку на самый нос, – а может, вы провокаторы? Может, вы отряд собрались взорвать? Кто вы, миндали такие? Откуда притопали?
Красный от смущенья, Вася протянул матросу партийный билет, но матрос, не взглянув даже на билет, отстранил его ленивым жестом.
– На то и поставлен часовой, чтобы не пропущать разную гидру. Ну, я тебя, к примеру, пропущу, – продолжал он словоохотливо, – а ты пойдешь да бомбу кинешь… К чему же часовой тогда?
– Видишь, билет у меня…
– А бомбу кинешь, кто будет отвечать? – продолжал матрос, увлеченный собственным красноречием. – Бомба, она без разбору лущит. Один ужасный взрыв и – пишите расписку.
– Обалдел ты, что ли, – рассердился я, – зачем нам своих-то взрывать?
Я говорил так, как будто у нас в карманах находились склады взрывчатых веществ. Матрос опять передвинул бескозырку на затылок, открыв испачканный копотью лоб и жесткие, торчащие щеткой волосы.
– Ну ж, народ какой бестолковый. По-вашему, значит, часовой поставлен для блезиру… Часовой, братишки, лицо неприкосновенное. Я вот разговариваю с вами, а по уставу могу стрелять, потому – не полагается разговоров с часовым.







