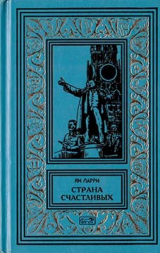
Текст книги "Собрание сочиннений Яна Ларри. Том первый"
Автор книги: Ян Ларри
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
– Лежа-ать!
Меня от волнения трясет. Я кусаю губы. Я не могу выдержать. Я сейчас буду стрелять. В этот момент я слышу за спиной свистящий шопот:
– …ю…ю…а-ю-щ-щему… Ого-онь!
Короткий толчок в плечо.
Рядом грохнуло, затрещало, точно отодрали доски от забора. Сверху посыпались ветки. Захлебываясь, застучали пулеметы.
Выпустив обойму, я начал было заряжать, не спуская с глаз припадающие к земле цепи чехов. Кто-то меня толкнул в бок. Мимо моего носа поехал штык.
Я оглянулся.
Сзади меня лежал усатый красногвардеец с забинтованной головой, протягивая винтовку.
– Стреляй, я заряжать буду! – крикнул усатый.
Рядом с ним другой раненый вталкивал здоровой рукой обойму в магазинную коробку. Этот, очевидно, «работал» на Евдоху.
…Чехи падают. Смыкаются на ходу, вскочив, бегут, согнувшись до земли. Над нашими головами метет пулями. Нас отделяет не более ста шагов.
Ветер кидает в лицо ошалелый вой.
Выбросив штыки вперед, чехи с криком бросились на нас. Но, точно под сильным ветром, цепь закачалась, закрутила и, осыпая фигурами, внезапно поредев, упала.
Толкая обойму в магазинную коробку, я вижу: чехи пятят назад.
Цепь легла, степь закипела под лопатками.
В небо взлетела ракета. Одна. Другая. Третья.
– Эх, дьявол, – слышу тоскливый голос Волкова, – артиллерию зовут.
* * *
Слышны глухие, сверлящие воздух звуки.
– Ж-ж-ж-ж!
Прижимаю нос к холодной земле.
– О-о-ох!
Оглушительный взрыв сбоку.
– Дз-з-а-а-ан!
Осколки со свистом летят над головами. Кто-то дико закричал и смолк.
Земля задрожала. Железный грохот ударил в уши. Затем с треском и гулом ухнуло наземь дерево. Начался артиллерийский обстрел. Воздух наполнился скрежетом, воем, шипеньем, грохотанием полосового железа. Взрывы – один за другим! Опушка леса превращается в грохочущий ад. Впереди, сзади, по сторонам – сплошное огненное море, взлетающие столбы земли. Густой, едкий дым заволакивает воздух. Отдельных взрывов уже не слышно. Все сливается в потрясающий рев. Земля дрожит, трясется, гудит. Снаряды корежат лес. Сыплются комья земли, щепы, сучья, свистят осколки.
Я закрываю голову руками, жмусь к земле, царапаю ее ногтями. Мне кажется, что я открыт со всех сторон. Хочется зарыться в землю, уйти глубже, забраться в нору. В рот лезут травы; на зубах скрипит песчаник. Лязг и грохот обваливающегося железа усиливается. Горячее дыхание опахивает шею и руки.
Я теряю всякое представление о времени. Голова отяжелела. Глубокое безразличие охватывает меня. Опустошенный, я лежу, прислушиваясь к звону в ушах.
– И-и-и-и! – звенит на одной, высокой ноте.
Я сжимаю зубы. Звон прекращается. Открываю рот, и в уши снова вползает:
– Ии-ии!
Я пробую еще раз. Потом начинаю тихонько визжать, стараясь попасть в ноту звона. Но горло совсем пустое. Я чувствую, что тело мое пропало. Сколько времени продолжается обстрел, я не знаю. Я даже перестаю слышать грохот. Я растворяюсь в нем.
В голове – ни одной мысли.
* * *
Внезапно обстрел прекращается. От наступившей тишины больно ушам. Отупевший, я поднимаю тяжелую голову. Рядом поднимается голова Евдохи.
– Ага-а? Мы живы еще?
Усатый красногвардеец лежит, ткнувшись головой в землю, молча подтягивая под себя ноги, вздрагивая телом. На вытянутой руке медленно шевелятся пальцы.
Матерясь и стеная, приподнялся грузчик Кульник. Охватив руками сосну, он дернулся телом вперед. Его начало рвать кровью. Лес наполнился стоном и матерщиной. Кочегар поднял от земли серое лицо. Наши глаза встретились.
– Вот гады! – крикнул кочегар. Вытащив из-под себя винтовку, он перевернул ее, сбрасывая с затвора землю.
– Встают! – закричал «Всех скорбящих».

* * *
Вой разрывает тишину. Я вижу цепи чехов. С винтовками наперевес они бегут на нас, громко крича. Сзади – свисток.
Лес ожил.
Лихорадочно застучали пулеметы, затрещали винтовочные выстрелы.
– Ага-а? Мы живы?
Злоба наливает меня до краев. Я поднимаю винтовку, стреляю, целясь в кучки атакующих. Внезапно Евдоха вскакивает. Выкинув левую руку вперед и раскорячившись, он подпрыгивает. К чехам летит граната.
Я хватаюсь за гранаты.
Одна.
Две.
Немецкая, ребрастая.
Кориц, гладкая бутылка.
Вскочив, кидаю гранаты. Падая на землю, лихорадочно хватаю винтовку, но тотчас же в голове проносится мысль: «Не заряжена! Не успеть!»
Тогда я снова хватаю гранаты. Чехи уже близко. Вот, вот. Сейчас, сейчас. Я тороплюсь. Скорей! Успеть бы! Я зацепляю крючком за ушко терки. Скорей! Ах, черт! Вскочив, рву левой рукой терку. Размахнувшись, с силой бросаю вперед. Падаю.
Шарю руками. Хватаю бутылку Корица. Кольцо? Здесь! Вскакиваю, верчу бутылку над головой. Бросаю.
Пулеметы захлебываются, заглушая винтовочную частую стрельбу.
Я чувствую: кто-то бежит за моей спиной. Глянув боком, вижу военрука. Он падает рядом со «Всех скорбящих», кричит ему что-то, берет его винтовку. «Всех скорбящих», поднявшись, бежит, согнувшись в три погибели, поддерживая шашку рукой! Куда он?
Чехи, падая, смыкаются на бегу.
Уже не более пятидесяти шагов. Внезапно справа и слева вскакивает наша цепь.
– Ур-р-р-ра!
С молниеносной быстротой я хватаю гранату, подкидываю ее в правой руке.
Волоча винтовку за ремень, кидаюсь вместе со всеми вперед.
Подпрыгнув, бросаю гранату.
– Ур-р-р-ра!
Шашка путается в ногах. Я откидываю ее назад. В голове проносится молнией тоскливая мысль:
«Без штыка винтовка!»
Я перевертываю винтовку прикладом вверх.
Прямо на меня бежит приземистый чех, выкатив оловянные страшные глаза. Белые, точно приклеенные усы вздернуты над широко раскрытым ртом.
Вот. Вот.
Я хочу отпрыгнуть в сторону, но меня плотно сжимают с боков.
«Ударить по винтовке!» – вихрем проносится мысль.
Чех спотыкается. Я налетаю на него. Со всего размаха бью плашмя прикладом по голове. Чех падает на карачки, мотает головой. Фуражка с кожаными ремешками летит на землю. Перевернув винтовку, я ударяю его по голове острым углом. В лицо брызжут горячие капли. Я хватаю его винтовку. Бросаюсь вперед. Все смешалось в кучу. Красногвардейцы, матюгаясь в бога, в веру и мать, остервенело дробят черепа, рвут чехов штыками в клочья.
– Бра-атв-а-а-а!
– Жмара-ай!
Лязг штыков, крики, тяжкое дыханье, стон. Глаза наполняются кровавым туманом. Сквозь туман вижу лысьвенского молотобойца Мельникова. Окровавленный, без фуражки, он отбивается винтовкой, точно дубиной, от двух высоких чехов. Я подскакиваю сбоку. Со всей силой бью штыком в неожиданно мягкое тело.
* * *
Чехи дрогнули. Я слышу сзади крик. Повертываюсь.
Из леса бегут с лошадьми отрядники. Вижу отца. Он тянет за собой трех коней. Бежит, вытягивая шею, шаря глазами по степи.
Сбросив штык, я перекидываю винтовку за плечи. Бегу к лошадям. Мои глаза встречаются с тревожными глазами отца. По лицу у него размазана кровь. Увидев меня, отец радостно дергает бровями. Бежит, спотыкаясь, ко мне.
– Жив, жив! – кричу я.
– Бери коня! – Бросив поводья Амбы, он прикладывает ладони ко рту. – Евдо-оха-а-а!
Запыхавшийся Павлов подбегает к отцу.
– Разберемся после! Давай! Давай!
И вскакивает на коня Евдохи.
Наша пехота обстреливает чехов. Они отходят расстроенными рядами, рассеиваясь по степи.
Мы быстро выстраиваемся лавой.
– Где тебя угораздило? – спрашиваю я у отца.
– Осколком! Сашу убило!
Впереди захрипел голос Акулова:
– Шашки во-о-он! В атаку, марш-марш!
Выдрав из ножен клинки, мы пускаем коней.
* * *
Конь стелется по земле. Я слышу, как играет у коня селезенка. Храп других коней настигает с боков. Навстречу летят пули, противно визжа над ухом.
– Ур-ра-а-а!
С гиканьем и воем мы летим к убегающим в беспорядке чехам. Кони храпят, жмутся, прерывистое дыханье несется вместе с нами. Дикая злоба подкатывается к горлу.
– А-а-а-а!
С коня через голову летит, растопырив руки, Желнин.
– Эх, вдарю!
Чехи сбиваются в кучу, образуя каре. Но уже правый наш фланг врезается с воем в каре: мнет, рубит чехов, топчет конями.
Голова работает с необыкновенной ясностью. Все кажется каким-то особенным. Стеклянным. Прозрачным. Я замечаю бегущего к балке высокого чеха. Раньше чем успеваю подумать, направляю коня за ним. Слышу тяжелый храп коней с правой и с левой стороны. Чех неожиданно выскакивает перед конем. Я опускаю клинок. Тупой удар отдается в руке: чех закрыл голову винтовкой. Конь взлетает свечкой. Рванув повод, я круто заворачиваю коня, кидаю его обратно. Чех снова поднимает винтовку. Упав на бок, я бью его клинком по руке. Бросив винтовку, он поднимает одну руку вверх. Перед глазами мелькает охваченное смертельной тоской лицо. Испуганный взгляд умоляет… Я с силою опускаю клинок. Чех падает под ноги коня.
– Навоевался?
Злоба распирает меня. Жалости к зарубленному нет.
– Царя налаживал? Из орудий долбил? Землю зубами заставлял грызть? Нахватался?
* * *
Чехи прыгают в балку, точно лягушки. Мы скачем вдоль рва. Снизу градом летят пули.
Бой кончен. Из оврага чеха не выковырять.
Мы повертываем коней. Скачем обратно. Около десятка лошадей – на поводу. Притороченные к седлам, молчат убитые товарищи.
Над головами гнусаво визжит шрапнель.
* * *
Полдень.
Чехи остались за балкой. Кажется, у них пропала охота к наступлению. Над степью висит звенящая тишина. Жгучее солнце палит немилосердно.
Мы скачем мимо трупов.
Глава XXIV
В лесу так тихо, что можно слышать, как падают ветки. Обливаясь потом, мы копаем братскую могилу, углубляя шанцевыми лопатками две больших воронки. Отец складывает на груди деревянные руки Саши и, качая головой, бормочет:
– Эх, Сашуха, Сашуха!
Потери большие. Около сотни красногвардейцев разорваны снарядами в куски. Много тяжелораненых и почти у всех легкие ранения. Неожиданно для себя я вижу рваную рану на запястье правой руки. Когда ранило? Чем? Этого не могу припомнить. Я накладываю на руку индивидуальный пакет. Волков помогает мне затянуть его.
Мы складываем убитых в братскую могилу. Сверху белохлыновцы кладут растерзанное тело своего командира с серьгами в ушах. Мы засыпаем окровавленную кучу тел землей. На могилу тихо падают шишки. Сосны шумят глухо, тревожно.
– Крест бы поставить… с надписью! – говорит бородатый красногвардеец.
Мы переглядываемся.
Павлов поднимает с земли винтовку с разбитым прикладом, втыкает штыком в могилу, затем берет фуражку в пятнах крови и вешает ее сверху.
– Спите, орлы боевые! – тихо говорит Павлов и опускает голову на грудь.
Тогда из тесных рядов выходит человек десять красногвардейцев. Отцепив с груди и фуражек красные банты, они осторожно кладут их на свежевзрыхленную землю.
* * *
Прыгая по корням, раскачиваются и скрипят двуколки, хлопают ременные кнуты.
Раненые стонут, приподнимают головы. Хватаясь за края двуколок, вытягивают шеи:
– Куда же теперь?..
Два фельдшера с повязками красного креста бегают вокруг двуколок, заставляя раненых лежать.
– Лежи, лежи! Недалеко уже!
Что недалеко? Где это недалеко? Кто знает об этом?
Продираемся сквозь лес. Закатное солнце сквозит багрянцем в просветах деревьев. Густая чаща леса темна и прохладна. Поваленные буреломом сосны преграждают наш путь. Мы обходим их. Скрипучий, однообразный визг двуколок нагоняет тоску.
Сгорбившись, идут красногвардейцы, скользя и падая, спотыкаясь о корневища, проваливаясь во мшаник. Винтовки с опущенными вниз штыками прилипают к серым широким спинам. Бренчат котелки и чайники, под ногами оглушительно хрустят сухие ветки. Красногвардейцы смотрят вниз.
– Кха! – кряхтит Евдоха.
Сучья царапают лица. Кони, вздернув уши, храпят. Проваливаясь в ямы, вздрагивают, кидаются в стороны.
Мы идем за военруком. Он ведет нас по карте и компасу. Сунув руку в карман, я чувствую, как пальцы мои погружаются во что-то мягкое. Я вынимаю холодную шаньгу и начинаю жевать ее.
– Шамаешь? – спрашивает Евдоха.
– Шаньги!
– А-а!
Он шарит по карманам и, вытянув шаньгу, отправляет ее в рот.
– Вкусная! – говорит Евдоха. – У нас таких не пекут. А бабы – правильные.
И неожиданно спрашивает:
– Боялся?
Я не знаю, что ответить Евдохе.
– А я боялся! – говорит он, не дождавшись ответа. – Особенно палили когда! Ну ж… голова даже кругом… Думал, конец приходит. А потом и бояться некогда. Все как есть вышибло. Лежу и не знаю: мертвый я, живой ли. Все смешалось.
– Долбили крепко! – кряхтит Волков. – Этак и немцы не часто лупили.
– Выходит, стало быть, хорошо покрестили?
– Куда лучше! – хмыкает Волков. – Тут даже похлеще немецкого.
– Похлеще? – почему-то радуется Евдоха.
– Похлеще! А главное – ни блиндажей тебе, ни куда укрыться. В блиндаже оно не… страшно.
– Ну, а интересно, – спрашивает Евдоха, – вот ты, как старый солдат: можно впоследствии привыкнуть или как?
Волков некоторое время молчит, как бы обдумывая ответ.
– Что ж… Привыкнуть ко всему можно, хотя навряд… К этому не привыкнешь, пожалуй… но такая практика – пустое. Оно тебя глушит, глушит и ни черта. Тупеешь вроде. А вот с протяжкой долбят – то похуже будет!
– Что это с протяжкой?
– А не сразу когда! Примерно, долбанут раз пяток и – перерыв. Ты только очухаешься. Опять. Долбанут и снова тихо. В себя придешь – опять. Замучают вот так-то. Нос высунуть боишься. Лежишь, будто дурак, и ждешь! А главное, не знаешь: не то перестал он, не то передышку дает. Бывало, как зарядит на целый день, так всю тебе душу вымотает.
– А по мне, – говорит Евдоха, – уж лучше бы поменьше, да не враз.
– Не испытал, потому и говоришь! Вот попробуешь, тогда припомнишь Волкова.
– А ты боялся сегодня?
– А чего ж мне не бояться? Больной был бы, так безусловно… Ты, браток, не верь, если услышишь, что не боится человек. Непременно хвастает. Потому – умирать никому не охота.
– Удивляюсь я, – говорит Евдоха, – ведь ты-то знал, на что идешь? От немцев испытал? А ведь пошел! Как же мне понять тебя, как не героя?
– Дура баба! А ты что ж? Домой теперь пойдешь?
– Как это домой?
– Да раз испытал?! Выходит, баста? Отвоевался?
– Я – другое дело! Я сам себе все знаю!
– Ну, и я другое дело! Сейчас, брат, по банку идет игра! В крупную играем! Тут о голове некогда думать!
– А боишься ведь?
– Мало что? Все люди должны бояться. А эти, думаешь, без боязни шли? Все боятся! Но, положим, на тебя медведь насел? Тут хоть бойся, не бойся, – а царапайся, отбивайся. На войне бояться не зазорно. Голову не надо терять, – вот вопрос. А голову потеряешь – пропал!
– Выходит, бежи?
– Бояться про себя надо. В душе! А лучше – не верить, что убьют тебя!
– Это верно, – соглашается Евдоха, – только заставишь-то как!
– Человеку всегда хочется в хорошее верить! Тут и заставлять не надо. Однако со временем не так страшно. Хоть и боишься, но ничего. Вспоминать только не надо, потому самый страх – не в бою приходит, а после.
Папоротник шуршит под ногами. Кругом шумят скрипучие сосны. Колючий шиповник заставляет коней шарахаться в сторону.
– Н-но, балуй, черт!
В лесу темнеет. Передние ряды останавливаются.
– Что встали?
– Эй, что там?
Вася скачет вперед.
– Опять чехи?
Раненые беспокойно смотрят на нас:
– Настигли?
– Настигли бы, так стреляли!
На всякий случай снимаем винтовки.
– Привал! – кричит скачущий обратно Вася. – Ночевать будем.
* * *
Ночь.
На лесной поляне пасутся кони. Павлов ковыряет штыком банку с консервами.
– От дьявол, крепкая какая!
Волков курит в рукав, равнодушно наблюдая за работой Павлова.
– Ты протыкай ее вкруговую, – советует Волков, – а так все одно не отодрать. Руки попортишь!
К нам подходит отец.
– Питаются! – кивает он головой в сторону коней. – А какая сила в таком корме?
– Ты бы овсом покормил своего!
– То-то, что овсом! А коня жалко! Чего он нащиплет?
– Ниче-его! Завтра подкормятся!
– Где ж ты завтра будешь?
– Да уж где-нибудь да будем! Не в лесу же отсиживаться?
– То-то, что не в лесу. А я тебе скажу: здешним лесам конца-краю нет. На тысячи верст – дерево. Когда еще выйдем?
– Завтра не выйдем – так не то что кони… самим нечего будет жрать!
– Консервами попитаемся!
– Попитаешься! Консервы, брат, того… Наповал! И двуколок не осталось. Такой, брат, суп сварганили чехи, что и ложек не надо.
По лесу бродят красногвардейцы. Треск сучьев наполняет лесную тишину до краев. С ворохами веток красногвардейцы возвращаются к поляне.
– Эх, и поспим! Все одно, что в гостях у тещи!
– Ну-ка, сторонись! Дай дорогу пуховикам.
– Мать честная! Простыни-то не захватили!
Красногвардейцы, шутя и смеясь, укладываются на мягких еловых лапах. Веселый голос в темноте говорит:
– Самое это разлюбезное дело на свежем воздухе спать. Мне это доктор завсегда, бывало, укоряет: вам бы, говорит, Иван Сергеич, на свежем воздухе спать, так все бы ваши нервы прошли!
– Ты что ж? Нервный, выходит?
– А как по-твоему: полагается рабочему нервы иметь? Я на этот счет ненадежный! К примеру, увижу борщ, так меня трясти начинает. Нервная слюна к зубам подступает.
– У нас Воронцов такой же!
– Ну, Воронцов, тот больше на баб нервный!
– Эй, Воронцов!
Сдержанный смех обрывает резкий окрик:
– Эй вы, жеребцы! Чего еще там?
Красногвардейцы начинают шептаться:
– А ведь баба согрела бы. Это уж как водится!
– Грели тебя чехи? Мало, что ли?
– Н-да, брат… Парили изрядно!
– Смотри ты: чех, чех, а храбрый, сволочь. Мить, ты спишь?
– Не…
– Чеха-то как мы с тобой? А?
– Ловкий, дьявол!
– Н-да!.. Я ведь в него раз пяток ткнул, а он, стерва, поведет штыком и – мимо.
– Теперь не поводит.
– Н-да… Теперь уж ему не поводить. Ну, однако, слабый народ. Чуть-чуть поцарапались и наутек.
– Так они же устамши. Пока до нас бежали, всю силу стратили. Это тоже надо понимать.
– Но много их больше было!
– Я ж говорю, устамши они. Хоть и больше, а устамши. И опять же не все штыки приняли. Которые сразу же повернули спину.
– О чем разговор нашли, – ворчит кочегар, – спали бы, мерины, да другим дали сон.
Разговоры стихают.
Глава XXV
Проснувшись, я с удивлением гляжу на звезды, просвечивающие сквозь темные ветви. Глухой, тревожный шум ночного леса нарастает в чаще, поднимается вверх и, овевая лицо холодом, уходит, шурша, в чащу. Земля, покрытая красногвардейцами, храпит, стонет, бредит. Неподалеку от меня кто-то шепчется. С биением сердца я прислушиваюсь.
– …глупости, Акулов! Глупости! Ты сам прекрасно понимаешь, как все это глупо!
Я с облегчением вздыхаю:
«Свои… Военрук!»
– Для ведения войны – нужна армия. Отряды – паллиатив. Ты сам теперь можешь убедиться, кто из нас прав.
– Шу-шу-шу-ш!
– Оставь, пожалуйста! Без штаба и без единого руководства, без правильного питания огнеприпасами, фуражом и прочим – воевать нельзя. Нужна армия, нужны опытные командиры, нужна военная организация. Иначе нельзя победить. Можно драться храбро, можно бить противника три раза в день и все-таки в конечном результате – нас побьют.
– Шу-шу-ш-ш-ш!
– И все-таки мы бежим. Мы не можем не бежать. У нас нет тыла, нет фронта, нет флангов – ни черта нет. Мы похожи на кота в мешке, который и рад бы запустить в кого-нибудь когти, но…
– Ты знаешь, что за эти два дня произошло? Может быть, мы уже в тылу у неприятеля? Да это и не может быть. В этом ни я, ни ты не уверены. Где наши отряды?
– А кто стрелял? Ты знаешь? Нельзя, Акулов, так… нельзя! Я знаю, ты ненавидишь старую армию, как ненавидит ее большинство красногвардейцев, но будь тогда логичным до конца. Брось винтовки и пулеметы и ступай в наступление с кочергой. Пулеметы же – это старое…
Я сейчас дезориентирован. Я чувствую себя отвратительно… Приехали, постреляли и побежали. Что? Зачем? Почему?.. Глупо! Очень глупо!
– Ш-ш-шу-шу!
– Тебе рекомендую смотреть за собой. Ты – плохой командир. Очень много суетишься, кричишь и слишком часто угрожаешь револьвером. Командир должен быть спокойным, хладнокровным и ровным. Как бы ни было плохо, ты должен сохранять равновесие. Ты не обижайся. Я по-товарищески говорю. А если ты заметил мои недостатки, скажи мне. Я не обидчивый!
– Ш-ш-шу-шу!
– Прекрасно!
– Всему должна быть мера. Они не обстреляны. Обучены плохо. Дисциплина у нас… средняя. Но самое главное и что упустили мы, так это – боевое воспитание красногвардейцев. Уметь владеть клинком и пулеметом – это еще не все. Надо учить бойца многому другому.
– Ш-шу-ш-шу-шу-шу!
– Завтра поговорим.
– Ш-шу-шу-шу-ш-ш!
– Идем, проверим! Да надо будет поспать немного.
* * *
Сильный дождь поднимает отряд на рассвете. Ругаясь, красногвардейцы бегут по лесу, волоча шинели, лезут под густые шатры елей.
– А раненые? Товарищи, так же нельзя.
Мы бросаемся к двуколкам, тащим их под деревья. Несколько красногвардейцев натягивают сверху полотнища палаток.
– Теперь не замочит вас!
Румяный фельдшер Кононов достает из двуколки зонтик, и, распустив зонт, он с важным видом сует ноги в калоши. Дружный хохот красногвардейцев заставляет фельдшера нахмуриться. Он щурит заплывшие глаза и выпячивает нижнюю губу:
– Ну? Заржали, спирохеты бледные? Заржали, гонококки? Зонта не видали? Дубье! Черти!
– Но, ты… интеллигенция немаканная! Разошелся?! И посмеяться нельзя!
Фельдшер трясет зонтом над головой:
– Молчи, объект для политани!
Фельдшер Кононов человек неплохой. Но стоит ему заметить, что над ним смеются, как он вспыхивает и начинает ругаться.
Он лезет из кожи вон, чтобы заслужить наше уважение. Он ругает профессоров и врачей, рассказывает нам о каких-то тяжелых больных, которых он вылечил и которых отказались лечить доктора. Но мы не верим фельдшеру и труним над ним. Некоторые красногвардейцы с невинным видом спрашивают Кононова:
– Фельдшер? – Это что же, вроде старшего санитара или еще выше?
Кононов вытягивает руку, стучит согнутым пальцем по лбу красногвардейца:
– Микроб! Как ты думаешь? Министр это старше повара?
Смешное в человеке легко заметить. Слабость фельдшера мы раскусили в первые же дни. И после того как Кононов повесил на теплушке дощечку с надписью: «Главный врач отряда А. С. Кононов, прием в любые часы», мы пользовались всяким пустяковым случаем, чтобы пощекотать его самолюбие.
– Бросьте, товарищ доктор! – мигает Русаков. – С необразованными свяжетесь – сами необразованными будете. Это известные бузотеры!
– Да нет! – смягчается фельдшер. – Зонтиком пользуются культурные народы, а этим, – он презрительно вытягивает голову в сторону смеявшихся, – смешно сдуру! Одно слово – микробы!
Дождь прекращается. Выходит на поляну Акулов:
– Станови-и-ись!
Мы застегиваемся, приводим себя в порядок. Фельдшер, высоко подняв зонт над головой, идет через поляну и важно говорит Акулову:
– Я скажу, когда можно идти. Сейчас мы будем делать перевязки.
Он свертывает зонт, вытягивает живот и кричит:
– Товарищ Колычев! Прошу приступить!
Колычев – второй фельдшер отряда, молча вынимает из двуколки брезентовую рыжую сумку с красным крестом. Мы обступаем двуколки с ранеными. Фельдшера быстро разбинтовывают раненых. Под белой марлей всплывают темные пятна крови.
Бинты точно приклеены к голове. Фельдшер тянет конец бинта.
– Ну-ка, друг, сожмись слегка!
– А-а-а-а!
– Уй, дьявол!
– Все! Все! Ну, вот, уже и подсыхает! Еще пару дней – и все в порядке!
– Что там у тебя? Покажь!
Высокий красногвардеец показывает разбинтованную руку.
– Царапнула! Иодом бы смазать.
– Пустяки! – вытягивает губу Кононов. – Водичкой промоешь.
– Жалко тебе иоду, что ли?
– На это тратить иод? А если серьезное ранение? Тогда что? Санталовым маслом?
– Да ведь кость видна!
– А ты не растягивай, вот и не будет видно.
– Ты что ж, – вмешивается Акулов, – мало взял иоду?
– Взял тройную порцию. Да только вы уж очень ретивы, друзья! Так будете воевать – иоду на вас не напасешься. Что иод? Бинтов нет! Перевязать нечем.
– Как? Совсем нет?
– Раз нет, значит, нет. Не совсем нет не бывает. Еще по разу перебинтовать и все. А в случае боя – беда.
– Та-ак, – багровеет Акулов, – значит, без медикаментов выехал?
– А ты подбери еще всех… Белохлыновцы вон ни бинта, ни грамма иоду не вложили, а забрали на 110 человек.
* * *
Перевязка закончена, и мы выстраиваемся на лесной поляне. Кавалерийский отряд впереди, белохлыновцы – сзади. Акулов поднимает руку:
– Товарищи!
– Постой! – кричат белохлыновцы.
Сбившись в кучу, они о чем-то горячо спорят.
– В чем дело?
– Постой! Командира выбираем!
Они стоят, опираясь на винтовки. Почти у всех красногвардейцев перевязаны бинтами руки, шеи, головы. Повязки перетягивают почерневшие лица. Головы многих бойцов похожи на белые шары. Фуражки пристегнуты к головам ремешками. Стоят, образуя широкий круг, в котором бегает стремительный красногвардеец в разодранной рубахе.
– Товарищи, – кричит красногвардеец, – в этом расчет должен быть. Мы бьемся против буржуев до последней капли. Я не против Газунова. Парень подходящий. Я его сам есть личный товарищ, но в командиры не того… По военной линии он есть такая же пешка, как и не мы. Ты, Газунов, не обижайся. Мы, друг, с тобой во как. Но говорю на общую пользу. Против я Газунова.
– Верно! – поднял забинтованную руку высокий боец. – Я отвожу себя. Скажу прямо: хреновый с меня командир.
– Макарова!
– Степанова!
– Филю!
– Филю!
– Макарова!
– Филю!
– Филю!
Вышел широкоплечий боец. Пышный казачий чуб качался над черным лицом, затеняя быстрые, пронзительные глаза. Кольца лихих усов дрожали над розовыми губами. Широкая грудь распирала покрытую темными пятнами крови гимнастерку.
Поправив рукой фуражку, чудом сидевшую на пышных волосах, боец кашлянул в руку.
– Дозвольте, товарищи, в таком случае познакомить вас со своей автобиографией.
Он кашлянул еще раз в руку и лихо повернулся на каблуках.
– По личной жизни я угнетался у купцов Стрешневых. Таскал мешки с утра до ночи. В надрыв угнетался. Устроился впоследствии на пристань к пермскому кровопийце Мешкову и здесь развивался, как мог. Еще служил у братьев Каменских и у Любимовых. В империалистическую войну погнали меня защищать буржуев и заставили проливать безвинную кровь по всему фронту. По случаю храбрости мне вышло производство в ефрейторы, а дальше – в младшие унтер-офицеры и вплоть до старшего. Три лычки, так сказать… Хотите – выбирайте, хотите – пролью кровь в простом звании рядового бойца. Мне это безразлично.
– Товарищи! – вышел бородатый красногвардеец. – Филю Гусева знаем. Гусев показал свою беззаветность, уложив на моих глазах трех чехов.
Чубастый Гусев передернул плечами, как бы желая сказать: «Стоит ли говорить о таких пустяках», и потупил глаза.
– И как военный, – продолжал бородатый, – имеет специальность. Лучшего командира не придумать нам.
– В очко плутует! – крикнул звонкий голос.
– Это верно! – тряхнул чубом Гусев. – В картах я не сдержанный, но выберете командиром – точка. Выбывает игрок с кона. В руки не возьму. Мне тогда не играть придется, а заботиться о бойцах отряда. Сами ведь знаете, какие обязанности командира. Не доспишь, не доешь, а бойца ублаготворить надо.
– Голосуй!
Бородатый красногвардеец вытянулся на носках, повел по рядам строгим взглядом.
– Кто желает в командиры Филю, то есть товарища Гусева, прошу поднять руки.
Гусев надвинул фуражку козырьком на нос, чтобы не видеть голосующих.
Красногвардейцы подняли руки.
– Кто против?
Несколько рук поползло вверх. Против голосовало меньшинство. В числе голосующих против я заметил Акулова, военрука, кочегара и Волкова.
– Подавляющее большинство! – сказал бородатый. – Принимай, Гусев, власть.
Чубастый солидно кашлянул и поклонился.
– Постараюсь, товарищи, оправдать целиком ваше доверие. Но предупреждаю: слушаться без задержки.
И молодцевато гаркнул:
– Станови-и-и-и-ись!
Гусев положил винтовку в двуколку, взял из рук молодого парня кобуру с револьвером и встал перед отрядом. Кавалерийский отряд встал на свое место.
– Товарищи! – крикнул Акулов, обращаясь к белохлыновцам. – По договоренности с прежним вашим командиром общее командование было у меня. Но можно сделать переизбрание.
– Командуй! – гаркнул Гусев. – Доверяю!
– Тогда прошу всех слушать, что скажет сейчас военрук, или наш военный инструктор.
Раздвигая сучья деревьев, из леса выехал Краузе.
– Товарищи, – тихо сказал он, хлопая коня по шее, – два боя, в которых мы участвовали, научили нас многому. Но мы еще большему научимся, если спокойно разберемся в подробностях этих боев… Я должен слегка… ну, что ли… поругать белохлыновцев… Когда позавчера показались чехи, белохлыновцы начали митинговать. Одни требовали пустить поезд задним ходом, другие настаивали на том, чтобы открыть огонь, третьи предлагали что-то совсем несуразное. Так нельзя. Митинговать на виду противника – паскудное дело. Но еще хуже, когда все начинают командовать. В бою может быть только один командир. Остальные же обязаны беспрекословно подчиняться. Вот после боя – пожалуйста, критикуйте. Или вот при обсуждении предстоящей операции. Пожалуйста – советуйте. Это – принципы Красной гвардии. Но когда противник уже сел на нос, – тут митингов не может быть, тут всякое промедление грозит разгромом. Я не посягаю на ваше право обсуждать военные операции. Но всему место. У вас нет дисциплины.
Ряды отрядников заворчали.
– Я не про старую дисциплину, – поправился военрук, – я говорю о дисциплине внутренней, которую прививают не зуботычинами и палкой, а сознательностью.
– Спайки нет! – крикнули из рядов.
– Ну, спайки, если вам не нравится слово дисциплина. Хотя какая уж тут спайка. Дело тут в том, что вы… как бы это сказать… не точно выполняете приказы командиров. Дрались вы вчера хорошо. Но потери очень большие. Их могло быть меньше. Взгляните на наш отряд. Несмотря на то, что мы находились под одним артиллерийским огнем, мы потеряли в четыре раза меньше, чем вы, белохлыновцы. Что это? Счастье? Конечно, нет. Наш отряд выполнил приказанье и рассыпался редкой цепью, а вы лежали кучами, да еще в нескольких цепях.
– Мы не успели!
– Неправда! Вы заняли позиции раньше нас. И потом еще: надо быть болваном, чтобы окапываться на опушке леса. В таких случаях нужно или вперед выходить, или уйти глубже в лес, так как опушка леса является прекрасной целью для артиллерии. Следовало бы выбрать позиции перед лесом, но вы так торопились…
Краузе развел руками:
Некоторые красногвардейцы захохотали.
– …знаю, что о позиции думать было некогда. Вот все, что я хотел сказать. Значит, долой митинги, доверие командирам, точное выполнение команды, спокойствие. Никогда не торопитесь стрелять, цельтесь спокойнее. Лучше наверняка одну пулю пустить, чем без толку сотню выпустить. Стреляй редко, да метко. Помни, что, когда пускаешь пули за облака, противник ободряется, он перестает тебя бояться, но если он будет видеть, как валятся его товарищи, он станет теряться, путаться, у него пропадает охота подойти к тебе ближе. Подпускай противника ближе. Поставь себе заданье: выбить только трех наступающих, и этого достаточно. Если каждый выбьет трех, то у противника не так много останется людей для атаки. А потом – посекут пулеметы да гранаты. Ну, а если он все же кинется в атаку, принимай в штыки. Здесь уж противнику не устоять против нас. Смотрите-ка, какие вы все черти немазаные. Воз штыком свернет каждый. Избу разворотит.







