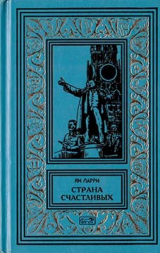
Текст книги "Собрание сочиннений Яна Ларри. Том первый"
Автор книги: Ян Ларри
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Глава XVIII
Среди людей, вновь влившихся в отрад, особенно выделяется еврей Бершадский. Похож он на ярмарочного торговца. Плутоватые глаза не уставая шарят по сторонам, до всего дотрагиваются, все прощупывают, все обнимают.
– Беспокойный человек! – определил Бершадского Евдоха.
– Трясучка! – осудил толстый Бобурин.
Первые дни он никому не нравился, но вскоре мы стали ходить за ним табуном, с раскрытыми от удивления ртами. Матюгался Бершадский до того красочно, что многие нарочно поддразнивали его, а Волков так даже записывать начал в книжечку кое-какие его загибы. Но кроме того, нас поражал Бершадский неожиданными, не слыханными поговорками.
– Бершадский, побрился бы ты!
– Чтобы чирьи порезать и заражение крови схватить? Ну, ну! А я так думаю: лучше еврей с бородой, чем борода без еврея.
Были у него десятки поговорок, которые он рассыпал походя:
– Кто много говорит, тот много ошибается!
– У меня столько денег, сколько у набожного еврея свиней.
– Кому везет, тот и по льду плывет.
– Дают – бери, берут – кричи.
– Везде помощь хороша, но не у миски.
– Плюнул кверху – на лицо получишь.
– Когда бедняк ест курицу, значит, болен: он или курица.
– Козел страшен спереди, лошадь – сзади, а глупый человек со всех сторон.
– Как это ты придумываешь ловко? – спрашивали у него.
– У нас в Одессе хуже не выдумывают.
– А сам ты какой будешь?
– Сам-то? А какой угодно. Профессор по портняжному делу, ассистент по квасоварению, могу лудить, паять, делать американскую замазку, могу быть сапожником из Парижа… Всего сразу не расскажешь.
– Ловкий, значит, ты…
– Царь-батюшка сквозь обруч учил прыгать. Без этого еврею не прожить было.
– А в Красную гвардию зачем попал? – спрашивает Мельников.
– А ты зачем?
– Вот на…
– Ну-на! Мы все от этой «на» записались.
– А не сразу почему?
– Сразу-то родятся русские, а мы, евреи, думаем девять месяцев: родиться или не родиться.
Все захохотали.
– А Мельников – он сразу, – пытается кто-то острить. – Пока батька с маткой спят с устатку, он родился и самовар раздуть успел. Вставайте-ка, родители. Полюбуйтесь сынком.
– А сам ты здешний?
– Сам из Киева я, товарищи.
– Эка, забежал откуда.
– Чем тебя в Киеве смазали?
– Да вот, понимаете, выступал я немножко насчет политики. Не совсем чтобы за большевиков, а около. Ну, немножко дрался, с кем надо. А тут петлюровцы. Здравствуйте, бабушка. Гроб вам принесли. Утром гляжу через окно на температуру, а вместо температуры гайдамаки по двору ползают. Ну, принял я себе аспирин от нервов и лег на кровать. Только засыпать начал, – слышу: бам, бам. Ну, войдите, говорю, если вам так хочется. Вваливаются два хлопца. Морды глупые до рвоты, вроде кобылячьего заду. Хотя, что ж, думаю, не замуж мне за них выходить. Пускай существуют на свете. Так я, думая, стою, а они меня страшивают: «Бершадский здесь живет?» – «Нет», – говорю. Я, знаете ли, на всякий случай никогда не говорю, что я Бершадский. «А где?» – спрашивают. «Если, – говорю, – вам Моисея (а меня Моисеем звать), так я его через минуту вам приведу. Может, вы его заставите отдать мне сто карбованцев». – «Тащи, – говорят, – его. Мы ему, жиду, покажем цацу». Ну, я и пошел себе. Конечно, интересно бы посмотреть, что за цаца. Но, думаю себе, весь век без цацы жил и дальше проживу без нее… Ну, и удрал с божьей помощью!
– А ты в бога своего веришь?
– Почему в своего? Возьмите его себе за кусок сахару. Хотя в бога верю! Скучно без бога. А бог у меня веселый. Показать?
Спустя неделю Бершадский принес скрипку, и неожиданно маленькая и черная от старости скрипка родила большой оркестр. Фрезеровщик Павлов вспомнил, что он тоже музыкант, и притащил в казарму гармонику. Маляр Баранов достал из сундучка дудку, которую увез из полкового оркестра царской армии. Маслов притащил балалайку.
Жена телеграфиста Желнина подарила мандолину. Отец и Евдоха раздобыли заслонки и с увлечением заменяли барабан.
Вечером – в казарме дым коромыслом. Мы поем песни, помогаем оркестру свистом, слушаем и смеемся. Мы не любим печальной музыки. Вальсы всякие мы слушаем рассеянно, а иногда требуем:
– Прекратить!
– Давай веселую! Где штобы шуму побольше!
Особенно не любит вальсы Евдоха.
– Плешь это, а не музыка! И зачем только допускали такую. Кишки заходятся, пока слушаешь, не понимаю, как люди удовольствие находили.
– Говорят, и деньги платили!
– А я думаю так, – размышлял Евдоха, – тешили, тешили себя буржуи веселой музыкой – надоело. Ну, и придумали с ковыряньем.
– С чем?
– С ковыряньем! Ковыряет его этот вальц для аппетита, и все тут. Все печальное – это буржуи выдумали.
– А как же солдатские песни? Они ведь сплошь печальные.
Евдоха растерянно мигает глазами:
– В-верна! Значит, не буржуи. Но безусловно я ничего не понимаю в этом.
Когда в казарму к нам приходят политические руководители, мы пытаемся разрешить волнующие нас вопросы, но увы – безрезультатно. Политруки не интересуются ни музыкой, ни песнями.
– Рано об этом, товарищи! Вокруг лежат более насущные вопросы. Да, по совести говоря, не случалось задумываться над этим.
– Не знаете, значит?
– Нет… Но, во всяком случае, с плеча не разрубишь такого вопроса. Чтобы судить о музыке, надо знать ее. А если вальсик вам не понравился, так это еще ничего не значит… Впрочем, надо поговорить в губкоме.
Однажды к нам привезли блестящий, отлакированный рояль. Его поставили в углу. Потом пришла женщина с напудренным носом и сказала:
– Мне передали в губкоме, что вы интересуетесь музыкой. Я буду проходить с вами курс. Но придется начать нам с гамм. Вам это не слишком понравится, я думаю, однако…
Мы растерянно переглянулись.
– Собственно говоря, – выступил вперед Вася, – учиться не мешало бы… Сколько, между прочим, надо лет… Ну, чтобы играть?
– Чтобы хорошо играть – нужно учиться лет семь.
– Не подходит, – переступил с ноги на ногу Вася, – да мы и не просили учителя.
Женщина с напудренным носом почему-то испугалась:
– Но как же… Мне сказали… вы подумайте… Может быть, со временем… Паек я все равно уже получила.
– Вы можете объяснить нам музыку, – спросил Евдоха, – почему печальная и почему веселая?
– Печальная? Ну, если человеку тоскливо, он сочиняет печальную музыку, а если весело – веселую.
– А почему один всегда только печальную, а другой – веселую? Вот в трактире «Уют лихача» музыкант один ходил. Так ни за какие деньги, бывало, не играет веселых песен. А играл он больше… забыл я фамиль-то… какого-то одного сочинителя…
– Ну, разве можно судить по музыке в трактире…
– Звиняюсь, – перебил Евдоха, – я это уясняю великолепно, но я к тому хочу сказать: стало быть, есть такие, которые сочиняют одно веселое, а другие – печальное.
– Вы не любите печальной музыки?
– И никто не любит!
– Но почему?
– Тоску нагоняет печальная-то!
– Бывает же тоска, облагораживающая человека, – пояснила женщина – бывают страдания, через которые человек идет к счастью. Сильной радости не может быть у человека, если он никогда не знал глубокой печали.
– Я понимаю, – кивнул головою Евдоха, – выходит, что у буржуя в жизни не случалось этой тоски, так он свою порцию музыкой получал.
– Ни буржуи, ни пролетарии тут ни при чем! – проговорила женщина обиженным голосом. – Музыка стоит выше классов. Она общечеловечна. Она понятна и бедняку и богачу. Ее поймет и русский, и американец, и негр, и китаец.
Она села за рояль.
– Слушайте!
Худые пальцы с молниеносной быстротой помчались по клавишам. Рояль загудел и грянул весенним, радостным громом. Казарма наполнилась солнцем. В углах, под топчанами, с потолков и с подоконников помчались шумные весенние ручьи. Запахло почками и влажной землей. Слушая музыку, мне хотелось петь, размахивать руками, кричать, дурачиться.
Мы схватились за руки и начали петь. Подмигивая смеющимися глазами, мы орали всякую чепуху, притоптывали ногами. Шпоры на сапогах звенели малиновым звоном, и оттого казалось, что под ногами у нас хрустит мелкий и колкий весенний лед.
Музыка оборвалась.
– Ну, что? – повернулась к нам женщина.
– Хорошая песня, – ответил за всех Евдоха, – как вы играли, вся душа во мне перевертывалась. Вы нам и слова уж дайте. Мы в бой повезем эту песню. Под такую музыку буржуя резать в самый аккурат.
Женщина опечалилась.
– Странно, – пробормотала она. – А слова этой песни такие: кругом весна, цветут цветы, все смеется, все улыбается. Люди протягивают друг другу руки и, обливаясь счастливыми слезами, кричат: «Братья! Любимые!»
– О! – обрадовался Евдоха. – Ну, точка в точку и я так понял. Вы играли, а я и думал, как говорите вы. Хорошая песня. Жалко – слова нескладные. А ну-ка, еще чего-нибудь насчет объединенья пролетариев.
Женщина играла несколько часов. Но ничего уже больше не понравилось нам.
– Первая самая лучшая! – сказал Волков. – А в этих шуму много, а мотива не слышно. Там хоть и шум, да только к месту он. Сыграли бы ее напоследок.
Женщина опять заиграла первую песню. Мы опять стали пристукивать шпорами и подпевать. Евдоха, зная слова, старался перекричать всех:
– Весна, весна-а-а… Плачу я, бра-ат-цы-ы… Ох, и печально же вам ж-и-ить… А цветы цветут себе для буржуев…
Призываю, бр-а-атья, всех вперед. Будем би-и-ить проклятого бур-жу-у-уя…
Прощаясь, музыкантша сказала:
– Я все-таки буду к вам ходить.
– Ходите!
– Вы сами можете не учиться играть. Это не обязательно. Но учиться проникновению в музыку вам следует.
* * *
Она приходит по вечерам и играет на рояле. Мелодии, которые нам нравятся, она проигрывает по три-четыре раза. Всякий раз, когда мы слышим эти мелодии, мы узнаем их и радуемся им, точно старым знакомым.
– Что это?
– Персидский базар, Моцарта!
– А-а!
– Хороший мотивчик! Занятный! Будто узлами весь перевязан.
В губкоме нас спрашивают:
– Ну, как с музыкой?
Мы отвечаем:
– Учимся проникновению!
* * *
За окнами – буран. На улицах безлюдно. Улицы тонут в черной мгле. Где-то трещат заборы. Люди обрывают доски и тащат их к себе, растапливают печки и на ружейном масле жарят оладьи из картофельной шелухи и макухи.
Мы только что вернулись с облавы. Помогали милиции ловить шайку бандитов. Мы сидим, согреваясь горячим чаем.
– Я полтора часа вас жду! – обижается женщина с напудренным носом.
– Бандитов ловили! Некогда было!
– Поймали?
Женщина смотрит на нас широко открытыми глазами.
– Ага!
Она играет Шопена. Его мы узнаем. Остальных путаем. Почему запоминается Шопен – мы объяснить не можем.
* * *
Нашу музыкантшу зовут Лидия Михайловна. Она предлагает нам изучать литературу:
– Если вы скажете товарищу Зорину, вам завтра же пришлют инструктора.
– А есть тут в городе?
– У меня есть знакомый один. Очень опытный, старый критик.
– Что это за штука, критик?
– Критик – это человек, который хвалит или ругает книги.
Мы расхохотались.
– И деньги платят за это?
– Платят!
Евдоха покачал головой:
– Каких занятий только не было… бесполезных.
Лидия Михайловна обиделась.
– Странные какие вы все!..
– Смешно, – сказал Маслов, – ну как же так? Ходил бы я, к примеру, по мастерской, да и нахваливал всех или ругал бы кого там… А мне что же? Деньги за это? Это вы странные! Книгу-то писать тоже, поди, работа. Вон они какие толстые бывают. Подвигай-ка рукой. Ну, а тут является чтец и говорит: не нравится. А ему за это – цоп, да катеньку, а может еще большую сумму.
– Вы слишком упрощаете, товарищ! Критик разъясняет книгу. Вот это, говорит критик, – хорошо. Это, говорит, плохо.
– И неужто верят ему?
– А как же?
– Мошенничал народ! – сердито плюет Маслов. – Как же это можно одного человека слушать во всем? А может, сам-то он первейший идиот в свете?
– Разрешите, – вмешивается телеграфист Желнин, – я хочу сказать, что критика, конечно, нужная вещь. Но товарищи правы, когда смеются. В самом деле: для кого это важно – понравилась такая-то книга критику Иванову или не понравилась. А что нам до того, что она не нравится ему? Максима Горького ругают критики, а я его всех выше ставлю! Горького-то многие критики и за писателя не считают, а жена моя плачет над ним. При социализме не будет критиков.
– Напрасно, товарищ Желнин, – краснеет Лидия Михайловна, – критика помогает понять красоту… И обычно критиками бывают наиболее развитые люди; если не будет критиков, как же люди будут знать, что следует прочитать, и мимо чего можно пройти.
– А кто это может сказать, – пожимает плечами Маслов, – что следует, а чего не следует? Вон в нашем доме студентка жила. Куда, кажется, образованнее. Выше-то студента что есть? Однако, при всей учености, давала нам читать белиберду. Я-то, признаться, думал себе, где думаю, как не у студентки политические книжки. А мне она другие сует. Предположенье я имел сначала: думал – боится она меня, а то еще думал скрытый смысл найти в книжках. А что увидел. Про одну любовь, да как она страдала, да как шуры-муры разные… Читаешь и обидно за человека. Неужто и жизнь вся тут – около юбки. Она страдает, он уезжает. И что ни книжка – одно и то же… Не спорю, надо, безусловно, и про это писать. Любовью-то каждый переболеет в свое время. Ну, а еще-то где? Которое любви важнее? Вот вам и критики…
– Может, намек она тебе давала?
– А сами-то критики и писать не умеют, – говорит Желнин, – ни у одного критика нет романов.
– Ври-и?
– Это правда, – улыбается снисходительно Лидия Михайловна.
Хохот валит нас с ног. Прижимая руки к животам, мы смеемся до слез.
– Ах, курья нога! – кричит багровый от хохота отец. – Вот ловкачи, а?
Евдоха вытирает согнутым пальцем слезы и, качая головой, выбрасывает слова вместе с удушливым кашлем:
– Ах, мазурики! Ну, наро-од… Удумают же…
Лидия Михайловна обижена.
– Бог знает какие вы странные… Я предложила… Не хотите – дело ваше.
– Нет, нет! – запротестовали мы. – Теперь непременно давайте.
– Теперь за пять верст побежим посмотреть.
– Пускай придет! Поглядим! Может, по дурости хохочем…
Прошло несколько дней. Политрук Дудник, толстый, широкоплечий украинец, спросил как-то:
– Все понимаете в лекциях по литературе?
У нас глаза на лоб полезли.
– Какая литература?
– Был у вас Пружанский?
– Никакого Пружанского не знаем.
Дудник свистнул:
– Смылся, сукин кот. То-то я смотрю… Паек взял за три месяца вперед, а плана не представляет…
Спустя неделю повар Ткачев назвал Бершадского критиком, Бершадский разбил повару нос.
Со словом «критик» стали обращаться после этого осторожнее.
Глава XIX
После обеда мы читаем газеты. Они синие, желтые, оранжевые, серые, голубые. Бумага твердая, шрифт стертый. Статьи такие большие, что как только взглянешь, так и спина начинает болеть. Мы читаем газеты, начиная со стихов Демьяна Бедного, потом переходим к телеграммам. Длинные статьи читает железнодорожник, и, если они кажутся ему интересными, он в двух словах передает нам их содержание.
Мне газету читать не под силу. Очень мелкий шрифт, да и слова отдельные без начала и конца. А вместо фраз – разные точечки и крючочки. Половина газеты замазана, затерта.
Лучше всех справляется с газетами Бершадский. Не смущаясь отсутствием в тексте многих слов, он смело плавает в газетных столбцах, добавляя, при случае, «от себя», объясняя затертое «собственными словами».
– Английские газеты, – читает Бершадский, – полны злобными выпадами против… затерто… Но, очевидно, выпадами против Волкова, Маслова, Евдохи и всего отряда в целом… Ну, а тут одно только слово понятное: варварами. Здесь у наборщиков, видать, произошло расстройство желудков.
– Врешь, – кричит из угла наборщик Тихомиров, – это не от наборщика зависит. Печатники подкачали. А скорее всего – шрифты разбитые, вроде бабушкиной калошки. Ну, краска – ни к черту. Приправка – тоже видать…
– А ты бы, Бершадский, перевел с английского-то.
– Без словаря? – ужасается Бершадский. – Впрочем, зачем еврею словарь, когда его угощают папироской?
Смеясь, мы протягиваем ему папиросы. Усевшись поудобнее, мы подталкиваем друг друга локтями и от предстоящего удовольствия потираем руки. Десяток спичек услужливо вспыхивает под носом Бершадского, и он, не желая обидеть никого, ухитряется прикурить сразу от десяти спичек.
– Та-ак… Ну, я сразу же и за перевод… Английские буржуа очень недовольны нами. Считая дурным примером для своих рабочих Октябрьскую революцию, буржуи Англии желают… Желают…
Бершадский морщит нос и произносит несколько замысловатых ругательств.
Многие привстают с кроватей.
– Ну и матерщинник!
– Какой человеку дан талант!?
В углу откашливается Волков. Это значит Бершадский настроил его на душевный разговор. Мы повертываемся в сторону Волкова.
– Занятно все-таки, – откашливается Волков, – выходит, что загранице не нравится наша власть. Ну-к что ж. Не нравится – так будем меняться. Которые вот ругают нас письменно – пускай себе приходят в Расею и работают. А что, может, напишем им: дескать, очень вам благодарны за ваши заботы, спасибо, дескать, что вы нам лучшей жизни хотите.
– Ах, суки, суки! – подскакивает к кровати Волков.
Большой, взъерошенный, он трясет огромным кулаком, угрожая невидимому врагу, неизвестным людям, которые где-то далеко за океаном заботятся о нашем счастье.
– Что они знают, – ругается Волков, – как они понимают нас. Варварами нас пишут. Что ж, может, мы и вправду варвары. Но почему ж мы хуже-то их? Ну, ладно! Он там знает разную математику, географию, с тарелки есть приучен, а я не знаю. Ну, а почему же я хужее его? Нет, дорогой человек в манжетах. Не хуже я тебя. И я хочу математику и географию и с тарелки чтобы…
– Им обидно это будет! – кричит наборщик. – Если все будут, как один, над кем же буржую куражиться тогда?
– Никто нас не знает, – вздыхает Волков и ложится на кровать, закидывая руки за голову, – да мы и сами себя не знаем… Помню, был у нас в германскую войну солдат Ковязин. Чистюля, скажу, каких свет не видел. Уж на что паршива окопная жизнь. Хуже скота человек живет. А Ковязину она хоть бы что. Он и бреется каждый день, и чистит себя, и полирует. И в блиндаже чистоту разводит. Прямо – удивление. Да брось ты, говорим. Не могу, отвечает. Люблю я, земляки, когда кругом меня чисто все и прибрано. Такой был солдат: в деревню придем, так он стекла в избе вытрет, во дворе подметет, а то одного разу цельный цветник устроил под окнами. Сам, говорит, не увижу, а вы любуйтесь. Вспоминайте солдата Ковязина. Случилось нам раз в разведке быть. С Ковязиным, значит. Попали мы в фольварк. Дом с колоннами, а в доме ни души. Чистота. Кругом цветы. В дому полы натерты воском. Всюду картины, мебель красивая, ковры огромные. Разбрелись мы тут по комнатам. Ходим и удивляемся: до чего ж это прекрасно живут люди.
Прошло время. Надо, смотрю, и дальше идти. А Ковязина нет. Где Ковязин? Ну, в дому, наверное, остался. Я обратно. Побежал из комнаты в комнату. В одну открываю дверь и присел даже от удивления.
Волков, как опытный рассказчик, в этом месте делает продолжительную паузу, затем садится и ерошит волосы пятерней.
– Гляжу и глазам не верю! Вижу, сидит Ковязин на открытом рояле орлом… Я к нему. Что ты, Митя? Бог с тобой! А глаза у него тихие такие, умные, но строгие. Смотрит он на меня и говорит серьезно: бей, грит, Волков, картины. Ломай, грит, все. Ну, я и давай глянец наводить. Ломаю, а у самого мысли веселые: нате, думаю, стервы! Чувствуйте и вы войну. На шум остальная кобылка ввалилась. И тоже присоединились. Озверели люди. Ефрейтор стоит и как поп руками благословляет:
– Круши, – кричит! – На смерть нас послали, так пусть хоть вещами поплатятся.
Ну и разворотили мы дом начисто. Пришли после нас офицеры и говорят: если, говорят, немецкая это работа, так почему все на месте. А если русская, так какие же сукины дети успели напакостить.
– Ковязин-то после того случая, как? Бросил чистотой заниматься?
– То-то, что нет. Каким был, таким и остался. Только задумываться начал, а вскоре и дезертировал.
– А ты?
– И я дезертировал. Дурак я, что ли, за чужого дядю шею подставлять?
– А как ты думаешь, могут они пойти на нас?
– Они-то? Навряд. Сам буржуй, он этого терпеть не может, где стреляют, а солдат разве пойдет?
– Погонят, так пойдет!
– Э, не те времена, товарищи. Да и сколько войска потребуется, чтобы Расею угомонить. К каждому ведь двух солдат придется поставить. А где они найдут войска такую уйму? Да ведь и с войсками шутить не приходится. Теперь им очень даже просто и штыки повернуть назад. Теперь пример показан.
– А давайте-ка, товарищи, песню. Ну их, буржуев этих самых. Болтают и пускай себе, а придут – наломаем шею. Нас-то ведь вон сколько… Затягивай, кто с краю.
Маслов запевает хриповатым баском:
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах…
Мы подхватываем хором:
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащится с сумой на плечах.
Самые любимые наши песни – это песни сибирских каторжан. О тайге, о кандальниках, о бродягах, пробирающихся в дремучих сибирских лесах, мы можем петь до рассвета.
И когда мы поем, перед глазами встают худые, небритые «политики», спасающиеся от проклятых полицейских собак. Мы рычим, если бежавшего настигают в тайге, и мы ликуем и наши голоса звенят весельем, когда бежавший ускользает из-под носа полиции. Распевая песни, мы наяриваем винтовки до зеркального блеска внутри стволов.
Завтра – стрельба.







