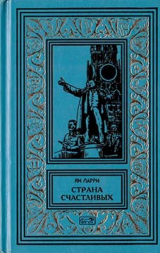
Текст книги "Собрание сочиннений Яна Ларри. Том первый"
Автор книги: Ян Ларри
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
ЗАПИСКИ КОННОАРМЕЙЦА
Посвящение
Эту книгу борьбы за социалистический мир товарищу Николаю Николаевичу Глебову-Путиловскому, слесарю, члену Петербургского совета рабочих депутатов 1905 года.
Автор
Глава I
Во дворе зовут меня Язвой. А дворничиха – женщина большой учености – называет Египетской казнью.
Худая и высокая дворничиха знает все на свете. Когда-то в молодости она служила кухаркой у немца-фабриканта и там набралась разной мудрости. Дворничиху во дворе уважают и к ней почтительно прислушиваются.
Но бывает и так, что кто-нибудь, пьяный, начинает куражиться:
– Бро-о-ось! Заливаешь ты это, Митревна!
Дворничиха смотрит тогда с усмешечкой и покачивает головой:
– Ах, шлехт, шлехт. Их зее думков зер!
И ошеломленный непонятными словами пьяный умолкает.
…По вечерам, когда печальные синие сумерки тихо обволакивают двор, когда до получки остается несколько дней и по этому случаю во дворе не видно пьяных и люди тоскливо слоняются по двору, дворничиха садится под окном темной дворницкой, держа в растопыренных руках недовязанный чулок. Шевеля неспешно спицами, она исподлобья осматривает двор, а заметив людей во дворе, печально вздыхает и начинает щунять сапожника Евдоху.
– Какой ты есть человек? – говорит она, вытягивая губы.
– А такой! – мрачно отвечает Евдоха. – И с руками, и с ногами, и с телячьей головой.
Дворничиха тяжело вздыхает.
– А ты не дыши, Митревна! Дышать это даже бесполезно. Дала бы лучше двугривенный! А? Нет, право слово, – оживляется Евдоха, – двугривенный что? Глупость, конечно! А человеку – облегчение.
– Пустой ты человек, Евдоха! – скорбно качает головой дворничиха. – Думков, как говорят немцы!
– Немцы не пример, – солидно откашливается Евдоха, – немец размаху не имеет. Хотя, конечно, хитрый народ. Это безусловно. Но только немцы, они без души. Пар у них заместо души.
– А у тебя? Дух винный?
– У меня-то? У меня, Митревна, православная душа под жилеткой!
– Пьяница ты, Евдоха!
Подходят скучающие люди. Евдоху обступают со всех сторон. Он подмигивает и, как бы призывая всех в свидетели, говорит значительно:
– Если насчет выпивки, так тут понимать надо.
– И понимать нечего! – усмехается дворничиха.
– Нет, дозвольте… Я пью! Не отрицаю. Однако кто может мне пальцем ткнуть: вот-де, идет Евдоха пьяница! Никто мне не ткнет. Пьяница, это который у монопольки валяется.
– Справедливо говорит! – поддерживает Евдоху взлохмаченный жестянщик Николай. – Пьяница проспится, а дурак это уж извините. С давних времен замечено. – И добавляет строго: – Мастеровому человеку никак невозможно без выпивки.
– Во! – обрадованно подхватывает Евдоха. – В точку! Да ежели нашему брату не пить, так и свет в овчинку покажется. Да мне жизнь она не в жизнь, ежели шкалика не пропущу… Грудью я маюсь. Неделю не попью – задышка вяжется. Вот и не пей тут!
Дворничиха подбирает скатившийся с колен клубок шерсти. Лицо становится красным. Она смотрит на всех и певуче говорит:
– Необразованность мучает тебя, Евдоха! Жила я вот у немцев, так насмотрелась этой образованной жизни. По-нашему взять хотя бы фрукт какой-нибудь. У нас называется яблоко, а по-ихнему «апфиль». По-нашему лошадь, по-ихнему – ферт. Ты вот скажешь: «дайте мне водки», а у немца – «гибин зи шнайпс».
– Чудеса! – подхалимничает Евдоха.
– По-нашему – ребенок, у них – кнабе. Стакан – гляс, а вода – ватер.
– Как же в таком разе сортир по-ихнему? – спрашивает жестянщик под общий хохот.
Дворничиха сердито хмурится:
– Таких кабловских слов на немецком языке нет. Спать по-ихнему – шлафен, хлеб – бутер, есть – есен.
– Вроде бы и с нашим схоже!
– Окно – фенстер, садиться – зицен.
– А ежели с барышней немецкой насчет того-этого: дескать, нельзя ли с вами любовь вертеть?
– По-немецкому это будет: их либе дих, метхен.
– У, дьявол! – качает головой Евдоха. – Непременно за немкой приударю. У нас, пока бабу обходишь, – все что знаешь ей выложишь, а тут просто как: их лыби, мадамочка – и вся тут! Ну и народ!
– Печь – офен, пить – тринкен!
– Боже ж мой, – умиляется Евдоха, – и до чего это ты, Митревна, разбираешься во всем. Чистая немка, прости господи!
Дворничиха опускает скромно глаза.
– А интересно, как по-ихнему: «я тебе дам в морду»?
– Нейн, – качает головой дворничиха, – у немцев этого в заведении нет. У них только вежливые слова, ну и для обихода, конечно! Объясниться там, поджарить что или вообще…
– Механика! – вздыхает Евдоха. – Непонятный такой народ, а тоже, ить, жить хочет. Каких только людей нет на свете?!
– Стол называется тиш, – певуче говорит дворничиха, – а спальня – шляфкамер. Муха, например, флиге. Огонь, если сказать, потух – дас феер варт штиль, а жаркое – братен.
– Постой, – перебивает Евдоха, – как же это ты говоришь: дайте мне?
– Гибинзи!
Евдоха подмигивает слушателям и, выставив ногу вперед, говорит:
– И ну-ка, поймешь ты меня?
Вывертывает кренделем руку и, топнув ногой, скалит зубы:
– Гибин зи двугривенный, Митревна! – изгибается Евдоха и смотрит на дворничиху веселыми глазами.
– А вот и не так! – смеется дворничиха. – Нужно сказать: гибин зи званзиг копейкен, фрау.
– Не с нашим это языком! – кашляет Евдоха. – Такое слово у нас в зубах вязнет!
* * *
Солнечным утром, когда из темных, холодных подвалов выползают оборванные, грязные ребята и заполняют двор веселым гамом, ученая дворничиха выносит венский стул и, стряхнув с сиденья пыль, ставит его под окнами дворницкой. Потом, положив корзину с вязаньем у ног и расправив юбки, она широко расставляет локти; сверкающие иглы приходят в ленивое движенье.
На шум и крик, оглядываясь по сторонам, выходит Вовочка «из верхней квартиры». Он одет в матроску с белым отложным воротничком, с золотыми якорями из отворотах. Лицо Вовочки заспанное, глаза ленивые, нижняя губа шевелится, словно красная улитка.
Я подхожу к нему и спрашиваю:
– Сахар-то ел сегодня?
– Что? – спрашивает Вовочка.
– Сахару много съел?
– Н-нет! Я его не ем!
– Ври больше!
– Я не вру. Врать нехорошо! – пищит Вовочка.
– Та-ак! – говорю я. – А у вас много сахару?
– Много!..
– Ты бы принес мне! А? Чего тебе стоит? Запусти руку и – айда сюда.
– А зачем?
– Фокус я тебе покажу! Булку еще захвати с собой!
Дворничиха прислушивается.
– Ты, казнь Египетская, чего там крутишь? – спрашивает она.
– Ничего я не кручу!
И потихоньку шепчу Вовочке:
– Ты поскорей только, а то мне некогда!
Вовочка уходит и возвращается, держа в растопыренных руках французскую булку и сахар.
– На!
– Сичас будет фокус-покус. Никакого мошенства. Одна ловкость рук.
Засучив рукава, как это делают заправские чародеи и маги, посещающие наш двор с шарманщиками, я высоко поднимаю булку вверх, эффектно ломая ее над головою пополам.
– Гляди хорошенько! Ейн! Цвей! Дрей!
Я делаю зверское лицо и, чавкая и жмурясь, начинаю торопливо есть.
Вовочка вежливо смотрит мне в рот, ожидая чуда, но в это время подкрадывается дворничиха и хватает у меня из рук булку.
– Ты что же это, Казнь ты египетская? Выманиваньем занимаешься?
– А тебе жалко?
Не удостоив меня ответом, дворничиха уходит, уводя Вовочку за руку.
– Какой сачок, однако? – кричит дворничиха во весь двор.
Я стою, медленно разжевывая оставшийся во рту кусок сладкой, чудесной булки, стараясь как можно дольше продлить удовольствие. Визгливый голос дворничихи, вырывающийся из открытых окон квартиры Вовочки, выводит меня из раздумья.
Я начинаю прислушиваться.
– А я за ним полчаса наблюдаю, – захлебывается дворничиха. – Как он подошел еще, я сразу сообразила, что дело тут неладное. Чего, думаю, надо ему от вашего мальчика? Конечно, ваш Вовочка воспитанный мальчик. Я всегда любуюсь им, как он выходит. Тихий такой, скромный. Сразу видно порядочных родителей. А тот-то около него вьется. И с этой-то стороны зайдет и с той-то заглянет. А ваш – прямо прелесть, стоит как губернатор, да так-то вот смотрит спокойно. Булку он уж отъесть успел, обормот…
* * *
Во дворе дворничиха глаз с меня не спускает. Стоит мне подойти к чистому мальчику «сверху», как она уже беспокойно и подозрительно следит за мной.
И мне приходится «работать» осторожно.
Нарядные дети тянут меня с непреодолимой силой. Каждый из них представляет величайшую ценность, а Сева – сын черной и худой барыни с занятными усиками – прямо передвижной фантастический клад. Если око дворничихи не следит за мной, предаюсь безумному пиршеству, глотая принесенные Севой котлеты, пироги, булки, а иногда даже куски настоящего пирожного.
Но последнее время судьба не улыбается мне. Я хожу с булькающими, поющими кишками, бесплодно размышляя о том, как бы набить свой живот.
Попытки урвать кусок хлеба дома предупреждаются матерью.
Каждый раз она ловит меня в самый последний захватывающий момент, когда, откромсав кусок хлеба, я пытаюсь засунуть его под рубашку.
– Опять таскаешь? Прорва ты чертова! Целыми бы днями он ел! И куда только лезет в тебя, шкилета?!
– Дык… кусочек же! – ною я, стараясь разжалобить мать.
– Я те дам кусочек!.. Сядешь обедать и ешь, а так таскать не дозволю! Пошел! Нечего тут проедаться! Наказанье, а не ребенок!
Но что обед? Во-первых, до обеда еще целая вечность, а во-вторых, и обед-то не очень успокаивает. После жидкого картофельного варева, кислых огурцов да капусты у меня только-только разыгрывается аппетит. После обеда я начинаю особенно энергично разыскивать пищу.
Я кружусь по двору, зорко всматриваясь в мутные пасти черных лестниц, и, как только в темноте замечаю «верхних», я, точно коршун, делаю широкие круги, постепенно приближаясь к мальчикам-кладовкам.
Зацепившись за трубу, я рассматриваю верхних мальчиков издали, затем завожу разговор.
– Вы никогда не чешетесь, Сережа? – вежливо спрашиваю я румяного мальчика.
Он исподлобья смотрит на меня, не понимая, чего от него хотят. Тогда я ставлю вопрос ребром:
– У вас, значит, не водится вошей?
Мальчик молчит. Я начинаю беспокоиться, не испорчено ли дело, и тотчас же подвожу разговор к его ближайшей цели.
– Вы, Сережа, не можете принести две булки?.. Можно хотя одну, конечно! – торопливо добавляю я.
Мальчик сопит.
– Если принесешь, – перехожу я на «ты», – можешь гулять по двору, где хочешь. Я тебя не трону. Вот лопни мои глаза.
Но, увы! Я слышу за спиной подкрадывающиеся шаги дворничихи.
– Египетская казнь, ты чего опять придумал?
Я отскакиваю в сторону. Дворничиха поднимает голову вверх.
– Мадам, Нина Николаевна! – кричит мой враг.
Глава II
Я не одинок. Таких, как я, – вечно голодных ребят – во дворе около двух десятков. У каждого из нас свои приемы добычи булок от «верхних» мальчиков и у каждого свои враги.
Мы честно поделили между собой румяных Вовочек, Сережей и Тосиков и работаем, не вторгаясь в чужие районы. Но враги наши действуют против нас сообща.
Из форточек наблюдают за нами няньки, мамаши счастливых мальчиков, кухарки, горничные, а во дворе зоркий взор самой дворничихи.
В конце концов мы сдаемся. Борьба не по силам. Мы переносим свою деятельность за пределы двора. Точно стая голодных волков, мы шныряем по базарам, болтаемся на вокзале, торчим в садах. Подносим вещи пассажирам, нанимаем извозчиков, бегаем за папиросами, исполняем тысячи поручений, нередко возвращаясь домой настоящими богачами, с карманами, в которых позванивают медяки.
Особенно удачные дни выпадают на нашу долю в загородном саду.
Я скоро полюбил ночной, с темными сводами, прохладный сад, полюбил шум его ресторана, веселую музыку и сладкое дыханье цветов. Прижимаясь к деревьям, мы каждый вечер пробирались к огням и шуму, рассматривая богато одетых людей.
Веселые люди кричат, поют, размахивают руками. Звенят ножи, посуда, хлопают пробки толстых бутылок.
Сквозь темную листву виднеются звезды. Матовые электрические шары висят над белыми скатертями столов. Ночные бабочки кружатся в теплом свете.
Кто-нибудь из этих веселых людей замечал нас, подзывал к себе.
Мы входим в освещенный круг и, встав спинами к деревьям, стоим, ожидая счастья.
И оно нередко протягивало нам руку.
– Эй, мальчик! Заработать хочешь?
– Хочу!
– Город знаешь?
– Знаю!
– Слетай на Николаевскую! Есть там дом номер три, квартира восемнадцать. Спросишь господина Запольского. И передай ты ему, эфиоп мазанный, что его ждет здесь Николай Николаевич! Будет он или не будет – возьми записку. Одна нога здесь – другая там. Придешь через полчаса – гривенник. Понял?
– Понял!
– Марш!
Давали и другие поручения.
– Эй, малец! Смотри сюда!
Человек за столом тянулся в сторону полуосвещенной аллеи, где густо переливалась толпа и красные огоньки папирос плавали в воздухе.
– Видишь этих барышень в зеленом? Вот, вот, сюда поверни голову. На одной шляпа с пером. Видишь?
– Вижу!
– Вот, передай записку. Не той, что с пером, а которая рядом!
Ночью мы возвращаемся домой. Утром ватагой идем на базар, покупаем калачи, копченую воблу, квас, папирос, пряников и на задах, на пустыре, устраиваем пир и, пресыщенные до боли в животе, засыпаем.
* * *
Однажды вечером меня подозвали к столу, за которым сидело много веселых людей. Один из них, видимо чиновник – худой и черный, как цыган, – долго смотрел на меня круглыми желтыми глазами и, наконец, спросил:
– Ты кутилкин?
Сидевшие за столом захохотали.
– Что ж молчишь?
– Как прикажете! – ответил я, не понимая черного.
– Смирный, значит? – снял чиновничью фуражку черный. – Ну, ну!
Отвалившись на стул и ковыряя зубочисткой во рту, он спросил у меня:
– Ты насчет того, чтобы кутнуть в приятной компании… Не прочь?
– Я на все согласен! – продыхнул я, думая разжиться у стола гривенником.
– Ловкач ты, брат, я вижу! – оскалился черный. – А ну, иди-ка ближе!
Черный повел рукой над столом.
– Вот это, – показал он на половину съеденной птицы, – ты съел бы?
У меня за щеками хлюпнули слюни.
– Съел бы! – чуть не закричал я от счастья.
– Тише, тише! – остановил меня черный. – А вот это? Палец повис над коробкой с маленькими золотистыми рыбками.
– Съел бы! – зажмурился я.
– А это?
– И это съел бы!
– А это?
– Съел бы!
Я следил за пальцем черного, показывающего на разные незнакомые мне, но, очевидно, вкусные кушанья, стучал зубами, ожидая знака, чтобы кинуться и проглотить все это.
Но черный не торопился.
– А вот это?
– Съел бы, дяденька! – со стоном вырвалось у меня. Черный замолчал. Я стоял, глотая обильные слюни, не смея шевелиться, боясь резким движением рассердить доброго дяденьку.
Черный зевнул.
– Что ж ты стоишь?
Я понял вопрос как приглашение взять со стола все, что мне нравится, но, не веря тому, стоял не двигаясь, не шевелясь.
– Что ж ты стоишь, мальчик? – снова спросил черный, зевая. – Постоял немного – и ступай себе с богом! Ну, иди, иди, мальчик! – Он сдвинул сердито брови. – Пошел прочь, каналья! Иди, пока официанта не позвал!
Сидевшие с ним за столом хохотали. Обида обожгла мои глаза и прошла через них солеными, тяжелыми каплями слез.
– Гого-оль? – икнул сосед черного и, приподняв взлохмаченную тяжелую голову, крикнул пьяно: – А гоголь-моголь? Что-о-о?
– Так не годится! – сказал толстый человек с большими усами. – Раз угощать, так угощать как следует. Видишь, малый на все изъявил аппетит, стало быть, ему всего и дать надо.
– Ты не бойся, малец! – сказал толстяк. – Мы это устроим в два счета.
Он взял стакан и стал наливать в него понемногу из разных бутылок, затем, помешав ложечкой и насыпав чего-то из баночки, протянул его мне:
– Хвати, молодец! Хвати да закуси. Да чтобы капли не оставлять в стакане, не то, смотри, серчать буду!
Не смея благодарить добряка, я поднес стакан к губам и, не переводя дыханья, осушил его.
Стакан со звоном покатился, подпрыгивая, по земле.
* * *
Я тащился домой, хватаясь за заборы.
Улицы вертелись перед глазами. Рвота разрывала меня на части.
…Две недели я пролежал в горячечном бреду. Когда же встал, я был похож на зеленого старика.
Глава III
Мне – двенадцать лет.
Отца уволили с завода за кражу. С утра до ночи он грызется с матерью, обсуждая случившееся.
– Польстился? – ворчит мать.
– Дура, – убежденно говорит отец, – если я мастеровой, так можно мне быть без шабера? Как по-твоему? А если мне граш[30]30
Шабер – слесарный инструмент, которым пользуются для снятия граша (следы пилы).
[Закрыть] надо снять? Пальцем я сниму?
– Вот теперь и снимай! Польстился на что?! А?
– Много ты понимаешь!
– Тьфу! – плюется мать.
– Плевать это что? Этим ничего не докажешь! – спокойно говорит отец. – А только не в шабере дело. И черт его знает, как все это неладно как-то вышло! Тиски пронес, клупп вынес, микрометр взял, французский ключ, пилы и вот – на тебе. На шабере – запятая получилась. Надо бы, безусловно, во дворе было бросить. Не везет дьявол! Прямо это удивительно!
– Поступи вот теперь! – ругается мать.
– Не в том дело! – скребет пятерней волосатую грудь отец. – Поступить что? Надо будет, так поступим!
– Поступишь ты?!. Кто тебя примет теперь? Пушкин?
– Да не принимай! Вот испугался! Эх, дура-баба! И правду говорят – волос длинен… Так по-твоему выходит: с озорства уворовал я?
Мать молчит.
– Нет, скажи, – настаивает отец, – значит, как же это? Жиган я, по-твоему? Всамомделишный вор!?
Мать молчит.
– Понимаешь ты сисю, да и то не всю… Значит, возить воду на воеводу расчет мне, по-твоему? Что я есть за человек? Анчутка! Гнешь, гнешь спину, а какой толк?
– Теперь будет толк! – ехидно вставляет мать.
– Не бойсь! Мы не пропадем! Не таковские!

* * *
Вечером приходят дядя Вася и Финогенов.
– Ну, как? – спрашивает Финогенов.
– Да, никак! – смеется отец. – У меня, брат, теперь полная мастерская. Тиски бы посмотрел какие!
– Неужто и тиски спер?
– А что? В зубы буду смотреть? У меня, брат, и метчики, и плашки, и сверла, и клуппик, и ножовки. Все честь честью. А что ребята говорят? Не осуждают?
Дядя Вася цвиркает слюной в угол.
– Жалеют ребята. Знатье бы дело – мигнул бы. Помогли бы затырить.
– Не смотрят, как на правдошнего вора? – беспокоится отец.
– А, брось ты! – машет руками Финогенов. – Не понимаем мы или как?
– А баба моя не понимает, – со вздохом говорит отец.
Мать молчит.
Обращаясь к товарищам и как бы призывая их в свидетели, отец говорит:
– Я теперь вольная птица. Сам на себя буду работать. Может, и меньше заработаю, однако сам хозяин. Не буду шапку ломать… А что, Вась, собрать бы это нам инструмент подходящий, да людей подобрать бы, да по ремонту? А? Толково говорю?
– Строгости теперь у нас после твоей оказии.
– Ну, а купить бы если…
– Что ж ты не покупал?
– Это верно! – смущенно соглашается отец. – Купило-то у нас притупило. Хотя, – в раздумье говорит он, – по гривеннику если откладывать каждую неделю…
– Так в старости будет полное обзаведенье! – плюет дядя Вася.
– И то правда! – смеется отец.
* * *
Отец ходит гоголем.
По воскресным дням у нас дымятся на столе мясные щи. Изредка мы пьем чай с теплым и мягким ситным.
– Пошло! Пошло! – хохочет отец. – А ты говорила? Я сказал – не пропадем, значит – вся тут. Испугалась. А это что?
Вытянув над столом широкие, с въевшейся гарью черные руки, отец кричит:
– Золотые! Не руки, а золото! Что хочешь сработаю! Никакая машина не устоит против меня.
Работая по ремонту, отец брал главным образом водопроводные и канализационные работы, но в свободное время занимался всем, что только подвертывалось под руку: исправлял замки, лудил самовары, устанавливал ванны, плотничал, чинил швейные машины, граммофоны и велосипеды, проводил электричество, клал печи, а как-то раз взялся исправить рояль, впрочем, провозившись около рояля несколько дней, отец напился пьяным.
– Ну ж, жизнь проклятая, – бормотал он сквозь пьяные слезы, – кому не надо – палкой гонят, а кому надо – зубом не угрызешь. А дай мне ученье, да я всех инженеров за пояс заткну.
* * *
Старые товарищи по заводу часто заходят к отцу. Они считают его особенным и как будто чего-то ожидают от него.
Отец хвастается, поит всех водкой, туманно говорит о каких-то больших планах.
Однажды Финогенов привел к нам рабочего, который выделялся среди всех своей особенной повадкой. Был он серьезен, неразговорчив и больше прислушивался к тому, что говорили за столом, роняя изредка скупые, ничего не значащие слова.
– Вот человек! – кричал подвыпивший Финогенов, хлопая отца по плечу. – Такой тебе нужен?
– Я такой! – хохотал отец. – Я все могу! Я вот взял да и украл. То меня обкрадали, а тут я их. Вот я какой!
Странный гость строго посмотрел на отца, затем, опустив глаза, сказал тихо:
– Не годится все-таки… Рабочий не должен воровать. Это унижает его.
– Ка-ак? – захлопал глазами отец. – Осуждаешь, стало быть, меня?
– Осуждаю! – тихо сказал гость.
Отец нахмурился. Подумав немного, он спросил:
– За моим столом сидишь и осуждаешь?
Гость, побледнев, медленно поднялся из-за стола, отодвинув с шумом стул.
– Простите, товарищ, но меня невозможно купить. Спасибо вам за угощенье.
Отец растерянно оглянулся по сторонам.
– До свиданья! – сказал гость.
– Ну, нет, – бросился к нему отец, – ты сиди! Ты прости меня. Ну хочешь, я тебя поцелую.
И, не ожидая разрешенья, он троекратно облобызался с бледным, сухим человеком.
– Ну, скажи, здорово я тебя обидел? Ах, курья нога! Да ты сядь! – засуетился отец. – Хочешь, я чайный стакан за твое здоровье?
* * *
Несколько дней после того ходил отец расстроенный, бормоча под нос разные жалкие слова, но вскоре успокоился.
– А ну их! Никому не дано правду знать. Каждый по-своему притворяется. Ну-ка, Ян, собирайся. Пойдем не спеша.
Я работаю вместе с отцом. Мы ходим по квартирам «с ремонтом». Работы много. С утра до вечера мы возимся в клозетах, в ванных и на кухнях, возвращаясь домой испачканными грязью.
Отец приучает меня к делу, объясняя попутно все тонкости трудной и сложной жизни.
– Ты наблюдай, – поучает он меня дорогой, – а сам помалкивай да на ус мотай. Вот возьмем хотя бы сегодняшний случай. Ты вот лезешь и орешь: кожа! А к чему такой крик? Мастеровой должен быть степенным. И без крику! Мастеровой свое дело знает, а они пускай свое знают. Думаешь, я без тебя не вижу, что кожа? Замечательно вижу. Но… Молчу.
Кран течет? Ну и пусть его течет. А почему течет – это дело наше! Починка, безусловно, пустяковая, а ты не подавай виду. Старайся ты показать, будто и сам не понимаешь, в чем загвоздка. Настоящий мастер полчаса должен походить вокруг, поморщиться да головой покачать: дескать, работа хотя и серьезная, но сделать, однако, можно… Быстрый ты очень. Схватился, раз-раз – и готово. Так не годится. Уваженья к своему труду не получишь. Ну, скажут, дело-то такое пустяковое, а он полтину просит.
– Совестно же!..
– Им не совестно, а нам чего? Толстая-то барыня сегодняшняя… Видал? Лежит да книжку читает. А ты гляди, какой вид у нее серьезный. Будто она и в самом деле утруждает себя. Ты молодой, безусловно, а я насмотрелся. Я их вот как знаю. Они что? Дурака они валяют, а со стороны посмотреть, так будто изнуряются работой. Дело важности требует. И цена тебе повышается оттого. Ну и опять же еще хочу тебе сказать: ты вот ручником по рукоятке бьешь, а это никак уж не годится. И пилишь ты, как валеный сапог. При чужих людях я не стану срамить, но только нужно и тебе соображать. Ты силой берешь, а сила тут не нужна… Пилить надо с легким сердцем, играючи. Забыть надо, что работаешь. А ты что делаешь? Ты ее жмешь со всей силой, будто сталь ножовкой садишь.
– Я не жму!
– Жмешь! После тебя рукоятка мокрой становится. Ты ее жмешь, оттого она и качается у тебя. То вверх, то вниз. Что получается из этого? А то, что опиловка круглой становится. Сегодня, опять же, вместо драчевой пилы ты схватил личную. А личная когда употребляется? Когда уж драчевая прошлась как следует. Корку опять же… Сколько раз я тебе говорю, снимай ты, пожалуйста, корку зубилом. Чугун же ведь это. А ты по корке – знай себе садишь. Пила же портится от этого. Меня, брат, как учили? Носом тыкали. Кровью тиски поливал. А у тебя рассеянность большая.
Отец мой разговорчив и словоохотлив. Появляясь на кухне, он на пороге заводит разговор о погоде, а через полчаса рассказывает о своей жизни.
«Господ» отец считает круглыми дураками, а каждая «барыня», в его глазах, «ищет себе мужика».
– Голая у них жизнь! – говорит отец. – Ни богу свечка ни черту кочерга. И для чего только живут люди, – никак не пойму. Жрут целыми днями да пуза наживают.
Одна барыня, для которой мы с отцом ставили теплый ватерклозет, прибегала к нам каждые пять минут. Размахивая широкими рукавами цветного халата с большими букетами, она пыталась лично руководить установкой «вазы», давая отцу советы и указания.
Барыня хотела, очевидно, показать, что ее трудно обмануть в чем-нибудь и что она-то уж ни в коем случае не допустит, чтобы ей подсунули «вазу» с плохим рисунком. Но отец понял ее иначе. Он многозначительно улыбался, крутил убийственный ус, а к вечеру напился допьяна, пел чувствительные песни и говорил матери о какой-то купчихе, которая без него жить не может и готова с радостью пойти за ним на край света.







